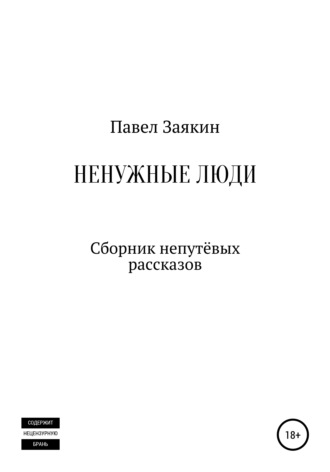
Павел Дмитриевич Заякин
Ненужные люди. Сборник непутевых рассказов
«Ничего не помню из тех времён, как не было ничего. Только ощущение осталось как бы рая – речка, зелёный двор, яблони во дворе с вот такими яблоками огромными, августовскими… А может, это от маминых рассказов осталось? Не знаю. Первое, что помню – это поезд. Огромный такой состав из одинаковых теплушек. Гомон, бабы галдят-плачут, а мне интересно – я ведь столько людей вместе разом никогда не видела. Вон знакомые наши, вон друзья мои-подружки по Карпёнке – как звать, не помню, а лица их помню отлично. Маму и папу помню только по фотографиям, а эти лица – помню…»
Берта Яковлевна затянулась сильно, выпустила дым в лунный свет, невидяще посмотрела сквозь него, будто заглянула в те годы. А может, и вправду заглянула?
«А ещё помню солдатиков. Они стояли вдоль толпы на перроне: цепочкой, с автоматами; такие зелёные, как этот, наш солдат на памятнике в центре села, видели, наверное? Вот и те такие же, зелёные, одинаковые. Вот я и отошла от своих, на них посмотреть. Молодые… А лица у них – никакие. Словно они не на людей смотрят, а на насекомых. Это помню. Помню, как стрелять начали, и все завыли сначала в голос, а потом затихли, прижались к земле, а я смотрю, мне же интересно, как стреляют. А это какой-то офицер в воздух палил, чтобы все успокоились, значит. Тут меня мама нашла, схватила, прижала к себе, а глаза у неё – огромные: испугалась, наверное. Не знаю – может, это тоже не всё я помню, а мешаются мои воспоминания с мамиными рассказами?
Потом ехали в вагоне. Сначала ничего, только в туалет хотелось, и меня в угол относили – после перрона мама меня вообще не оставляла одну, только с ней или с сестрой Фридой, той десять тогда было. В том углу все в туалет ходили в вёдра, а потом – на остановках – выливать выпускали. Фу, какой там запах стоял! Я сейчас думаю, что это не запах мочи был, а запах страха.
Я лежала на каких-то мешках: то, что из дома взять разрешили, наверное. Мешки на полу, а поверх их одеяла, пальто, папин тулуп. Я в самом углу лежала, смотрела в щель, как рельсы бегут, и на соседний вагон, на солдатика с ружьём: знаете, в конце вагона каждого они стояли, да. Из щели еще так сквозняком приятно дуло, а в вагоне жара, крыша нагревается под солнцем, народу набито – кто сидит, кто лежит, а кто у стен дышит, у таких же щелей. Только возле вёдер поганых мало людей.
На остановках хоть двери открывали, легче было дышать, но не выпускали – только дежурных: помои вылить, да за водой сходить. Еду, вроде, давали – мама говорила, – да я этого не помню. Помню точно, что есть и пить хотелось всё время, запах от вёдер помню, лежанку из мешков и эту щель, куда смотрела».
Берта Яковлевна замолчала, пепел сорвался с кончика папиросы, опустился бесшумно на залитый бетоном пол двора, разлетелся. Я тоже молчал, я не ждал такой истории, и мне сказать нечего. Да, я слышал, конечно, о депортации немцев, но всё это было как-то книжно-статистично, наподобие статьи из журнала: типа, сколько жило, сколько переселили, сколько погибло. И вот рядом со мной, бок о бок, сидит живой участник этих событий, пожилая шестидесятилетняя женщина, она же – маленькая девочка Берта, четырёх лет от роду. Действительно, что запомнишь в четыре года? Нужно сильно постараться, чтобы в память врезались воспоминания в таком возрасте…
Моя соседка по лавочке вздохнула судорожно: «Но ещё одна картинка оттуда мне до сих пор снится иногда. Я на своих мешках лежу в уголочке, смотрю в щёлочку, как мы трогаемся со станции какой-то, а вдоль вагона бежит мужик с ведром; из ведра вода плещется, а он бежит – опоздал, наверное. А потом смотрю: а это же дядя Готлиб из нашего вагона! И борода у него такая смешная, на две стороны разметалась, и бежит он смешно – подпрыгивает, запинается, сапоги водой облил. Я смеяться стала, а солдатик из соседнего вагона, на которого я всю дорогу смотрела, тоже засмеялся и ружье с плеча снимает. Дядя Готлиб уже и ведро бросил: бежит, руки тянет к солдатику, а тот, не целясь, почти в упор – бах! – и дядя Готлиб упал, тоже так смешно свалился, как куль… А в вагоне, слышу, кто-то воет, в двери стучит: наверное, тётя Марта, жена его – ну, дяди Готлиба».
Выкуренная папироса исчезла в жестяной банке, морщинистые руки трут одна другую, будто замёрзли, а в лицо я заглядывать боюсь. Боюсь увидеть там что-то нездешнее, из тех времён, вроде смеха той девочки у вагонной щели.
«Долго ехали, но это я уже не помню, мне сестра Фрида рассказывала, что долго. Съели, говорила, почти все запасы, хоть и экономили. Наконец, рано утром двери открыли и стали нас выгонять. Мама меня в охапку схватила, я проснулась и давай орать. Мама мне рот закрывает, чтобы услышать, что говорят, отец с Фридой мешки тащат, солдаты подгоняют, нас всех собирают в большую кучу, и оказывается, нас всего два вагона доехало, а остальные где-то по пути в другие места отправили. «Ужур… Ужур…» – по толпе ползёт непонятное слово, и как доползает, так люди плакать начинают, словно сказали какое заклинание страшное. Мама тоже заплакала и говорит нам с Фридой: «Ужур – это Сибирь…»
Потом нас по подводам развели, мужик там был хмурый такой, неразговорчивый, не помогал мешки грузить с вещами, мама с папой и Фрида их таскали, а меня посадили на телегу. Запах помню этот утренний – конского навоза, креазота от шпал и ещё чего-то – наверное, осени? Уже деревья золотились, когда мы ехали на этой подводе, но было тепло ещё, и я смотрела по сторонам. Господи, как красиво! Дорога то в гору, то с горы, лес кругом, иногда дома начинаются – сёла, наверное, – и опять лес и дорога. Так полдня было. А потом степь пошла с перелесками, тоже жёлтая, выгоревшая, и к закату показались эти скалы, Красные Камни. Небо тёмно-синее, горы уже солнце заслонили на горизонте – красные, трава и деревья – жёлтые кругом, а от реки туман поднимается белый – я такого тут потом никогда не видела, ну а может просто некогда потом было смотреть на всю эту красоту? Нас несколько подвод ехало друг за другом, в селе все разъехались кто куда, ну а нас привезли на окраину села – сейчас там скотомогильник, а раньше дома были. Мужик, что нас вёз на подводе, дядя Вася, к дому подъехал, заселил нас у себя в бане, на огороде. Он себе другую срубил, новую, а в старой нас поселил, всех вчетвером. Так и жили там первую зиму. Отец трубу поправил, печку сложил из плитняка – там до этого «по-чёрному» топилось, всё было в саже; мама и Фрида отскоблили стены, побелили, крышу утеплили, нормально получилось. Отца взяли на моторно-тракторную станцию, он в машинах разбирался, а мама нигде не могла долго работу найти, они до снега ходили с Фридой по степи, собирали кизяк, чтобы им печку топить. Меня часто с собой брали. Я бегала за овечками, а они в мешки навоз набирали, потом солому, всё это месили вместе и сушили, если дождя не было, под солнцем. И в тележке домой привозили, складывали под навес. Меня сверху везли, на этом кизяке. Едем по деревне, а мальчишки камни кидают и кричат вслед: «Фашисты идут! Фашисты! Готовьте гранаты!»
Рука Берты Яковлевны дёрнулась к голове, прошлась по редким волосам, седина засеребрилась под луной. «Вот так я и получила своё первое ранение, в битве под Красными Камнями», – усмехнулась она. – «Шрама уже нет, а голова помнит. Мама тогда меня прикрыла, рану зажала и бежать к дому, а Фрида тележку с кизяком потащила, ей тоже досталось здорово!» – «Сколько же вы пережили, Берта Яковлевна! Да ещё совсем ребенком!» – «Это цветочки были», – устало произнесла она и опять потёрла ладони друг об дружку шершаво. – «Как у немцев говорят: «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg» – «Где есть воля, там есть и путь», а у нас не было ни воли, ни пути. Были мы кто? Фашисты. Диверсанты и шпионы, как о нас писали тогда. Ну, я-то не понимала этого, слушала только разговоры с открытым ртом. Фрида большая уже была, одиннадцать почти лет, ей и прилетало от местных девчонок и мальчишек больше, а меня почти не трогали. Так, догонят, повалят, потыкают лицом в навоз; я плачу, а они смеются… Ладно, пастор, хватит на ночь историй, спать пора. Простите старую дуру за эти рассказы – кому они нужны, кроме нас?»
Я взял её за руку осторожно, как хрупкую фарфоровую чашку; рука лёгкая и холодная, наверное, что-то с сосудами. «Берта Яковлевна, спасибо вам за рассказ. Может, Бог даст, расскажете продолжение ещё когда?» – «А вы заезжайте, пастор. Не оставляйте нас, стариков, навещайте. Может, наконец, и Abendmahl61 нам дадите, у нас ведь очень давно не было вечери. Ну всё, Gute Nacht62, пастор».
И она похромала во времянку, забрав свою руку из моей, как будто разомкнула цепь, и на меня навалилась вдруг усталость, и я тоже побрёл к своей перине и, утопая в ней, провалился в сон, где мелькали шпалы сквозь узкую щель и человек, бегущий с ведром, упал под градом пуль и встал и снова побежал за удаляющимся поездом…
4.
Наезжали мы с того времени в Красные Камни не часто, но регулярно: то на Рождество, то в Пасхальные дни, то на другие праздники. Я служил Abendmahl, дети выступали: то сценки показывали, то песни пели – в общем, связь была. Единственное, чего не было – это времени поговорить с Бертой Яковлевной с глазу на глаз, услышать продолжение истории её жизни. Каждый раз, когда ехал, думал: ну вот, найду возможность – посидим, поговорим; ан нет, не выходило никак. И за годы я видел, как старела община, исчезали бабушки – кого забирали внуки, обустроившиеся в Германии, кого уносили на кладбище; видел, как сгибался под весом лет Генрих–Андрей, и как ссыхалась, становясь всё меньше, Берта Яковлевна. Зато Коля рос, от приезда к приезду вытягиваясь в подростка-акселерата.
В тот год – кажется, в две тысяче первом, – когда мы решили провести детский лагерь на карьерах у Красных Камней, Коле было уже шестнадцать, и он провёл с нами в тот год всю смену. Здоровый, крепкий парень, белобрысый, совсем не похожий на того шкета, что встретил я однажды у моста на речке Белой, он-то и вытянул бабушку Берту к нашему лагерному костру. Это был последний костёр, назавтра нам предстояло уезжать: кому в Шахты, кому в Абалаково, где я уже к тому времени служил, кому в Новосибирск. Шутки и песни мешались со слезами, как это водится во всех подростковых лагерях, потом все расползлись по палаткам спать, а мы остались сидеть у костра – Коля, я и Берта Яковлевна, которую я должен был отвезти домой на машине. Я открыл было рот, чтобы предложить ей собираться, как она сказала, не отрывая взгляда от огня: «Хорошо тут у вас. Давайте ещё посидим немного? Я тут вот так, безо всяких дел, в последний раз была в его возрасте», – и она кивает в сторону Коли. Я соглашаюсь и тоже смотрю на огонь. Он пляшет синими сполохами, иногда посылая в черное небе, усыпанное звёздам, снопы искр, словно пытается добавить на тёмном бархате ещё огня. Он, костёр, словно живой, словно четвертый наш участник, рассказывающий свою историю на своём языке. Мы молчим и слушаем костёр, а потом я говорю: «Берта Яковлевна, а что было дальше? Помните, вы начинали как-то рассказывать о себе. Вас привезли сюда и поселили в старой бане, которую вы превратили в свой дом. А дальше?» Она вздыхает, всматривается в меня, потом смотрит на Колю. Тот заинтересованно придвигается на бревне, обнимает колени, басит: «Баб, расскажи?»
«… Баня дала нам выжить в ту зиму – самую тяжелую зиму сорок первого. Холодно было сильно, мы не привыкли к такой зиме, а вот снегу совсем мало было. Овец совхозных пастись выгоняли всю зиму, они ходили по степи и копытили, сено на корню подъедали. А мы кизяка заготовили много и дров тоже, и папа паёк получал, худо-бедно жили: в тепле, в этой самой баньке. Вечерами мама забиралась на наш с Фридой топчан, прямо напротив печки, которую папа сложил из плитняка местного и обломков кирпича, и рассказывала нам истории на нашем языке. Когда сказки, а когда из Евангелия – всё у меня перемешалось. То Гретель и Гензель прячутся в пряничном домике в тёмном лесу, то четвёртый мудрец, отбившийся от трёх других, тридцать лет ищет Иисуса, чтобы Ему поклониться, а мы слушаем все – даже папа – и на огонь сморим, как кизяки горят. Так и перезимовали. Рождество отметили тихо, мама песни пела вполголоса, и отец даже подпевал, на Пасху осмелели настолько, что собрались вместе, во дворе у тётки Марты – той самой, у которой дядю Готлиба тогда, в дороге… Ну, все наши, кто зиму пережил и в Красные Камни был определён на поселение. А сколько нас было? Человек двадцать, наверное, если с детьми считать. Марта тогда жила на самом краю села, в завалюшке, домике брошенном. Отец ещё осенью приходил помогать ей этот домик к зиме подготовить. Стена там ещё одна была совсем кривая, так наши мужики брёвнами её подпёрли, чтоб не упала, и когда ветер был, она, стена эта, шевелилась и скрипела, будто плакала. Вот у тётки Марты, на отшибе, и собрались на Пасху сорок второго, да…»
Берта Яковлевна умолкла, глядя в огонь и улыбаясь. Коля шевельнул палкой дрова, те затрещали, стрельнули искрами в небо, и наша рассказчица встрепенулась, продолжила.
«Тётка Марта придумала, что у неё день рождения, вот и позвала всех. А когда собрались, достала невесть как сохранившийся песенник с молитвами. После службы строго наказала всем, чтоб никому не говорили, а если надо кого отпеть или крестить, то она готова это делать, потому что кому-то же надо? Все тогда разошлись счастливые, будто дома побывали, да…
Да только счастье наше, нойманновское, длилось недолго. Только мы в баньке обустроились и перезимовали, как хозяин, дядя Вася, выгнал нас оттуда, аккурат после Пасхи. Бумагу принёс от коменданта, у которого все мы отмечались раз в неделю, что нам надел земли даётся на окраине: всё, мол, идите и там стройтесь. Отец в комендатуру бросился, а там руками разводят, говорят: приказ такой – селить отдельно. И снова всё лето ушло на труды. Отец ведь ещё и на станции работал, а по вечерам землянку копали, одну на двоих с семьёй дяди Отто. Мы с Фридой кизяк сушили, мама устроилась на пилораму и оттуда приносила обрезки досок всякие – вместо зарплаты – так за лето и построились, кое-как успели до холодов. Печку такую же сложили, как в бане, даже лучше; отец говорил, что печка в доме – главное, особенно, если в Сибири живёшь.
Только справили новоселье, только мама договорилась, чтобы Фрида в школу начала ходить, как грянула мобилизация – всех мужчин-немцев обязали явиться на призывные пункты с вещами. Помню этот октябрь очень хорошо: холодно было и дождливо, на входе в нашу землянку лужа образовалась, отец принёс большой камень, положил его в эту лужу; это, сказал, последнее, что я могу сделать для вас, завтра меня увозят в «трудовую армию». Мама в слёзы: «Какая армия? Мы же немцы, нам в армию нельзя!» Отец говорит: «Это воевать нам нельзя. А работать можно и нужно, чтобы Гитлера разбить. Собери мне, Фрида, вещмешок, а продуктов не надо: продукты вам нужнее, а я как-нибудь прокормлюсь».
Утром рано я проснулась в полумраке – кто-то меня целует и щетиной колет; испугалась, заплакала, а голос в темноте смеётся: «Доченька, это я, папа. Я ухожу на фронт трудовой. Это ненадолго, вот скоро война кончится, и я вернусь». И прижимает меня к себе крепко, а я носом уткнулась в его фуфайку, и слёзы текут у меня по щекам… Я этот запах старой фуфайки отцовской помню до сих пор – лицо его забыла, а запах помню. Кажется, сейчас закрою глаза – и вот он, рядом. Я ведь его с тех пор больше и не видела, не вернулся он с того «трудового фронта»».
Туман прибил дым к поляне, где мы сидели у костра, защипал в глазах у всех троих. Берта Яковлевна и не скрывала слёз, всё смотрела в угли, словно они подсказывали ей ту далёкую историю про семью Нойманнов, обычную семью советских немцев, которым посчастливилось жить в самой лучшей стране мира. Слёзы текли по морщинистым щекам, а голос оставался прежним – ровным, сильным, уверенным. Голос хрониста, диктующего своему помощнику рассказ о событиях. Вот тогда я впервые подумал: как жаль, что я не записываю эту историю на диктофон.
«…Отца забрали на строительство железной дороги в район Сталинска, так тогда назывался Новокузнецк. Мы радовались, что недалеко, что, может быть, будут отпускать его иногда домой, но от него пришло только два письма, где он писал, что живут они в лагере, за колючей проволокой, в бараках и под охраной, и что работа каторжная. В общем, он прощался, но только мы тогда не поняли этого. А спустя три месяца, в самый разгул январских холодов сорок третьего, мобилизовали и маму. Тогда оставляли только тех, у кого детям было до трёх лет, а у нас таких в селе не было. Так что забрали всех, кроме совсем старых и таких, как мы. На маму смотреть было страшно, когда она собиралась на сборный пункт в Сырах: она и так худая была, а тут и вовсе истаяла. Почернела, круги под глазами страшные. Фрида маму обнимает, успокаивает. Ты, говорит, не бойся, мамочка, я за Бертой присмотрю. И бабушка Эмма, мама дяди Отто, за нами будет смотреть, мы же в одной землянке живём, а там и вы придёте с папой. Мама гладит Фриду и меня по голове и повторяет: «Я обязательно вернусь, девочки, я вам обещаю. Обязательно вернусь, ждите…»»
Снова пауза. Даже хронисты, бесстрастно пишущие историю народа, хотят иногда перевести дыхание. Хроника семьи Нойманнов глазами четырёх-, а потом пяти- и шестилетней девочки Берты спустя столько лет звучала у костра в затихшем детском лагере, и темнота, что окружала наш костёр, казалась нам темнотой той землянки, где оставались вдвоём две маленькие девочки. Одни на всём свете. Без мамы и папы. Посреди огромной стылой зимней Сибири.
«Мама сдержала своё обещание, она вернулась. Спустя год, в феврале сорок четвёртого, она ввалилась в нашу землянку – незнакомая, в кирзовых сапогах, в рваных ватных штанах и фуфайке, с огромным животом, только глаза на лице были её, мамины. Мы с Фридой сразу облапили её, а она стояла посреди комнаты, гладила нас по головам и только повторяла: «Девочки мои… Девочки мои…», а с её безобразных сапог таял снег и стекал по утоптанному земляному полу к жарко горящей печке с кизяками, и бурая её одежда воняла креазотом.
Мама тоже была на строительстве железной дороги, но её определили в рабочую колонну наркомата путей сообщения; их не селили в ограждённой зоне, как папу, который работал в колонне от НКВД, но расквартировывали по местным, по нескольку человек, иногда давали выходные даже, и в эти редкие дни она пыталась найти отца. Писала письма по инстанциям, даже ездила в Сталинск, от которого жила совсем недалеко, но – ничего. Глухая стена. И отец молчал, не отвечал на письма ни ей, ни нам. Мама работала на пилораме, как и здесь до этого, на пропитке шпал, и этот запах пропитал не только её одежду, но, кажется, всю её насквозь – и волосы, и кожа: всё пахло креазотом. Вечером мы нагрели воды и налили полную ванну, которую попросили у дяди Васи по старой памяти, и мама с трудом залезла туда со своим здоровенным беременным животом, и мы с Фридой тёрли её вехоткой, пытаясь отмыть этот страшный запах, а мама, согнувшись в три погибели в этой маленькой ванне, молча плакала. И это было хуже всего – её покорное безвольное тело и тихие слёзы на впалых худых щеках.
Мы ничего не спрашивали у мамы о беременности, но потом Фрида подслушала разговор с бабушкой Эммой на её половине и рассказала мне, что маму отпустили с «трудармии» только потому, что обнаружилась, что она ждёт ребёнка, и срок уже такой, что работать ей нельзя. Про отца ребёнка все молчали и мне запретили спрашивать, а мне это было непонятно: как это – у нас будет братик или сестричка, а папы нет и нет? Мне ведь тогда было семь лет, и я ещё не понимала, что женщина-немка бесправна вдвойне…
Маму взяли на прежнюю работу, ведь надо было как-то жить и получать паёк, и в марте, на распиловке, у неё начались схватки. Её повезли в соседнее село, где был фельдшерский пункт, но фельдшера не было на месте, она уехала в район по делам. Помощник фельдшера не справился с родами, и мама истекла кровью и умерла. Умер и ребенок при родах, девочка. Их привезли на следующий день обратно к нам в землянку, и бабушка Эмма выгнала меня на свою половину, а они с Фридой и тёткой Мартой, которую в «трудармию» почему-то не взяли, снова, уже втроём, мыли маму и малышку в той же ванне дяди Васи. Потом позвали меня, ещё бабушек, что оставались в селе. Мама лежала на нашем топчане босая и такая красивая, в своём единственном белом платье, что она привезла с Поволжья, а девочка тоже была вся в белом и лежала у мамы на груди, и они выглядели так, будто спали. Тётка Марта сказала, что обычно так не делают и имена детям дают при крещении, но лучше, если у девочки будет имя, и пусть она будет Рената. Все старухи закивали согласно, а Марта продолжала говорить что-то про венчание и про Христовых невест, и я совсем запуталась, и Фрида, наклонившись, объяснила мне на ухо, что есть такой старый обряд, называется «венчание покойников». Обычно он служится по умершим девочкам, но Марта хочет, чтобы этот обряд был проведён и для нашей мамы. Тут Марта запела какой-то гимн, и старухи подхватили, и это была радостная песня, и так страшно было видеть улыбки на лицах старух, что я заплакала и убежала на другую половину, к бабе Эмме, и там, накрыв голову её подушкой, я всё равно слышала эти песни и молитвы на своём родном языке, и слушая, повторяла их: сначала про себя, а потом и вслух, прощаясь с мамой и с маленькой сестричкой Ренатой…»
… Я вёз Берту Яковлевну и Колю домой, и мы молчали. Что было сказать после всего сказанного? Только когда заскрипели тормоза возле дома, Коля выскочил первый, открыл дверцу машины и сказал: «Баб, давай руку, я помогу», и я понял: он, как и я, слышал эту историю впервые, и она его ошеломила не меньше моего, и он не знал, как это выразить.
Я тоже вышел, обнял Берту Яковлевну осторожно и сказал, прощаясь: «Спасибо вам!». Она встрепенулась, улыбнулась в свете фонаря: «За что же?» – «За ваш рассказ. За то, что помните и делитесь. За доверие». Она тронула меня у калитки: «У нас у каждого здесь в общине такие свои истории, как у Иова. И вам спасибо, что слушаете. И за внука спасибо. Не забывайте нас. Приезжайте!» И исчезла в темноте двора, как её и не бывало.
5.
История девочки Берты из Красных Камней, возможно, так и осталась бы незаконченной, если бы не смерть старосты общины, Генриха Генриховича. Я давно уже не бывал в Красных Камнях – с тех пор как общину начал посещать пастор из Германии, живший в Енисейске. Спорить о правах на общину было глупо и как-то даже подло, словно люди были товаром или разменной монетой церквей разных юрисдикций, я просто уступил. И поэтому, когда мне однажды позвонил этот самый енисейский пастор Бремер и спросил, помню ли я краснокаменскую общину, я удивился. «Ну да, – сказал я, – конечно, помню. Вы лет пять назад попросили меня туда больше не ездить». Он помолчал немного, потом сказал: «Там умер староста, Генрих. Но я никак не могу там быть на погребении, я в отъезде. Можете приехать на похороны? Они сами споют, вы только скажите молитву и слово. Можете?»
Так летом две тысячи восьмого я снова оказался в Красных Камнях, в той же времянке, где до сих пор собиралась община. Гроб стоял на том самом столе, вокруг которого все собирались молиться, петь и пить чай. Генрих Генрихович, ещё более огромный, чем раньше, лежал там, со сложенными на груди ручищами. Я вспомнил, как он при первой наше встрече осторожно пожал мне ладонь, и сглотнул комок.
Бабушки собрались ко времени. Кого-то не было уже в живых, кого увезли дети в Германию, но те, что пришли, казалось, не изменились вообще, словно время для них остановилось однажды. А вот Берта Яковлевна постарела. Ссохлась, уменьшилась в и без того невеликих размерах, покрылась более густой сеткой морщин, но, кажется, стала более подвижной, несмотря на свою хромоту. Она улыбнулась мне печально, я подошёл, обнял её виновато, сказал только: «Вот ведь… А так, когда бы встретились?»
Вечером, после похорон и поминок, где бабушки всё пели свои грустные песни, от которых скребло в горле и в носу, я подвёз Берту Яковлевну к её дому. «Зайдёте, пастор?» – спросила она, заглядывая мне в глаза снизу вверх, и я не смог отказать. Мы сидели в пустом зале, куда теперь переехала из времянки хозяйка, за круглым столом, пили чай со штруделем, который она испекла утром, и молчали.
«Вы поседели, пастор, – сказала Берта Яковлевна наконец. – А приезжали сюда в первый раз совсем молодым, почти мальчиком. Без вас тут стало грустно. Пастор этот, Бремер, приезжает, конечно, но вы ведь детей привозили. Они нам хоть немного напоминали о будущем. О том, что есть смысл в нашей вере. И лагеря… Коля до сих пор вспоминает, а ведь ему же двадцать три, мужчина совсем…» «Берта Яковлевна, – я поставил чашку на стол, откинулся на спинку стула, который подо мной опасно заскрипел, – я тоже помню наши поездки сюда. Жалко, что всё так… Вот и Генрих Генрихович ушёл, кто теперь будет вас собирать?» – «А сами и будем собираться, как собирались. Петь и молиться все умеют, Библию читать тоже сможем, пока глаза буквы различают. Как говорят немцы, Übung macht den Meister, «упражнение делает умельца», так мы тут все уже умельцы».
Я вздохнул, потом вдруг вспомнил, наклонился вперёд: «Берта Яковлевна, а можно попросить вас дорассказать, ну… про вашу жизнь. Что было потом, после сорок четвёртого?» Та улыбнулась грустно: «Коле я уже рассказывала. Он после того вечера у костра всё допытывался: мол, расскажи да расскажи, бабушка, интересно ему было. Ну, коли вам тоже интересно, слушайте…»
…Их похоронили на краю сельского кладбища, того самого, где я хоронил старосту Генриха. Теперь там много могил, и эту часть местные называют «немецкой». Но первыми там были они, Фрида Нойманн и мертворождённая Рената, похороненные в одной могиле. Берта с сестрой каждый год приходили к ним на День всех святых, на первое ноября, когда обычно падал уже снег и укрывал холмик саваном, как белым платьем, в которые Эмма и Марта обрядили их, «Христовых невест», перед погребением.
«В селе не знали этот праздник, День всех святых, это наша, лютеранская традиция. Да и вообще, с праздниками, особенно религиозными, было сложно: могли донести. Война ведь шла, не до праздников. Даже Пасху боялись отмечать. Но на девятый день после Пасхи народ стягивался на кладбище. Убирали могилки, поправляли памятники, поминали умерших. Мы с Фридой тоже пошли – кажется, в конце апреля сорок четвёртого. Тепло было! Мы могилку подсыпали, она просела сильно: в морозы ведь хоронили; поправили крестик, посидели молча. Фрида глаза закрыла и только губами шевелила, молилась, наверное. А я… Мне так хотелось к маме, и только мысли о том, что папа, может, скоро вернётся, удерживали меня от рыданий. Помню, подошла одна женщина, местная, присела рядом со мной на корточки, погладила по голове и пирожков из корзинки в подол насыпала. «Ешьте, – сказала, – мой сынок на фронте погиб, у него даже могилки тут нету. А ваша мамка тут, с вами». А когда мы вернулись домой, в землянку нашу, смотрим: а там стоит повозка дяди Васи, который нас привёз в Красные Камни. У меня сердце чуть не выскочило, а Фрида как закричит: «Папа! Папа!», и в двери, а я за ней. Влетаем в потёмки, и я носом прямо утыкаюсь в чей-то тулуп, и этот тулуп меня отталкивает и ну ругаться на непонятном языке, гортанном таком, я никогда такого не слышала. Присмотрелись мы в свете лампы и открытой двери и видим – стоят трое, женщина высокая такая, в платок чёрный закутанная и в длинном платье, старуха, тоже в платке и фуфайке, и мальчишка, лет десяти, в тулупе овчинном: тот, в который я носом ткнулась. На топчане дядя Вася сидит, кнут в руках вертит. И ещё баба Эмма – она, видимо растерялась совсем и по-немецки что-то лопочет, я разбираю только: «Wo werden wir leben?», мол, мы где будем жить? Оказывается, в село привезли три подводы ингушей депортированных, как нас когда-то, и вот этих к нам велели селить. Слушал-слушал дядя Вася бормотание Эммино, потом рукой махнул и – в двери, а мы остались, смотрим все друг на друга и молчим. Потом Фрида обняла бабу Эмму, шепнула ей что-то и говорит: «Ладно, давайте селиться будем. Вы на той стороне землянки, а мы на этой – что делать-то?» Так к нам заселилась семья Иссы Магиева, с его мамой Зарой и бабушкой Билкис».
Берта Яковлевна замолчала, задумалась, потом хлопнула по карману и вытащила оттуда папиросу. Виновато посмотрела на меня: «Пойдёмте ко времянке, пастор? Простите мне мою слабость, курить хочется». Мы вышли на двор, и я увидел, как закатывается солнце за скалы: красный шар над красными камнями… Хозяйка проводила мой взгляд, прищурилась: «Красиво, да? Я помню, как первый закат тут увидела, с телеги дяди Васи, когда мы подъезжали только к селу, в сорок первом. И мама была ещё жива, и папа был с нами…» – «Да, я помню, вы рассказывали. И вправду красиво».
Она затянулась едким «беломором», выпустила дым в безоблачное небо, села на лавочку, я опустился рядом.
«Красиво… А там, на скалах, вообще красота. Недаром говорят, что древние люди здесь наблюдали небо: восходы и закаты, и через это вычисляли дни, когда весна началась, когда день пошёл на прибыль. Так говорят. А меня на эти горы вытащил Исса. Мы вообще подружились с ним в то лето. Сначала он дичился нас, девчонок, а потом ничего, привык. Мы идём за дровами с Фридой, и он с нами: топор за пояс заткнёт и идёт, глазами сверкает; смешной такой, чернявый, глаза коричневые, как пуговки сверкают. Мальчишки местные только издали дразнились, кричали нам вслед: «Во, смотрите! Фашистки и людоед! Людоедов нам с Кавказа привезли и с фашистками поселили!» Почему-то в селе считали ингушей дикарями, будто их с островов каких завезли. Ну а про нас-то понятно, мы уже почти свои, местные фашистки, нас уже и бить-то не интересно. Иссу попытались было побить, но он, как собачонка, бросился на главного обидчика, вцепился в него железной хваткой, ногами обхватил, зубами впился – тот испугался, еле его оторвал. «Ну его, – сказал, – бешеный какой-то. И впрямь людоед – пошли, пацаны». А с топором его так за версту обходили, боялись. Ну и нам с ним стало как-то… надёжнее: какой-никакой, а мужчина. И дров нарубит, и тачку утащит, полную навоза. Вот месить овечий навоз для кизяков никак не хотел: не мужское, говорит, это дело. Мы с Фридой смеёмся: «Ну тогда солому иди собирай, джигит!» Правда, потом он уже и месил с нами навоз вовсю, и лопатой его в тачку кидал. А как выпало время ягод, он меня и привёл на те скалы впервые. Ушли мы от села, через каналы переправлялись вброд, по болоту тропинки искали и под скалами нашли большие поляны клубники. Тёплая она была, красная – как сами скалы, – сладкая… Никогда до этого я не ела такой вкуснятины. Местные там, конечно, тоже собирали, но мы уходили дальше их, набирали полные корзинки и сами наедались, и валялись в траве рядом, под солнышком, как медвежата. Там Исса и рассказал мне о себе. Ему не нравилось, когда я называла его ингушем. «Мы – мелхи, – говорил он, – мы не ингуши и не чеченцы, мы – народ мелхи». Он рассказывал, что он и его семья происходили из рода «джархо», что в переводе значит «крестоносец». Были они мусульманами, но бабушка Билкис говорила, что все они, «мелхи», были когда-то давно «горными христианами», и с тех пор мелхи, даже приняв ислам, не враждуют ни с кем, помня свои корни. «Бабушка говорит, что её имя, Билкис, как у той царицы, что приходила к еврейскому царю Соломону слушать его истории и стала его женой», – рассказывал из травы Исса, а я, раскрыв рот, слушала. Я ведь не умела читать и никогда Библию не видела, а только слышала до этого истории – от мамы сначала, а потом и от бабушки Эммы об Иисусе и Его чудесах. А ещё он меня научил лазать по скалам. Все эти камни мы тогда с ним облазили. Рисунки древние находили. Исса говорил, что у них тоже встречаются на скалах в горах такие рисунки. И надписи древние на незнакомых языках. Мне семь тогда было, а Иссе – девять, но сдружились мы с ним сильно – времени больше вместе проводили, чем с сестрой Фридой.


