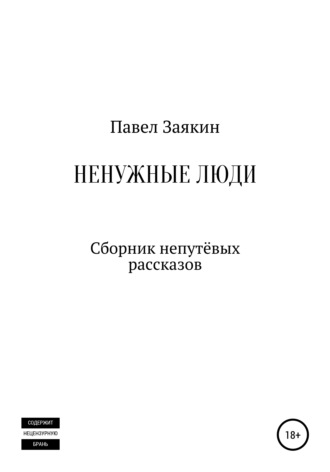
Павел Дмитриевич Заякин
Ненужные люди. Сборник непутевых рассказов
А еще Голландия, казалось Костеку, пропахла поздним средневековьем, и дух Тиля Уленшпигеля витал над каждой черепичной крышей, изумрудной травой, шпилистыми соборами и ветряными мельницами и стучал в его, Костеково, сердце. Месяц назад, в одну из нерабочих суббот он, ранним утром оседлав свой велосипед, помчался в городок D-B, где полдня провёл в музее Босха. Строго говоря, музеем назвать это было нельзя, поскольку в старом церковном здании не хранилось ни одного оригинала картин великого голландца. Но это никак не испортило его настроения, то был как раз тот случай, когда репродукция лучше оригинала, особенно, когда ты можешь, стоя у огромного экрана, двадцать раз открывать и закрывать триптих «Сад земных наслаждений», переходя от хмурых и скупых сумеречных красок сотворения земли к буйству собственно самого сада в его хронологии: от рая к аду через жизнь. Он рассматривал каждую деталь картины, наслаждался всеми этими таинственными мелочами, будоражащими воображение и заставляющими думать. В общем, «Сад» отнял у него тогда половину экскурсии, и он решил, что непременно повторит этот свой культпоход.
Да, в Голландии всё было как-то компактно и концентрировано, в отличие от Германии, где Костеку пришлось проработать в прошлом году. Там он жил в маленькой деревеньке с единственным магазинчиком, и оттуда до культурных мест было катить и катить, за день точно не успеешь добраться. Впрочем, тамошняя работа тоже нравилась Костеку; пожалуй, даже больше нравилась, чем эта. В Германии он работал и жил на частной конюшне в совершенно шикарных отдельных апартаментах с душем, кухней и спальней и был предоставлен себе и двум десяткам лошадей, за которыми он убирал навоз, которых он выгуливал, чистил и кормил. Его напарник сбежал, уйдя в отпуск и не выйдя из него, но он справлялся, хоть и было тяжело физически, особенно махать лопатой и вилами. Там он и заметил, что животные его прекрасно слышат и, кажется, понимают. Когда он на рассвете, очищая стойло, читал стихи Мандельштама, кони никак не реагировали, а когда он решил завести чин «утренней молитвы» на латыни, то увидел любопытство в глазах Карего, самого капризного и непослушного жеребца. Читая литанию, он уже был окружён сопящими мордами, повёрнутыми к нему, и впервые возблагодарил тогда святого Франциска за его дары.
В воскресенье, когда однажды он не пошёл в церковь по причине занятости, он начал читать чин мессы, за себя и за народ, и к безмолвно внимающему народу лошадиному внезапно присоединился народ кошачий – две местных кошки тоже развернулись мордами к нему и молча следовали за ним до конца чинопоследования, после чего он, умилившись, накормил их своими бутербродами, а они за это позволили их безвозмездно гладить.
Его миссия среди жеребцов, кобыл и кошек закончилась, когда он забыл включить электроизгородь на выгуле, и Карий, подлец такой, несмотря на неофитство, махнул через провода, которые не щёлкали угрожающе, и устремился в дальние дали. Ошибку он исправил и Карего нашёл и привёл, но у хозяина утратил доверие, получил штраф и с горя… В общем, он тогда опять сорвался и ушёл в загул.
Спустя две недели, когда он, помятый, грязный и побитый в ночлежке, заглянул на ферму, там его ждал расчёт, которого хватило на билеты до L., где его никто особенно не ждал. Любимая и желанная когда-то Вера, тихо ругаясь по-русски и по-польски, приютила его на несколько дней, а потом нашла ему съёмную комнату и собрала чемодан, пока он, опухший и страшный, бродил по «старому городу», предлагая испуганным редким туристам экскурсию по церквам.
Вот там-то, под крышей пятиэтажки, в «комнатке–пенале», будто вынырнувшей из любимого Достоевского, его впервые накрыло. Он лежал на своём диванчике, не ел, почти не пил, до туалета добирался ползком – ничего не хотел. Вообще ничего. Ни молиться, ни думать, ни читать, ни отвечать на звонки. Столько слёз, сколько вылилось тогда из его глаз, он не выплакивал за всю свою сорокалетнюю с хвостиком жизнь. Обнаружил его таким хозяин, пришедший за расчётом, всполошился, нашёл Веру, ну а та всё поняла, не зря подрабатывала в миграционной службе психологом для беженцев, да и восемнадцать лет с Костеком что-то да значили.
Когда он вылез из депрессии и слегка отъелся, она же, Вера, нашла ему работу: вот эту самую, на яичной фабрике в Голландии. И билет купила. Он тогда, перед отъездом, пришёл к ним в гости, на Сашкин день рождения. Подарил ему блокнот со стихами любимых поэтов «Серебряного века»; а что ещё прикажете дарить, если денег нет вообще? А так – выжал остатки краски из принтера, пока Веры не было дома, выбрал красивый блокнот, часть листов вырвал, чтоб не топорщился, вклеил туда еще листочков тридцать, надписал пожелание: «Сашка, между музыкой и математикой есть ещё много чего прекрасного, и стихи эти – только маленькая часть этого мира. Надеюсь, тебе понравится то, что я когда-то любил и читал наизусть…» Сашка тогда взял блокнот, пролистал, хмыкнул скептически, а потом вдруг порывисто обнял его мосластыми подростковыми руками, прижал к себе, выдохнул в ухо: «Tato, znajdź siebie … I chodź do nas72».
3.
Верил в Бога Костек искренне и чисто. С детства, с любимых поэтов «Серебряного века», с Достоевского, с бурных девяностых в далёком сейчас – и во времени и в пространстве – сибирском Н-ске. Но ещё до всего этого, до филфака педа, где всё это богатство свалилось на него лавиной, его мама, подходя к нему перед сном, чтобы поцеловать, сладко дышала на него ликёром и шептала: «Помолись, Костенька, за себя и за меня. Скажи Богу молитву, как учила бабушка, помнишь?» Он кивал, и они шептали эти пришепётывающие полупонятные им слова забытой уже бабушки–польки, будто заклинание: «Ojcze nasz, ktorys jest w Niebie, swiec sie imie Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje, badz wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wodz nas na pokuszenie, ale nas Zbaw od zlego. Amen».73
Мама пила всё чаще, и он всё реже приезжал на электричке из общаги домой, старался не видеть того, чего не мог исправить – рушащейся жизни близкого человека, застывшего со стаканом в руке на грязной кухне панельной хрущёвки. Здесь – в квартире – время, казалось, застыло, пропахнув вермутом, ликёром и тараканами, а за дверями шумели митинги, реяли трёхцветные, запрещённые ещё знамёна, махали дубинками «омоновцы», и он окунулся в этот шум и гам, в эту суету города, ещё не знающего, как ему жить.
В один из весенних дней девяносто второго, когда оттаивала вся митинговая активность на тёплом солнышке, он спешил к друзьям в Центральный сквер, где тусовалась всякая неформальная публика – продавали самиздат, договаривались об акциях, заодно и потихоньку толкали траву и химию, ругали власть и рассуждали, «как нам обустроить Россию». Он чавкал рыжими ботинками по растаявшей грязи и думал о спецкурсе, который предстояло сдавать завтра, когда услышал за бетонным забором сквера характерные звуки – кого-то отчаянно тошнило, и между рвотными позывами пробивался стон, такой отчаянно безнадёжный, что он, протиснувшись между плит забора, полез в редкие кусты с ещё не растаявшими пятнами снега, на звук и на запах. Девочка, лет семнадцати, тоненькая, в чёрном пальто, со смолисто-чёрными волосами, рогами свисающими из-под чёрного же берета, стояла на коленях у тополя. «Эй!», – сказал он тихо, будто боясь спугнуть девицу, – «Ты чего?» Та обожгла его чёрными – зрачок во всю радужку – глазами, качнулась и упала набок, в грязь. Он подскочил, неловко поднял, сунув руки подмышки, подтащил к лавочке неподалёку, устроил, наклонившись, потряс за плечи, повторил: «Чего ты, а?» Девица разжала кулак, и на коленки её, перемазанные глиной, упал опустошённый стандарт реланиума. «Ох ты ж, чёрт!», – Костек полез в свою сумку, нащупал бутылку, вытащил… Мало! «Слушай, ты тут посиди, я сейчас!», – и рванул к киоскам у сквера, на ходу выгребая мелочь из карманов. Вернулся с двумя бутылками минералки, девчонка уже завалилась вбок, по аллейке ходил народ, подозрительно поглядывая на перемазанную глиной девицу и суетящегося Костека. Ну плевать, пусть думают, что хотят! Он неумело пошлёпал её по щекам, она застонала, открыла свои бездонные глаза–зрачки: «Че-го? Ты кто?» – «Твой ангел, дура! На, пей быстро воду!» – и начал вливать минералку ей в рот, не обращая внимания на то, что льётся по рукам и джинсам. Лил, ругался, разжимая ей скулы, пока она не захлебнулась, закашлявшись, и её вырвало, прямо ему на ботинки. Так в его жизнь вошла Вера, неудачно решившая свести счёты с жизнью из-за несчастной любви. Эта любовь ещё долго – где-то с полгода – мучила её, и он приходил к ней, выслушивал, утешал, гладил чёрные волосы и замирал от желания, пока однажды она сама не взяла инициативу на себя и не сказала ему, плеснув своим чёрно-карим взглядом: «Вуйцек, ну поцелуй уже меня!», и он неумело ткнулся своими губами в её красные пухлые губы, но она всё исправила.
Уже потом, когда они лежали в её комнате на разложенном диване, остывая от накатившего на них шторма, он признался ей, что у него никого не было до неё, совсем никого… Она хмыкнула, крутнулась на скрипучем ложе, заворачиваясь в простыню, села и сказала хрипловато: «Зато ты нежный и ласковый. Мне понравилось, ласковый Вуйцек. Дай-ка сигаретку?» Они так и лежали в тот день долго, до прихода Вериной бабушки, курили, стряхивая пепел в стеклянную банку на полу, гладили друг друга и говорили: о Достоевском, Бердяеве, Шагале, «Серебряном веке», перескакивали с темы на тему, и она так и называла его, по фамилии, «Вуйцек», как звали его только в школе, вызывая к доске, и он чувствовал себя немножко учеником в постели у учительницы. А потом она вдруг сказала, глядя в сизый уже от дыма потолок: «Я хочу исповедаться, Вуйцек. Ну, в том, что… Откуда ты меня вытащил… Только не хочу в православной церкви, не верю я им, этим нашим попам. Своди меня в костёл?» И он замер, даже дышать перестал на какое-то время, потому что он и сам думал об этом же всё лето, что надо бы сходить, вот и Серёга Гуревич всё зовёт его чуть не каждое воскресенье, а он никак не соберётся, будто боится разбить свою хрупкую веру, зачатую в нём философами, поэтами и писателями о каменную готическую догматику неизвестной ему церкви.
Они сходили в следующее воскресенье и остались в приходе, стали вместе ходить на курсы по воцерковлению, а на следующий год, на Пасху, их причастили, там же, в Н-ском кафедральном соборе. А в октябре, когда в Москве стреляли из танков по парламенту, Костек, оставивший филфак на третьем курсе, уже учился на богословском в польском папском университете, в маленьком городке L., и испуганно слушал новости о своей, словно сошедшей с ума, стране, тратил всю стипендию на переговоры с Верой и уговаривал её всё бросать и ехать сюда, к нему, в L., но Вера доучивалась в своём универе, ей было не до политики, не до любви и не до эмиграции, когда маячил диплом психолога и поиски работы.
Летом, на каникулах, он приехал в Н-ск, и пока кемарил ночью на вокзале, в ожидании рассвета и автобусов, его обокрали, увели рюкзак с вещами, подарками маме и Вере, и с упаковкой польских порнографических журналов, которые ему заказал приятель Гуревич, толкавший их всё в том же Центральном сквере. Хорошо хоть деньги и документы были в «ксивнике», на груди. Отделался цветами и месячной отработкой Гуревичу на стройке. Отношения с Верой были «нервно-нежными», как говорила сама Вера. После защиты диплома Вера жадно отдыхала, была требовательной и весёлой; жили они на даче, пили вино, купались и любили друг друга самозабвенно, и Костек забыл обо всех ужасах, даже о войне, что шла где-то далеко в Чечне, и даже согласился пожить ещё год в L. без Веры, уехал и снова, между лекций на польском, страдал, слушая и читая о событиях в России.
Только в следующее лето они с Верой обвенчались, всё в том же соборе в Н-ске, у того же священника, что когда-то принимал Верину исповедь и давал им первое причастие. Он же помог Вере с визой, и уже душным августом они наслаждались в Польше. Сняли квартирку на окраине, обзавелись велосипедами и гоняли вдвоём по городу, который он знал уже наизусть.
Польская жизнь закрутилась, скудная на деньги, но жадная до будущего, которое должно было вот-вот наступить, когда страна вылезет из нищеты, и они вместе с ней вылезут, и Вера много работала, а он учился, сначала в университете, потом на аспирантуре, потом получил преподавание и стал работать над кандидатской по Мартину Буберу, хотя его предупреждали: какой такой Бубер в католическом университете? Но он упрямо упёрся и писал, публиковался, преподавал, а потом внезапно получил грант и уехал писать диссертацию: сначала в Германию и Швейцарию, а потом в Израиль. Они уже получили польское гражданство, и Вера иногда навещала его в Европе, а летом приезжала на целый месяц в Израиль, и он, взяв машину в прокате, провёз её через всю страну, тревожную и напряжённую от второй интифады, но их пронесло: только пара камней по машине прилетела в арабском квартале, да пару ночей нет-нет, да и раздавались в отдалении автоматные выстрелы, и тогда они теснее прижимались друг ко другу, переживая это странное желание «любви на войне».
Вера вернулась в Польшу и почти сразу сообщила ему о своей беременности, и он, спешно завершив работу, вернулся и держал её за руку, когда она рожала Сашку, а потом всё снова пошло по кругу: универ, бессонные ночи, пелёнки, полуголодная жизнь, попытки подработать… Где-то тут его генетика и дала сбой, и запах ликёра и вермута из его детского прошлого сменился запахом медовухи и хреновухи. Сашка пошёл в школу, когда его впервые увезли в психушку с «белочкой»; впрочем, это была не совсем психушка: так, курорт для вывода из запоя на пару недель, его даже не попёрли тогда с работы, только предупредили. Толстый и оптимистичный завкафедрой отец Матиуш повздыхал, но предостерёг на будущее, и этого хватило ещё лет на пять тихого пьянства по вечерам, и публикации пошли на убыль, и на докторской можно было поставить крест, а ведь он был одним из лучших специалистов по Буберу…
Сорвался он снова после скандала на корпоративе, праздновали что-то местное–университетское, он нехотя пошёл, выслушал пару речей, хвастливых и хвалебных, а потом, опрокинув рюмок пять (шесть? семь? – кто их считал?) он вышел к микрофону и обозвал всех их тупыми ослами, готовыми в угоду профессиональной этике («Ха-ха! Это я про профессионализм!») поступиться истиной и смыслом. Наутро на работу он не вышел и домой не пришёл, а ещё через неделю он сам пришёл домой – опухший, трясущийся, – и всё закончилось очередной капельницей в заведении закрытого типа и обходным листом в итоге.
Вера мучилась, терпела, проходила с ним все эти мытарства на пределе, и он это видел и страдал от собственного скотства и деградации и ничего с этим не мог поделать, понимая, что понесло уже, что это только вопрос времени, и только Вера, да книги, которые он продолжал глотать, да его вера, не жена, а то, что связывало его с Богом, держало его, не давая окончательно соскользнуть в его личный персональный мальстрём.
Вот тогда-то он и принял это решение: хватит интеллектуальной работы – тем более здесь, в L., ему её уже не найти, всё, путь в университет заказан. Значит, остаётся только один путь – тяжёлый физический труд. Так, Господи?
И он пошёл устраиваться на L-ский металлургический завод, в горячий цех.
4.
Матричная кузница, где Костек отработал несколько лет, находилась на окраине завода, который, в свою очередь, стоял на окраине города. Кузница штамповала какие-то детали для автомобильных запчастей: то ли BMW, то ли Volkswagen. Задача была простая: брать из корзины нарубленные чушки, загружать их в печь, потом – по одной, через конвейер – подавать их на пресс, где из раскаленного куска стали получалась заготовка. После этого партию заготовок отравляли на тестовое стендовое испытание, где они проверялись на соответствие стандарту и на отсутствие микротрещин и брака, а уже оттуда пути расходились: все прошедшие испытание изделия шли на шлифовку, а не прошедшие уезжали обратно на переплавку, откуда, в виде огромной рубленой колбасы, вновь поступали к Костеку. В цехе стояло пять таких прессов, испытательных стендов было три, а шлифовальная машина – одна, и одна в резерве. Прессы оглушительно стучали по жёлто-красным болванкам, которые после удара, шипя, летели в масляные купели; стенды журчали низким басом, выводя свою мелодию на проверке партий изделий; шлифовальный агрегат работал беспрестанно, уже на высокой ноте, добавляя свою партию в этот индустриальный хорал. Костека сперва поставили на пресс, это было самое простое – укладывать раскалённую, пышущую жаром болванку в прокрустово ложе штампа, по всем параметрам соответствующего изделию, и нажимать на кнопку. Бац! – Костек открывал рот, чтобы не оглохнуть от звука падающего пресса – и на ложе уже не кусок железа, а красно-чёрная запчасть. Ложе наклоняется, и Костек помогает прутком этой запчасти упасть в ванночку с маслом.
Потом он работал на шлифовке, это уже совсем просто: всё загружается и шлифуется само, автоматически, а ты только принимаешь готовые детали, осматриваешь их поверхностно и отправляешь на склад. Никаких тебе «бац!» и «бух!» поблизости, но наушники всё равно не могут полностью защитить от высокого, как при заточке ножей, писка.
Только через полгода Костека пустили в «святая святых» процесса – на стендовое тестирование. И там, стоя у прибора, похожего на пульт управления самолётом, со множеством датчиков и стрелок, он вдруг смог выразить то, что все полгода работы в этом шумном огромном цехе бродило у него в голове неясными до-словесными образами: на что похож весь этот процесс – от кузнечного пресса до оценки, определяющей участь готового изделия – вправо, на шлифовку, упаковку и дальше, к автомобильному заводу, установке и использованию по назначению, или влево – на переплавку. У него задрожали руки и помутилось всё в голове, когда он понял, что работает сейчас управляющим чистилища для этих безмолвных болванок и что точно так же, где-то наверху, кто-то, проштамповавший однажды в материнской утробе именно его, позёвывая и почесывая свою нематериальную сущность, однажды загонит и его на стенд для тестирования. И в лучшем случае, он поедет служить «кирпичиком» для небесного BMW, а в худшем – отправится на переплавку.
Это понимание требовало, звало его поделиться открытием, и он, впервые за долгий срок, откупорил бутылку медовухи с Яном, рабочим из его бригады, самым спокойным и молчаливым. Пили в кабачке возле завода, вечером, когда закончилась смена. Одной бутылкой, понятно, всё не закончилось, заказали ещё, потом опять… Ян пил молча, молча слушал и кивал, будто всё понимал, а Костек, возбуждённый, всё развивал и развивал этот сюжет, от рождения из болванки до смерти и перерождения, и сыпал цитатами из Кьеркьегора, Бубера, Хайдеггера и Достоевского.
«Кому-то – смысл и предназначение, а кому-то – банька с пауками, понимаешь?», – горячился он, иногда путая польские слова, и охлаждал горло большими глотками ароматного «Бенедиктинского», – «А где он здесь, этот смысл? Где диалог? Мы тут эти болванки воспринимаем только как «Оно» – и это правильно – мы же не можем с ними вступить в отношения, назвать их по имени, назвать их «Ты»? И я подумал… – рука его потянулась к очередной бутылке, – я подумал, а вдруг и на уровне наших отношений с Богом – так же? Вдруг мы – как болванки, заготовки для Бога, но только болтающие и мыслящие, и ещё своевольные. Это как если бы наши болванки бегали сами по цеху, а мы их ловили. Ну вот… А Христос просто пришёл, чтобы исправить пошедший вразнос весь этот технологический процесс, стал для нас новой матрицей для пресса, лёг для этого под молот…» Ян, наконец, зевнул, сверкнув фиксами, ткнул его кулаком в плечо и сказал: «Всё это – воздушные замки, братишка. Главное – сколько мы сегодня с тобой заработали, понимаешь? А значит – сколько мы можем потратить, чтобы эти отношения завязать. С бабами, с выпивкой, с вещичками новыми из магазина. Ладно, пойду я домой, бывай здоров!» И ушёл, бросив на стол несколько мятых банкнот. А ошеломлённый Костек, захватив оставшуюся нераскупоренную бутылку, оседлал свой велосипед и поехал по уже тёмной окраине на другую, противоположную, окраину города, где жил, и на мосту через реку, встав и глядя на загорающиеся огни города – прекрасные, похожие на россыпь драгоценностей на темном бархате – вдруг заплакал: от злости, от недопонимания, от ощущения ненужности и собственной слабости.
5.
Раньше Костек думал, что мозоль – это такой маленький болючий прозрачный бугорок, который возникает от лопаты, когда копаешь, например, картошку. В матричной кузнице он убедился, что это не так. Даже спустя несколько лет его ладони хранили прочность сплошной мозоли, от запястья до кончиков пальцев. Нигде больше он столько не работал, как там – ни на сезонном сборе яблок, ни в Германии, на конюшне, ни тем более сейчас, на этой яичной фабрике. Инфернальный «горячий цех» до сих пор снился ему, и когда молот с грохотом падал на него, чтобы отштамповать из Вуйцека что-то задуманное свыше, он просыпался в ужасе, но оказывалось, что это его сосед по комнате, идя в туалет, уронил стул или хлопает ставня на окне. А ещё он боялся снова оказаться беспомощным, ничего не желающим полутрупом, еле встающим в туалет и беспрестанно льющим слёзы из двух глазных отверстий в голове, не имеющий ни малейшего желания – есть, пить, спать, думать… А предпосылки к этому были, были! И он предчувствовал эту надвигающуюся депрессию, как гипертоники чувствуют приближение солнечной бури.
Дело в том, что Костек разлюбил Бога. Примерно с прошлого Рождества.
Нет, он не утратил веру, он верил, как и раньше, во всё, чему учила мать–Церковь, исправно, когда была возможность, посещал мессы – пел, слушал, отвечал хором и закрывал глаза. Но он больше не молился. И не причащался. Потому что – как можно было что-то просить у Того, Кто оставил небеса и стал Человеком, погрузившись с головой во весь этот наш человечий ад, и даже воскреснув, унаследовал наше человеческое естество, неся на нём следы Своих страданий? И как можно было желать быть причастным Его вечной природе, если и в вечность Он унёс с Собой всю нашу боль, страдание и муку? Ужас той, первой и пока единственной, депрессии показал Костеку наглядно, что диалог с Богом – это диалог о боли – если не телесной, то душевной – и если эта боль становится вечной, то разделять её с Ним ему не хотелось.
Не хотелось, но он знал, что придётся, и от этого ему делалось совсем хреново, это напрочь убивало в нём всякую любовь, и, оставшись наедине с Ним, на берегу, после купания, или в местном лесочке, где он гулял, он иногда орал Ему своё, Вуйцеково, несогласие. Вряд ли это было похоже на молитву, скорее, на помешательство, и он знал это. Знал он и Его ответы, знал все до одного: и на иврите, и на древнегреческом, и на латыни, и Тот тоже знал, что он знал, и потому молчал, ничего Костеку не говорил в ответ, но и не посылал никакого облегчения, только одну мучительно протянутую руку, пробитую гвоздём. Так это видел Костек, видел эту руку с рваной дырой в запястье и ничего не мог поделать с собой, только тоскливо ждал, когда опять накатит на него это беспредельное тоскливое нежелание ничего.
Спасали машины, болтавшие друг с другом каждый день о разном, и это было то немногое, что вызывало в нём интерес: о чём сегодня они будут вести разговор?
Спасал Сашка, с которым он говорил подолгу редкими вечерами, когда оба они были свободны, один – от яичных контейнеров, а другой – от своей бесконечной учёбы. Сашка был другим, чем он, и в Сашке он видел будущее человечества, от которого он сбегал, и которое пугало своей инаковостью, лёгким выуживанием информации из интернета, будто бы из воздуха, безграничной открытостью всему новому. Сашка был как инопланетянин, с которым одинокий космонавт Вуйцек иногда выходил на связь в своём «Хьюстоне».
Спасал— но и мучил – Мартин Бубер, которого он перечитывал, доставая книги из картонной коробки, привезённой с собой из Польши. Бубер звал к диалогу, говорил ему, Костеку, что только соучастие в бытии других живых существ обнаруживает смысл и основание собственного бытия. Бытие было, но соучастия не было, никак оно не складывалось, и кто мог ему, Костеку, в этом помочь? Бог молчал, и, кажется, уже всё сказал человечеству; люди говорили, но лучше бы молчали, потому что все их слова были только монологами, и хотели они только одного: того, о чём честно сказал тогда, в кабаке, Ян – денег, вещей и власти. С людьми Костек говорить не хотел, разве что с Сашкой–инопланетянином. Оставался ещё один уровень диалога, с «братьями меньшими», но для святого Франциска Костек был недостаточно юродивым, хотя о внимающих литургии конях из Германии вспоминал тепло.
«Одиночество, – напоминал Бубер, – это место очищения», и Костек вспоминал дрожащие на стенде бывшие болванки, которых проверяли скопом на соответствие. Болванки проверяли партией, а человеков – по одному, и он, Костек, был готов к испытанию, вернее – к любому решению, в использование или в переплавку, только бы скорее уже.
«У каждого путешествия есть своё тайное назначение, о котором сам путешественник не имеет представления», – продолжал философ, и Костек был с ним согласен, он готов был хоть на край света – лишь бы там, на краю, было не знание, а любовь, которую он потерял по дороге. «Без того, чтобы жить и оставаться самим собой, невозможно любить», – наставлял его старый мудрец, но он мотал головой и орал ему: «Нет, тут ты не прав! Без того, чтобы любить, невозможно жить и быть собой! А где она, эта любовь? Где? В болтовне машин? В пустословии людей? В остывающих семейных узах? Или, может, в Марте?»
И тут он замолкал, потому что не знал: а может, действительно в Марте прятался тот ответ, которого он так искал?
С Мартой он познакомился в начале лета, когда ещё работал на упаковке яиц и недолго жил в М.; в общежитии и познакомился. Столкнулся с ней в свой выходной на кухне, когда все ещё спали, а он жарил омлет. Она вошла, заспанная, в раздёрганном халатике, зевая во весь рот, с кастрюлькой в руках, ойкнула, увидев его, смешно прикрылась этой кастрюлькой, и сказала с вызовом: «Ну и чего? Нормально всё? Всё на месте?» – «Д-да…, – сказал Костек, отлипая взглядом от неё и отворачиваясь. – Извини» – «Да ничего. – Она поставила кастрюльку на плиту, поправила халат, улыбнулась и протянула руку. – Меня зовут Марта. Ты тут новенький? Недавно приехал?»
Марта была с соседнего воеводства, жила в городке почти на границе с Украиной, а здесь работала на сортировке и переработке картофеля. Его и варила в той кастрюльке. Они сидели, ждали, пока приготовится омлет, болтали ни о чём, пили кофе, что Костек, метнувшись в комнату за туркой, сварил на плите, потом ели его омлет, потом – её картошку, и ему было приятно слышать её голос – просто как музыку, которую усилием воли приходилось переводить в смысл, чтобы что-то отвечать. Он иногда посматривал не неё и натыкался на улыбку и серо-зелёный плеск взгляда, и её рука откидывала длинные, расчёсанные на прямой пробор, густые каштановые волосы, которые сохранили на себе волнистый след от косы. У Марты был велосипед, и он, Костек, неожиданно предложил ей скататься сегодня до старой мельницы, что он нашёл на реке, километрах в десяти от М. Марта глянула на маленькие часики на руке, смешно наморщила лоб, и махнула рукой: «А поехали! Только сейчас, после завтрака, а то мне с трёх на работу, на полсмены надо выйти…»
Когда разбежались, он помыл посуду и глянул на себя в зеркало в душе: небритая обрюзгшая рожа, лысина в полголовы, нос картошкой. Сорок шесть лет дались нелегко, усмехнулся он отражению; не успел оглянуться, жизнь прошла куда-то. Осталась память о любви, Сашка и Мартин Бубер, будь он неладен. А сколько ей? Тридцать, может? Красивая, молодая, зачем он ей? Зачем он вообще кому-то, если и себе применения найти не может?
…Ехали по просёлочной дорожке вдоль реки, и кажется, вся Голландия куда-то исчезла – ни домов, ни дорог, ни ферм: только берег, ленивая река, пахнущая почему-то прелым деревом трава, медленно катящееся к зениту солнце и они двое, перебрасывающиеся иногда словами, как мячиком. На небольшом взгорке встали полюбоваться на излучину, вдали им махали крыльями ветряные мельницы. «Никогда не был рыбаком, – сказал он, опираясь на руль, – а вот тут прямо захотелось удочку закинуть» – «Осторожно с желаниями, – засмеялась Марта. – Тут вся рыба принадлежит королю, за рыбалку без лицензии – безбожный штраф налагают. И поймать можно не больше двух рыбёшек, остальных приходится отпускать» – «Откуда знаешь?» – удивился Костек. «Второй год здесь уже живу, много чего знаю. Обращайся, если что».
Возле мельницы, старой и полуразрушенной, похожей на декорацию к какому-то историческому фильму, бросили велосипеды в траву, купались, дурачились в воде, потом валялись в траве, сохли на солнышке. Понемногу Костек рассказал о себе почти всё. Врать не хотелось, да он и не умел врать-то. Обратно ехали молча; припекало, говорить не хотелось. Спешились у трёхэтажной общаги, пристегнули велосипеды на стоянке, зашли в кондиционированный холл. «Может, ещё как-нибудь покатаемся? – спросил он, глядя в сторону. – Музей Босха, я читал, тут недалеко…» – «Конечно! В следующие выходные? Ну, или как получится. Ты, если картошка нужна, обращайся! А сейчас я в душ и на работу», – и, хлопнув его легонько ладошкой по плечу, умчалась по лестнице. А Костек, какой-то задумчиво-пришибленный, пошёл к себе, осмыслять день и фантазировать про следующие выходные.
Впрочем, вскоре как раз случилась «великая яичная катастрофа» у него и Витека, и его перевели на мойку и переселили в городок F., так что следующие выходные прошли в суете переезда. Поэтому ещё через неделю он явился в бывшую общагу, нашёл там Марту и протянул ей упаковку яиц: «Вот… Это тебе. Нам дают, у меня много. Знаешь сколько рецептов блюд из яиц существует?» Марта засмеялась, взяла, покачала головой: «Нет, Костек, так не пойдёт. Только бартер. Знаешь, сколько блюд можно сделать из картошки? Погоди, я сейчас принесу…»
6.
Всё лето и почти всю осень они так и встречались, до позапрошлой недели: он приезжал на выходные с упаковкой яиц, а она, если не была на работе, насыпала ему картошки в рюкзак и ехала его провожать в F. Иногда он, сгрузив картошку, ехал с ней обратно, провожая её. Ехали, не торопясь, иногда купались, если было тепло, говорили о разном…


