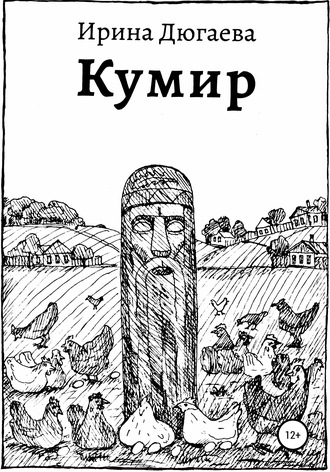
Ирина Дмитриевна Дюгаева
Кумир
Ящер восходящий
В камышах нескладно и бойко голосили турчелки11, скреблось солнце в сучковатых пальцах деревьев. Хорошо шёл калабаш12, плотными кольцами вился табачный дым.
Щедрый лес у Тупиков был. Здесь можно было найти и дичь, и рыбы немного. С щукой Яша хватанул брехни, когда говорил с Василисой: речка Тупиха была мелкая, реденькая, давно иссохшая, не больше аршина в глубину, не больше трёх саженей в ширину. Ельцом и головнём разживешься – и то праздник. Но для духовного насыщения здесь была сокровищная кладовая.
Жалко будет, если обживут лес городские прихвостни. Тужить Яша не станет, но проклянёт всех и вся от осознания, что его рыбу, его зверье будут делить ушлые понаехавшие. Как представлял, что посередь берёзы, липы, тополя начнёт копошиться пришлый люд, без уважения рушащий лесную идиллию, так внутри всё обрывалось. Никогда Тупики не были ему родным домом, не смогли и не смогут заменить батькиного кровельного домишки. Но лес… Здешнему лесу не было ровни.
Не хотел он мириться с мыслью, что скоро рыбка перестанет частить на обеденном столе, что мамка больше не будет упиваться разделкой зайчатины, гоня ломку из стареющих косточек. Вот Яша и сидел безвылазно у бережка реки в захоронениях лесных зарослей. Упивался напоследок тишью да купался в неге чистого воздуха. Это было то самое укромное, благословлённое место, где поболе всего велась рыбка.
В чугунном котле набухала бедная уха из голья и костистой рыбёшки, которая хрумкалась с азартом. К тому же полезная была: половина пойдёт на корм рыбке покрупнее. «Мелкая красавка йдёт сому под заправку!» ─ любил приговаривать батька.
Яша был бы не прочь уйти в пущу жить, лесными подаяниями кормиться, только мамка та ещё панева. Разжилась, джигитка, хозяйство нехилое развела, почти с десяток коров держала, выводок свиных рыл, лошадей-кормилиц две. Вся деревня им завидовала и слала на подработок и выученье сельской жизни своих ребятишек. Мамка только рада была таким батракам: им можно меньше платить, и силы из них ещё не высосаны.
Только как мамка ни старалась его вплести в канву хозяйской жизни и приручить к барским замашкам, потерпела неудачу. Руками Яше складнее работалось, чем головой. На покосе сметал жнивьё размашисто и валко, как никто другой. Ездил в райцентр продавать плоды хозяйской жизни, и то плохо торговал, дёшево, получая от матери матюков – до пожара в краснеющих ушах.
Крепки в нём были батьковы заветы, с опорой на них, что ни приходилось, делал. Кто его с лесом породнил, как не батька? Кто влил в него идею народного единства? Ещё дед в Украинской повстанческой армии состоял, и кто бы удивился, что и сын, отец Яшин, пошёл по стопам.
Для всех руссов и местных этого хватало, чтобы весь род Яши окрестить с противно-кислой миной «бандеровцы». И забывали все, что мать его была русская, и слушать никто не хотел, что батька против русских ничего не имел. «Немец – вражина, тока если пушку на тобе наставит. Тако и со всяк другим», – наставлял батька, туша дымящие цигарки о вылинявшие листы журнала «Пролог».
Далеко и широко развезло мысль Яши, украло средоточие, без которого не жить рыбаку. Фиксируя шнур, потряхивая удилищем, зачмокал он сапогами по речной супеси. Безразлично шумела речка, ударяя промозглостью по лицу.
Яша размотал катушку. Так же быстро смотал вокруг ладони шнур, и тот крепко впился в кожу. Заброс вышёл холостой: в колено стрельнул нерв, и разворот смазался. Из-за этого насадка упала наискось, вбок, под тень щедрой лиственницы. Шнур изогнулся серпом против речного потока.
Приманка-мушка, словно живая, подрагивая покорёженными крылышками, опустилась на воду – как будто сама нечаянно упала в порыве ветра. Булькнуло сразу же, как по заказу, точно само дно сделало вздох, как бы намекая – здесь рыба.
Пошла чешуйчатая! Без промедления, резко и дерзко, потянул шнур на себя. Придерживая леску одним кончиком пальца, как бы ловя невесомый пух, дёрнул. Но из Яши выбило хриплое «у-ы-ы»: тряхнуло с той стороны так сильно, будто рыба вобрала всю силу реки. Неужто лещ-великан попался? Трофейный, видать, зараза. В ответ на праздную догадку шнур снова рвануло, и тут уж – новичок ли ловли, знаток – вцепишься с жутким отчаянием в рукоять.
Чуть не выбило из-под ног землю, заскрипели сапоги. Видал ли такое батька? Даже он с его присказками наудачу вряд ли речного царя ловил. «Точняк лещ!» – ликовал Яша, окрылённый предвкушением победы. Проскочила мысль, что в их илистую речонку едва ли мог заглянуть такой здоровяк, но мысль эта быстро ускользнула, задавленная жадным ликованием.
Хлюпнула по ногам сладкая ажина13, дёрнул за штанину злобный хвощ. Яша замы́кался со шнуром, растянувшимся во всю длину, и потерял контроль. Опять изо рта исторгнуло «у-и», и он упал. Вода забилась в нос, уши.
Нелепо-то как! Позорно батьке сделалось бы. Его сына, рыболова от бога, свалил на закорки лещ. Ни медведь, ни акула, ни ещё какое зверьё познатней. Скользкая слабость каталась в горле, рвал глотку грозный клич, но выходило сплошное поверженное бульканье.
Цепляясь за стебли подручных растений, барахтаясь, как дитя в луже, горестный и рассерженный, поднялся Яша. Убористо отплевался. Позыркал кругом, протолкался вперёд через тростниковы столбы.
Ослизлое удилище качалось на поверхности воды, стержень удочки маячил посреди рогоза. Яша поднял её и заметил, что шнур остался целёхонький. И – диво божье – зацепился ли лещ, подавился ли кукольной мошкой, только на том конце шнура чуялась тяжесть. Ведомый нитью, Яша подался дальше.
Мурашками осыпало спину, руки. Зря выбросил он батькин оберег от пакости нечистой.
Под упавшими листьями ивы сидела полурыба-получеловек. Русалка, стал быть, как есть русалка. «Во, шо поймал ты, Яша. Наглу кирпату14 ты поймал». Словно читая мысли, прозвенела нечисть:
– Разве кто смерть тебе пророчил? – чист её голос был, как утренняя роса, и до боли, до заунывной боли в фалангах, знакомым показался. Яша ободрился, харкнул смачно, хорохорясь, мол, на те, нечистая сила, не боюсь я тобе и козней твоих.
Красивущая, зараза, была, и неведомо-далёкая, не из этого мира, как радуга после первомайской грозы. Что тысяча горных самоцветов, переливалась чешуя хвоста. «В такой хвостине навалом костей и максы на уху», – сказал в Яше рыболов. Но другое, несравнимо возвышенное, неопределённое чувство полоскало в груди. Хотелось забыть дышать, сесть и смотреть до скончания дней житушных на мёд волос, оплетенных паутиной из водного лютика, сетку аккуратно сложенной гидриллы, сложное сплетение цветков сусака, заменивших серьги. Навершие этой сложной диадемки составила пахучая кувшинка на макушке.
– Панна, кубыть вырядилась так? – Не мог Яша перепутать Василису ни с кем. То же громоздко-неописуемое вызывала она из глубин души. Сидя на выступе заплеска, Василиса обернулась, весь её головной убор заволновался, рябь пошла по ручьям волос.
Лицо её, продолговатое, прямое, заострённое в подбородке как снежная шапочка горы, в кой-то веки не было подёрнуто строгостью. Улыбалось, светилось её лицо, и свет тот шёл из каких-то невидимых недр. Яша не смог не ухмыльнуться в ответ.
– Шо ж такое, панна? Пропадаешь невесть куды, а после шутками соришь?
– Какие тут шутки, Яша? Устала я от нашей жизни суматной. – Всё тот же говор с приподнятым «а» бился в речи её. Этого хватало, чтобы знать – перед ним знакомая до мелких черточек панна, а не нечисть какая.
– Устала я… А ты не устал, Яша?
Он пожал плечами.
– Знаешь, не будет всего этого скоро. Не будет леса, охоты, рыбы.
– И шо поделать? Не краять же г’орло себе и не вешаться. Оно ж хто знает, как случиться может. Может, не будет завтра и меня самого, мож, не будет солнца и земли нашей. Шо, туперя топиться идти? Не, панна, житуй, коль дана жизнь.
– Разве что-то о смерти говорилось?
– Об чём же гутаришь, панна?
– О чём-то большем, чем нагла кирпата, – передразнила она. – Почему сразу смерть, Яша? Когда обрыдла жизнь, что ты делаешь, чтобы дальше жить?
– Так она мне не обрыдла.
– Не обрыдла, конечно… – и вздохнула смиренно. – Зачем тебе рыба тогда? А зверь? А лес? Зачем тебе охота, как не за облегчением?
– Так я проживати на это.
– Но другие живут без этого. Без леса, без охоты, без рыбы на ужин и зайца на обед. И дело тут не в привычках красивой жизни. Зачем тебе лес?
– Не проживати мне без даров его. Не смогу я.
– Зверя вы делите с участковым, остальное ты скармливаешь батракам и матери. Рыба твоя идёт на продажу соседям и в центр. Тебе мало что остаётся. Ты не кормишься лесными плодами. Зачем тебе лес?
– Неньку кормить.
– Так у матери твоей хозяйство, коров стайка15, гусей выводок, кур сарай, крольчатины амбар. С этого она и кормится. Зачем тебе лес?
Яша задумчиво поскрёб щетину, коснулся мокрыми пальцами лба. Голова слегка кружилась, как от дурмана или махорки.
– Зачем тебе лес?
– Любоватися им. Отдыхать тут, искать покоя и…
– Щастья, – прошелестела Василиса с таким смягченным звуком, будто нянчила дитя. – Не будет тебе скоро счастья, Яша. Увезут вместе с обрубками леса. И не будет покоя. Вы с участковым всю лисицу постреляли, глухарь валит с этих мест, глохнет от ваших выстрелов. Будет тебе покой после того, как ты узнал это? Ты ищешь в лесу отрады, как ребёнок ищет сон в объятиях матери, но ты хуже, чем дитя, сосущее молоко, ты убиваешь мать. Ты не царь горы, не царь зверей и леса, ты прикормыш, скребущий по сусекам лесным, и не будет тебе покоя, пока обдираешь лес.
– Баско с тобой, проклятая! Сяк дитя мать убивати, от любви и убивати! Так уж везде повелось: дюжий хилым ужинает. Ты не мне, ты природе скажи! Законам рода. Не я так завел…
– Но ты продолжил. А чем платил ты за плоды леса?
– Силищой, временем своим потраченным.
– Этим ты не платил, это – твое орудие в погоне за дичью. Мошкара, и та, твоей мазью убивается, и кровью ты не платил. А расплачиваться придется сполна.
Яша заскрёб пальцем по щетине, подкрутил ус. Чешуя теперь так блистала, что в глазах рябило и отдавало болью; цветущие водоросли в волосах оборотились мёртвой тиной, и Василиса казалась дотошно правильной учителкой, придурковатой бабёнкой с вечным назиданием за пазухой.
– Не мила я тебе больше? – она надломлено усмехнулась и вдруг распростёрла тонкие, полупрозрачно светящиеся руки. – Ты пойдём со мной, Яша. С кем ещё ты найдёшь покой? Я тебя сберегу.
– Тю, ополоумела, панна! Не пойду! Баско с тобой, хвостатая супостатина.
– И никогда, значит, не нужна была, – заключила чисто бабье, дурное и взбалмошное. – Нужна буду, найдёшь. А как найдёшь, тогда сберегу тебя.
Истощилось её сияние, иссякло и потухло. Василиса поникла, и в движениях её появилась слабость. «Сберегу тебя, сберегу», – исступленно шептали розовато-земляничные губы.
– Собе бы лучше сберегла, – через силу выдавил Яша.
Морок рассеялся. Проснулся Яша, пригвождённый к земле у бережка. Осока щекотала нос, уха чадила рыбой, от собственной кожи несло антикомариной «Дэтой». Такое и во сне не померещится, ясно же, сила злая постаралась. И леща в Тупиковой речке никогда не водилось, и русалок тем боле. Зря оберег батькин выбросил…
Хотя какой там! Небось, солнце хорошенько припекло – июльское, нещадное, воспалило разум. Всё же Яша с неодолимой надеждой обернулся. Если это не дурной морок, если сейчас Василиса вернётся, он без раздумий кинется за ней.
«Обрыдло все. Обрыдло», – сокрушённо думал он.
Но вода колыхалась в привычном танце, умиротворенно плескалась рыба. Ничто и никто не нарушал речного покоя.
Неужто только горячечный сон? Яша взялся за комель удочки, но рыбачить теперь не хотелось. «Чем отплатил ты за свое потребительство?» Ничем. Пока что.
Вот бы знак какой, что то не просто солнце припекло, разбередив воображение…
Где-то в лесных закромах раздался собачий лай. Птицы взвизгнули. Яша сжал удочку крепче, как меч. Из мелколистного куста ажины выглянула собачья морда. Пёс глубоко дышал. Знак заветный?..
– Гвидон. – Яша натужено вспомнил кличку соседской дворняги. Увереннее позвал: – Гвидон!
В одну секунду прыжком Гвидон оказался рядом, бросил странный предмет к ногам Яши и отпрыгнул обратно. Застыл, глядя ожидающе и внимательно. Нечто было медвежьей лапкой. Декоративной, украшенной тесьмой по основанию. Определённо, знак.
– И зачем это? – куда-то ввысь спросил Яша. Ответа не последовало. Всё так же дребезжали турчекли, и мелко дрожали листья.
Лапка была высушенная, худая и далёкая от первоначальных размеров. Поэтому едва ли походила на медвежью. Только в общих чертах.
– Замест батькиного талисмана? – гадал Яша. Гвидон тявкнул, и всё вдруг стало ясно. Как если бы сложные узоры на ковре разом слились в один.
Яша пошатнулся от целой волны внятных мыслей и чётких ответов. Посмотрел на течение реки, на скоростную стремнину и затенённый урез воды. Там сидела панна. И то был не сон.
Берегини так просто не являются. Да ещё и в обличье полюбовниц.
– Ну, шо. – Яша прочистил горло, сглотнул мокро́ту. – Пойдём, Гвидон. У нас дюже много дел. – И сунул лапку в карман.
***
Суета и тлен всё! Какие слова, и какие верные! Яша давненько смотрел советский фильм «Андрей Рублёв» и всё позабыл напрочь. А вот эту фразу, высказанную каким-то дьяконом иль схимником, иль хрипуном, помнил, как дорогу домой. Яше всегда было дико интересно: хорошо это или плохо, что всё тлен и суета? Но ответ так и не пришёл. Затаился где-то под кустом или травинкой, и забыл прийти.
– А ты как думашь? – не сбавляя шага, спросил Яша. Гвидон всеобъясняюще тявкнул.
Суходольное пастбище растекалось широким раздольем перед лесом. Многолетняя тутошняя трава имела особый запах. И мятная свежесть, и ягодная сладость, и первое молоко, и широкая степь, и вечность. Целая помесь запахов, среди которых потеряешься, пропадёшь – и сразу на небеси можно.
И если бы не органический запах животных испражнений, если бы не паразитная мошкара, пробирающаяся под самую кожу, если бы не мучительно изжаривающее солнце, может, Яша действительно полюбил бы голые равнины скотного выгона. Невозможность скрыться где-нибудь под ивовым навесом или разлечься на перине мягкой травы, а тем более, словить какого зверя, убивала всю прелесть.
Гришку он нашёл у сухостойного, почти облезшего куста боярышника, недалеко от лесополосы.
– Добрый день! – обращая на себя внимание, крикнул Яша и тут же вляпался в свежую кучу. – Баско! Брыдкая курва!
Гришка рассмеялся.
– Да вы радуйтесь, Яков Богданович! Считайте, вас земля поцеловала.
– Та ежи б я так челомкался, меня б все бабы боялись. Я тобе друг’а твово привёл.
Гвидон уже нёсся к хозяину с душевным лаем.
– Гвидон! Вернулся! – Гришка поднялся и в порыве припал к собаке. – Живой! Целый! Невредимый!
Яша, морщась, отирал ботинки о стебли люцерны. В лесу испуганно застрекотала сорока.
– Спасибо вам большое, Яков Богданович! – мальчишеские глаза искрились благодарностью и неподдельной признательностью. Яша непроизвольно улыбнулся и сел рядом, обрывая изогнутую ветку боярышника. Ягоды ещё не созрели, но уже налились, крепко и тяжело оттягивая куст, словно тысяча женских грудей. Яша подкрутил ус.
– Где вы нашли Гвидона, Яков Богданович?
– В лесу. И я б сказовати, шо это он меня нашёл. Хороший у тебя цуцик, его б на охоту брать.
– Цуцик – это собака?
Яша кивнул, смолчав про медвежью лапку. Он отдавал себе отчёт, что впадает в пустые суеверия, но всё-таки верил в особую силу, двигавшую последними событиями. И верил, что Гришка был каким-то необходимым элементом, должным указать ему путь дальше.
Гришка Флоров, школьник-подросточек, работал у Яши и его матери пастухом. Он прилежно учился в школе, у него было добродушное светлое лицо и непокорный квадратный подбородок, жёсткое выражение, смягченное серо-зелёными глазами – лицо простого работяги. И обращался к Яше не как остальные «Яшка» или просто «Эй», а прибегал к официозу. Это всё, что знал о Гришке Яша, и этого было достаточно.
– Спасибо вам большое! Я вам кулебяку принесу. Она вкусная. Во всех Тупиках такой не найти! – Гришка не переставал счастливо гладить весело подрагивавшего пса. Яша рассмеялся, от нечего делать обламывая боярышник. – Как вы нашли меня?
– Ты шо думашь, я не знаю, хто у меня скотарём работает и где? Грошь мне тогда цена как хозяину. – Снова затрещала сорока. На самом деле, Яша вызнал у матери, чей был пёс, и где искать хозяина-мальчишку. Немало мать подивилась, что он проявил интерес к батраку. В кой-то веки.
Разговор шёл так же плохо, как цебуля16 под водку. Яша вздохнул.
– Шо это у тобе? – уцепился Яша, ткнув пальцем в пучок ржи, перепоясанный и бережно положенный около Гришки. Мальчик подобрался, прикрыл ладонью.
– Это так, ничего.
– На г’адание какое или обряд? Я ког’да на охоту иду, тоже слова особенные приговариваю. Но рассказать про них не мог’у. Секрет. – И доверительно подмигнул. Гришка усмехнулся, но глядел так же испытующе.
– У нас же сегодня по старому обряду Прокопьев день, – медленно пояснил он, заглядывая Яше в глаза. – Я ходил на покос ржи. Взял пучок с первого снопа, сохраню до осени. Это чтобы урожай был хороший. Потом принесу в дом. Это, чтобы дома всё ладно было. Вымету им сор в сентябре.
– То-то я г’ляжу, у нас неурожаев не бывати.
– Это да. Я же не первый год делаю. Как бабушка показала. После того голодного года пару лет назад. С тех пор так и делаю.
Яша задумался. Всё это было интересно только в силу недавно произошедшего. В другое время он бы уже уснул под такие непрактичные россказни.
– И много ты таких полезных обрядов зноваешь? – спросил он. Гришка нахмурился, сощурился, посмотрев на раскалившееся солнце среди облаков.
– Да как-то и вспомнить не могу.
Гвидон залаял яростно и взволнованно, в неясном настроении бросился к рогатым, пасшимся у холмистого горизонта. Всё это было неспроста.
– Я знал, что Гвидон вернётся, – признался Гришка, сжимая колени. – Он умный, не потеряется. И мой самый верный друг. С ним не пропадёшь. Это верно, что на охоте он бы сгодился. Он и в пастушестве полезен. Я вот вспомнил такое поверье. В старые времена русы же не в одного бога верили. И был у них такой бог в виде собаки. Он как бы охранял скот и поля с выращиваемыми посевами. Со злаками всякими. Я вот так смотрю иногда… А чем Гвидон не эта собака?
– Ну, хотя бы тем, шо он кобель, а не собака, – мрачно заметил Яша. – А еще тем, шо у той собаки крылья есть. И зовут её… то ли Симаргл, то ли Переплут.
Гришка с удивлением расширил детские глаза, как будто перед ним чудо божественное свершилось.
– А ты думал, я вашу русскую историю не учил? – злорадно торжествовал Яша. – Все вы, кацапы17, с одного поля…
– Пойду я, послежу за скотом. А то там Нюрка что-то отстала, – смущённо объяснил Гришка, поднимаясь. Его тень, тонкая и высокая как жердь, упала на Яшу и будто перекрыла весь мир. Яша вздрогнул, почувствовав за собой вину. Обидел он мальчишку, и тот решил быстрее ретироваться.
Облака, похожие на перья, воздушные и разлатые, облепили солнце. Усталость и разморённость разом напали на Яшу. Слышнее стал перезвон балабонов и тише – мычанье коров.
«Динь-дон. Динь-дон. Динь-дон». Суета и тлен. Тлен и суета. Может, просто выдумка. Или же судьба.
Снилось всё то же пастбище. Но без скота и без пастуха. Небо было тёмно-серое, и тучи плыли прямо на Яшу, разлёгшегося у куста. У куста плакун-травы, разросшейся к небу сиреневыми цветками, как зубья короны. Стебли были высокие, плоды крупные и липкие. Плакун плакал, и его капли падали на лицо Яше.
Он проснулся, хотя и не спал. Тучи потекли быстрее, стали темнее, выявив огромную тень крыльев.
Резкий порыв ветра заставил Яшу подняться. Во-первых, Симаргл все-таки оказался кобелём, что доказывало причинное место. Во-вторых, он был раз в десять больше Гвидона. В-третьих, он был овчаркой, и эта деталь поразила Яшу больше всего. В вышину в нем можно было насчитать саженя два-три, глаза неожиданным образом были обычными, хотя Яша представлял, что они должны светиться, как у псов Баскервилей. Но они были карими и такими огромными и бездонными, что человек мог бы уместиться в них и потонуть, как в чане, полном звериной свирепости.
«Динь-Дон», – скорбно, отдавая плачущим эхом, зазвенело невесть где.
– Узнаёшь звон? – спросил Симаргл. Голос у него был густой и басистый, помноженный на суровость. Как будто сама земля или небо заговорило во всю мощь глотки. – Узнаёшь звон?
– Нэ. Шо це?
– Слушай.
«Динь-Дон».
– Монастырь наш в деревне.
– Он уже не ваш. И не в деревне. И ты тоже.
– Я тоже не ваш? – подшутил Яша.– Причем тут я?
– Кто ты?
Всё вокруг забрызгало слезами плакуна.
– Я Яков Богданович Рубан. Проживати я рыболовлей и охотой. И ничуть не считаю, шо це есть потребительство. – Яша ощущал себя подсудимым, который, как в настоящем суде, не совсем понимал, за что его судят.
Симаргл покачал головой, и ветер вокруг него завился кудряшками. Ответ ему не понравился.
– Кто ты?
– Я Яков Богданович Рубан…
– Где ты родился?
– В Киеве. Там жил батька.
– Где ты рос?
– Под Московией. Тут живёт моя мать. – Наконец, Яша подумал, что уловил общее направление мыслей и опустил глаза. Смотреть на огромного сурового пса снизу вверх и без того было сомнительным удовольствием, а теперь стало совсем невыносимо.
– Кто ты?
– Не знаю.
– Где ты родился?
– В Киеве.
– Где ты рос?
– В Тупиках. Но и Киев когда-то был столицей не Украины, а Руси… – не сразу до него дошёл смысл собственных слов. Батька бы пренебрежительно выдал: «Обрусел», а мать, пожалуй, ничего бы не сказала, только по-лисьи улыбнулась. – Это ещё нишо не значит.
Снова звон разнёсся по пастбищу, перекрывая прочие звуки.
– Монастыря уже нет, – огласил приговор Симаргл.
– Шо це вдруг?
– А ты есть?
Яша промолчал и сник. Бог не бог, а Яша дурак что ли, чтобы с ним как с дураком говорили?
– Ну, хватит! – скомандовал он. – Докучаешь без толку.
– Полетишь? – перебил пёс.
– Полечу, – как-то облегчённо выдохнул Яша, до конца сам не зная, на что подписался.
При всех габаритах Симаргл развернулся удивительно легко, словно весил меньше кило. Лёг грациозно по-кошачьи, по-птичьи поджав крылья. Яша долго не думал. Вообще не думал. Ни о чём.
Поначалу запутался в длинной шерсти, а потом понял, что за неё надо цепляться, как в детстве за сучья деревьев. Так и вскарабкался. По пути разглядев нечто чёрное. Если у бога были блохи, то и они были божественны – такого размера, что могли бы откусить Яше голову, но видимо, божественная кровь была вкуснее.
Когда-то давно – так давно, что, пожалуй, было неправдой – он мечтал стать лётчиком. А вместо этого стал попутчиком. Это рассмешило и расслабило его настолько, что он слегка заскользил по холму позвонка и чуть не слетел. Высоту они набрали даже быстрее МиГ-31, Яша и глазом моргнуть не успел, как их окружил сонм облаков.
Много в каких фильмах показывают полёт на птице или драконе. Но в реальности всё не так. Не было желания зачерпнуть облако рукой и завизжать от восторга. И хоть Яша не страдал боязнью высоты, сейчас он думал только о тысячах метрах под собой и о том, что ноги, как ни поставь, скользят. Он принял позу охотника, представив, что завалился в траве и выслеживает тетерева. Вот только Симаргл не походил на неповоротливого индюка, а его влажная жёсткая шерсть – на заросли. Яша ощущал себя скорее жуком на спине того волка, который обитал в чащобе Тупикового леса, и которого он давненько поставил целью пристрелить.
Они летели выше и выше. «Ему не хватает чувства меры», – удручённо подумал Яша, совсем лишаясь опоры и переходя в вертикальное положение.
К солнцу. Они летели прямо к солнцу. Он понял это, когда первая капля пота стекла по лицу. А потом глаза заслезились от ужасного жара. Пёс разогнался, и мир, вращаясь, как глобус, вспыхнул под зеницей солнца.
Стало непереносимо. Яша понял, каково рыбе, вялящейся на летнем зное. Солнце стало таким огромным, что они точно должны были уже вылететь в космос, но небо сохраняло глубокий синий оттенок. Яша закричал, у него плавилась роговица, сушились губы, и кожу разрывало от ожогов. Не выдержал и разжал захват. И полетел прямо в солнце. Или все-таки в котлы глаз Симаргла… Уже трудно было разобрать.
Только когда плоть солнца соприкоснулась с телом Яши, оказалось, что это церковный золотой купол. Купол разбился, и Яша упал, пустив пыль по мраморному полу. Наскоро отдышался и поднялся. Место было заброшенное. Это была церковь, стоявшая на отшибе Тупиков, и знакомые пейзажи в разбитых окнах свидетельствовали о том.
Яша поёжился. Не нравились ему храмы и божьи дома. Воспоминания о прошлых грешках начинали ворошить душу. Вот он крадёт у мамки деньги, чтобы купить ружьё. Посреди ночи душит соседского гуся за кошмарный гогот. Портит молодых девок. Яша схватился за голову, унимая злокозненные картинки воспоминаний.
Он был не один. Бабёнка в красном оборванном русском сарафане что-то царапала на стене камешком. На голове у неё был расписной венец, волосы спрятаны под белой тканью до плеч, обрамлённой жемчужными обнизями. Лица не было видно, как не было наверняка слышно, что она бормотала себе под нос. Когда она привстала, Яша заметил военные совдеповские сапоги под юбкой и присвистнул.
– Хто такая бушь?
– Покамест Предславой звали. Святая великогрешница. Токмо святой меня так и не признали. И греха настоящего не совершала.
– Это как?
– А ты как суеверным неверующим стал?
– Дрынкалишь18 больно много. – Яша подкрутил ус и уселся на выбитую колонну. – Княжной бувати, значит?
– Была княжной. Опосля померла. – Она закончила своё дело и села напротив. Тень из-под дыры в куполе скрыла её лицо. «Говеть = гореть» прочел Яша её послание на стене.
– Почто ж святая? И почто грешница?
– Святая – за то, что свою веру и себя от врагов сберегла. А грешница – что отца и веру его отвергла. У тебя сигаретки не будет?
Ничуть не смущённый, Яша сунул руку в карман, вытащил пачку крепеньких, предложил княжне. На свету стала видна её рука – мёртвая, вылинявшая, как краска на монастырских стенах. Он так и не понял, как она подкурила сигарету: огонь появился словно из пальцев – по одному мановению, ни звука кресало или серников.
Яшу слегка развезло от табака, и это доказывало, что всё творится наяву.
Сигарета догорела до самого основания и чуть не коснулась пальцев. Интересно было понаблюдать, что мёртвой коже от горящего пепла будет. Но княжна, не глядя на руку, бросила папиросу.
– Гутаришь, шо ты святая великог’решница… Шо ж за вера у тобе?
– Хвалу я воздавала Ладе и Маре. И требу им клала. Любовь им отдавала. А в дни Красной горки я Лёлей бывала. Меня все крестили дщерью великой. Красавкой была я поболе других.
– Шо ж за вера у батьки твово была?
– Он в Перуне веровал. И мы все тоже. Опосля токмо взбрело отцу что-то, и он покрестился. А нас всех «погаными» прозвал. Подручники19 за ним пошли. А мы, дети-поганые, так со своей верой и остались, не захотели креститься. Как он помер, братья распри за́чали. Много крови полили. Я за младшего стояла. Я ему и помогла Великим князем стать. Ды когда супостаты явились, они и катуну20 его забрали и меня тоже. Токмо брат как Великим князем сделался, про нас не вспомнил. Новую катуну завёл, крестился и веру старую, матери нашей, забыл. А я не забыла. Царь польский на остров меня посадил. Новому богу учил молиться. Токмо я всегда за старых богов была. Поганой была, поганой померла.
– У вас завсег’да так с Россией было, – отмахнулся Яша. – Скока ей вер навязывали, скока моралей. И всё принимала, всё перенимала. И чужое, и своё – всё в одном котле варится, кипит. Страшно уже пробовать варево это. А вот стоит же она, такая-рассякая, всё принимающая, и ещё скока простоит.
– А ты, неверующий, чем согрешил?
Яша присвистнул:
– Да знаешь, поболе, чем ты-то. Людей не бил. Зато воровал и обманывал сколько. И не жалею, и не каюсь. Так оно, значит, надо было, и горевать поздно. И баско!
– Что за «баско» такое? Любо тебе аль плохо? Не пойму.
Ёмкое, как хлопок по столу, ободряющее «баско21» заменяло Яше и матюки, и выражало красоту, и радость, и негодование. Но он никогда не задумывался над его значением.
– Батька мой так говорил. Я и перенял.
– А много в тебе батькиного?
– Дюже много. А в тебе?
– И от отца, и от матери хватает. Дай-ка ещё закурю. Так давно цигарки в роту не держала.
– Дюже много ты куришь.
Он намеренно коснулся её руки, пока передавал сигарету. Ладонь была холодной, слегка мокрой и почти просвечивала на свету.
– Ты утопла, – догадался он.
– Сама скинулась. Ждала брата в плену у польского царя. Долго ждала. Терпела долго. А потом как узнала, что брат новую катуну завёл, при живой прежней, что новую веру принял, так не выдержала. Сбросилась с окна в озеро у острова. Чего напраслину гнать? Давай о тебе. Говоришь, не горюешь из-за грехов своих. Скажи тогда, зачем кумира поставил? Зачем вызвал его, оже помогать не собирался?
– Я не вызывал никог’о. Мне столб деревянный дед отдал в расчёт за рыбу. А я шо? Я рад, вещь баско хороша. Чай бы не поставить г’де? Любоватися. А потом как в лесу наших супостатов приметил, так и решил припугнуть и собе развлечь.
– Ты возвеселился, а отвечать за то кто будет? Расплачиваться тоже надо. Лапку держишь, а в ней сила. Бери да с пользой применяй.
– А ты поможешь мне?
– А я чего? – Она чиркнула невидимыми серниками, и рядом зажегся примус с пометкой «Комоедица», почерневший от копоти, и облезший от едкого пламени. Лицо у княжны было тонкое, глаза чуть раскосые, как у лани, длинный тонкий нос и узкие поджатые губы.
– Ты себе сам поможешь. И ей.
– Кому?
– Берегине твоей. Аль не помнишь, как сбросил её?
Яша начал задыхаться. В горле спёрло, невидимая петля затянулась на шее.
Качался, шепча свои крамолы, камыш. Сипло пела луна с седым ореолом волос. Одинаково узкая в плечах и бёдрах фигура застыла на причале. «Ты спесив и дик». Она отвергла его. Гордыня ломается больно. Хрустит, как ломкие сухие кости. Так же хрустнул её позвоночник, когда он толкнул её , попав пятерней между лопаток. Тело упало и почти неслышно соприкоснулось с водой.
– Неправда. Я не делал тог’о.
Когда Яша открыл глаза, храм цвёл красочными иконами и горел множеством свечей. Как будто и не разрушали его. С иконостаса сверкали очами святые, точно живые – в языках пламени.
Княжна тоже была чисто одета. В парадное платье из аксамита. На плечах висели бармы – расписной воротник со вставками икон. Только в её иконы были вписаны изображения других богов. Языческих. Догадался Яша. Он вгляделся в её лицо. Сглотнул ком. Василиса смотрела с колким укором.
Свечи потухли, всё вокруг заполнила вода. Они будто оказались на дне океана, и сверху тонкая струя света пронзала затопленную церковь.


