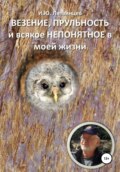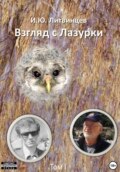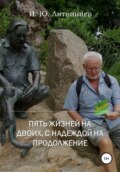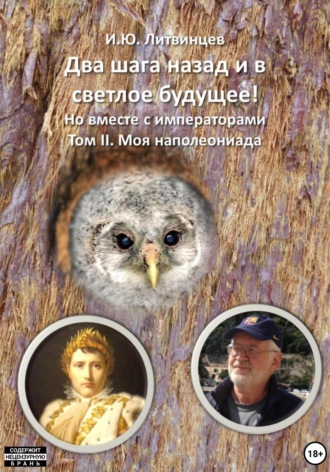
Игорь Юрьевич Литвинцев
Два шага назад и в светлое будущее! Но вместе с императорами. Том II. Моя наполеониада
Естественно, что между этими антагонистическими силами все это время продолжалась борьба за власть и господство над всем островом. В Пумонте к концу 10 века ее возглавили бароны (графы) Чинарка. (Чуть не забыл добавить, что район Кап Корсо – корсиканского мыса или полуострова, тоже оставался под властью местных баронов, которые не ладили ни с Пумонте, ни с Сисмонте).
Такая постоянная борьба первым надоела жителям Терры. И в долине Моросалья было проведено собрание руководителей всех коммун под управлением главы одной из них («капорале») Аландо с целью поиска путей установления мира и верховенства закона на всем острове. Эта область включала в себя в тот момент 12 автономных коммун с выборным органом (подеста) у каждой. По одному представителю от подест избиралось в Высший совет, которому в Терре и принадлежала законодательная и исполнительная власть. На этот раз (1012 г.) собрание пришло к выводу, что им самим с проблемой установления права закона по всему острову не справиться. И в надежде покорить диких баронов юга и Кар Корсо Совет Терры решил обратиться за помощью к тосканскому маркграфу Вильгельму (формально этому маршу власть на Корсике и принадлежала, но в Тоскане и своих проблем хватало, не до диковатых соседей было).
Но на этот раз Вильгельм согласился прийти и порядок навести. Сначала, казалось, что у него это получится. К 1020 году объединенным отрядам графа и Терры удалось даже графов Чинарка с острова изгнать и снизить остроту противостояния с баронами Пумонте. Но лишь частично, а когда маркграф передал власть на Корсике своему сыну, то у того дела с принуждением баронства к миру совсем не пошли. И тогда совет Терры решил обратиться за помощью к папству.
Церковь была единственной надеждой для местных жителей в их непрерывной многовековой борьбе против мусульман, вот и теперь они понадеялись на ее авторитет для прекращения внутреннего беспредела. Такой прецедент уже имел место – в 590-604 гг. папа Григорий I сумел превратить остров в миссионерскую область во время своего понтификата. Именно тогда и была предпринята первая попытка создания централизованной административной структуры, поддержанная всем населением, но… из этого ничего не вышло, хотя епископы продолжали оставаться народными лидерами.
И папство тут же вспомнило о своих правах на Корсику, якобы подаренных церкви еще Карлом Великим. Фактически тот только пообещал вернуть раскраденные церковные земли, но кто станет разбираться в таких мелочах – тем более что обращение за помощью было, ну как не воспользоваться моментом (как я уже отмечал – духовенство Корсики действительно представляло на острове реальную силу по влиянию на общественное мнение).
Вот в 1077 г. папа Григорий VII и объявил, что он направляет или назначает Ландульфа, епископа богатой торговой республики Пизы, в качестве своего апостольского легата на остров – другими словами, сдает остров Пизе в аренду (хитрое решение: и самим влезать в местные разборки не придется и, разумеется, Пизе это обошлось совсем не дешево, хотя официально в договоре фигурировали очень смешные суммы). В 1092 г. новый папа Урбан II преобразовал епископство Пизы в архиепископство и передал ему всю власть над корсиканской церковью. Таким образом, Пизу (в то время мощную морскую державу) наделили всеми полномочиями по восстановлению порядка на острове и жизни, достойной христиан (фактически официально оформили захват Корсики, по примеру подобной операции уже проведенной ею с соседней Сардинией.)
По сравнению с тем, что творилось до этого, владычество пизанцев (осуществляемое при посредстве их шести епископов и длившееся около двух столетий) было очень неплохим периодом в жизни Корсики. И до сих пор некоторые церкви и соборы напоминают о нем как свидетели относительно мирной жизни островитян в 11-12 веках. Пизантцы мудро не затрагивали системы самоуправления и не торопились облагать аборигенов большими налогами. Для этой Республики основная ценность острова заключалась в его лесных богатствах – источнике строительной древесины для пизанского флота – и в использовании гаваней в качестве перевалочного пункта торговли (в основном – работорговли). Все шло неплохо, даже междоусобицы притихли, но на горизонте уже замаячил внешний кризис.
Сначала архиепископы соседней генуэзской торговой республики предъявили папству свои религиозные права на Корсику. И оно (по достаточно понятным причинам – Генуя финансово поощрила очередного папу) пошло им навстречу. Да и формально этим торговцам до Корсики было гораздо ближе, чем Пизе.
В 1133 г. Иннокентий II разделил епископства Корсики пополам между архиепископами Генуи и Пизы (конечно, это еще и отражало те политические и экономические изменения, которые происходили в этих республиках). Дружеским отношениям Пизы и Генуи (а ведь еще недавно они активно сотрудничали и сообща изгоняли мусульман не только из Сардинии, но и со всего восточного Средиземноморья) пришел конец. А начавшиеся торговые распри были перенесены на Корсику, где сразу возникло противостояние епископов, а затем и их прихожан.
Дальше больше – во второй половине 12 века война между соперниками обострилась, и в 1195 г. Генуя уже военным путем захватила Бонифачо. В течение следующих двадцати лет пизанцы пытались его вернуть дипломатическими путями, но папство опять было не на их стороне. И в 1217 г. Гонорий III подтвердил права Генуи на Бонифачо. Воспользовавшись ситуацией, генуэзцы начали обработку всех корсиканцев, завлекая к переходу от пизанцев под их руку. Для начала стелили мягко. В качестве примера будущей хорошей жизни предоставили жителям этого города гражданские права и ограниченное самоуправление. Такую же политику проводили и в Кальви, основанном в 1278 г.
Но постепенно это относительно мирное перетягивание корсиканцев на свою сторону переросло в беспощадную битву между Генуей и Пизой за военное и торговое доминирование на всем острове. И продолжалось в течение всего 13 века, принимая разные формы, в частности и в виде выяснения отношений между сторонниками гвельфов и гибеллинов. В него быстренько вплелись и возобновившиеся разборки между вождями Терры и отрядами вернувшихся графов Чинарка. Совет Терры опять пригласил родственника Вильгельма Маласпину возглавить ее отряды (и тот явился, естественно, с отрядом наемников). И так эта неразбериха с выяснениями военным путем отношений Пизы, Генуи, Маласпины и Чинарка и продолжалась до конца столетия.
А ее исход решился совсем не на территории Корсики, а в морской битве флотов двух республик. Увядающая по ряду объективных причин Пиза не могла дальше достойно противостоять набравшей большую силу Генуе. И последняя нанесла решающий удар, победив в сражении при острове Мэлории в 1284 г. Весь флот пизанцев погиб. По заключенному между ними миру от 1299 г. остров целиком переходил к генуэзцам. (Последние затем в течение пяти столетий упорно пытались там полученное право реализовать, что у них иногда даже и получалось. Именно в эти периоды и были сооружены практически все основные защитные сооружения и цитадели, а также знаменитые сторожевые башни, окружающие остров по периметру и остающиеся по сию пору одними из его туристских достопримечательностей.)
Ниже вы увидите, какими непростыми были эти пять столетий для Генуи и для корсиканцев. Я, когда этот период изучал, вопрос себе постоянно задавал: а зачем генуэзцам это было надо? Такую строптивую колонию иметь – очень похоже на манипуляции с чемоданом без ручки. Неприятные сюрпризы ожидали их на протяжении всего этапа колонизации острова. Только кончались одни проблемы, начинались другие.
Вот и на этот раз вроде разобрались с Пизой, чуть снизили напряжение между Террой и баронами, уговорили убраться Маласену – и на тебе, неожиданное решение папства. То ли Генуя ему не доплатила, решив, что все порешала напрямую с Пизой, то ли это было такое предложение со стороны, от которого очередной папа не смог отказаться. Но уже в 1298 г. Бонифаций VIII отдал весь остров в управление (пользование) верному и, наверно, очень щедрому слуге Церкви, королю Арагона Хайме I – в форме слепленного исключительно для него объединенного Сардинского королевства из почти бесхозной соседней Сардинии и генуэзской Корсики. Но то ли корсиканцам не понравилось такое беспардонное навязывание им очередного правителя, то ли «медовый период» отношений с Генуей еще продолжался, но общее собрание острова (и Совет шести от Пумонте, и двенадцати от Сисмонте выступили единым фронтом – редкое явление) в 1347 г. постановило остаться под управлением Генуи. А вот никаких арагонцев они не пожелали видеть. (И действительно, чего было не остаться – согласно обещаниям генуэзцев, подчинение обещало быть чисто символическим: Корсика «типа как» платит небольшой налог, Генуя себе торгует, а заодно и охраняет берега от набегов мавроберберских пиратов. Все местные законы соблюдаются. Управление происходит совместно с решениями обоих советов, а интересы острова в метрополии представляет и охраняет корсиканский представитель «ораторе». И даже коллегиальный орган управления Корсикой – «Маона» – был сформирован и должен был начать функционировать).
Естественно, все эти манипуляции Арагону совсем не понравились. Но для начала Хайме ограничился захватом Сардинии, тем более что с этим соседним островом проблем практически и не было: Пиза затухала и фактически самоустранилась от борьбы, а его население, в отличие от корсиканцев, было миролюбиво и терпеливо. Задачу аналогично разобраться с Корсикой он оставил своему преемнику (внуку) Педро IV, у которого дела действительно пошли веселее. В 1372 г. его корсиканский наемник Арриго делла Рока с помощью десанта и своих сторонников почти отобрал остров у Генуи (ей было не до колонии – в городе свирепствовала эпидемия чумы), но против Арагона уперлись бароны мыса Корсо. А в это время чума обрушилась и на остров, сокращая количество населения в некоторых районах до одной трети от еще недавнего уровня.
В таких условиях уже всем, включая арагонцев и баронов, было совсем не до военных действий. Вот и решили договариваться. В состав Маоны ввели Арриго делла Рокка. Всего там стало 5 членов, но уже к 1380 г. в результате ряда манипуляций, включающих добровольно-принудительные отставки, их осталось всего двое, по одному человеку от Генуи и Арагона. А когда в 1401 г. и Арриго умер, то генуэзец Леонелло Ломеллино остался в одиночестве и автоматически стал единоличным правителем Корсики. Тем временем сама Генуя попала в руки французов, и в 1407 г. Леонелло Ломеллино стал уже французским губернатором острова. А заодно и титул графа корсиканского получил от Карла (Шарля) Валуа VI. Это был первый заход Франции на остров – тихий, мирный и эффективный.
И сохранить его у себя помешала только политика ее собственного короля, не зря получившего прозвище Безумный (что уж про Корсику говорить: он, попав к бургундам в плен, собственный трон чуть Англии не уступил).
А тем временем пример Арриго делла Рока понравился еще одному корсиканскому наемнику на службе Арагона. Он решил учесть ошибки предшественника и, прежде чем высаживаться с десантом, договориться и с баронами, и с вождями Терры, тем более. что Ломеллино уже успел всем надоесть. Этого предусмотрительного арагонского корсиканца звали Винчентелло д’Истрия, и он, начав с Бастии, к 1410 г. захватил почти всю Корсику, за исключением Бонифачо и Кальви, оставшихся у генуэзцев. Этого ему хватило, чтобы себя любимого провозгласить графом.
Таким вот маневром остров еще раз оказался почти потерянным для Генуи, к тому времени ставшей опять независимой от Франции. Казалось бы, ситуация без шансов, тем более к Винчентелло должно было подойти арагонское подкрепление. Но… новоявленный граф переоценил свои возможности. Чужие ошибки учел, зато своих насовершал. Совсем зря начал враждовать с епископами Сисмонте, потерял там власть и, опасаясь за такое же негативное развитие событий и в Пумонте, решил сам отправиться на Пиренейский полуостров за подмогой. В его отсутствие генуэзцы почти вернули остров, но нарвались на новый внешний сюрприз – произошел раскол в католической Европе: за власть повели сражение двое пап.
Как же Корсика могла пропустить такую возможность и не поучаствовать в папских разборках? Вот ее жители и разделилась на сторонников папы Бенедикта XIII (в основном из прогенуэзской партии) и антипапы Иоанна XXIII (противников Генуи). Вернувшийся с арагонскими наемниками Винчентелло этой сумятицей воспользовался и смог легко захватил Чинарку и Аяччо, на этот раз уважительно договорился с епископами и нейтрализовал Терру. А в завершении еще и построил крепкий замок в Корте. И к 1419 г. ситуация вернулась на круги свои: у власти ставленник Арагона, а у генуэзцев опять только Бонифачо и Кальви. А потом еще и ухудшилась – в 1421 г. к острову подошел большой флот Альфонсо V Арагонского и захватил Кальви. Пока держался лишь Бонифачо. Казалось – вот она арагонская полная победа, договаривайтесь с корсиканцами, и Генуе конец. Но вместо этого самоуверенные арагонцы (король к советам Винчентелло не прислушался) сразу перегнули палку с налогами и, согласно местному обычаю, тут же нарвались на всеобщее восстание. Пришлось флоту (приближался сезон плохой погоды) снять осаду Бонифачо, и увезти короля Альфонсо на историческую родину.
А Винчентелло, которому такое вмешательство короля имидж очень сильно подпортило, разгоревшееся восстание подавить не смог, и генуэзцы прихватили его в Бастии в 1435 г., где и казнили, как мятежника.
Маятник качнулся в другую сторону, и теперь уже казалось, что к 1441 г. генуэзцы одержали полную победу над арагонцами. Но это была непредсказуемая Корсика. Справившись с внешним врагом, Генуя получила внутреннего. Началась настоящая гражданская война, вроде как между сторонниками Арагона и Генуи, но понимание всех ее причин так и осталось для историков тайной. А беспорядки достигли такого размаха, что в 1444 году в них решил вмешаться сам папа Евгений IV. Он послал туда армию в 14 тыс. наемников, но она была разбита лигой, сформированной из отрядов нескольких капорали и баронов под руководством Ринуччо де Лека. Папство такого унижения перенести не могло, и вторая военная экспедиция оказалась более успешной: Ринуччо де Лека был убит, войско лиги рассеяно.
По логике вещей, победа папства должна была подтвердить права Арагона, оно же ему их отдало! Но как вскоре выяснилось – ничего подобного. К власти уже пришел новый папа Николай V, который был по происхождению генуэзцем. Вот он взял да и вручил своим соотечественникам все права на Корсику, передав им заодно и все крепости, до этого момента удерживаемые папскими войсками. Казалось бы, чего еще лучше пожелать! Но опять ситуация стала развиваться по собственному сценарию: Юг, остался под властью графов Чинарка, продолжающих хоть и номинально, но числиться вассалами Арагона, а у Терра ди Коммуна в роли лидера вдруг возник представитель влиятельной генуэзской семьи Кампофрегозо (Кампо-Фрегозо или Фрегозо), у которого были свои собственные планы, с намерениями Республики не совпадавшие.
Вот он то и предложил передать управление острова Банку Сан-Джорджио, коммерческой корпорации, основанной в Генуе в прошлом веке. То есть почти Генуе, как возжелал папа, да не совсем. Его поддержали капители Терры (баронов решили не спрашивать). Банк их предложение принял и активно взялся за дело, естественно, руками наемников, подконтрольных ему и центральному правительству из представителей Терры. Сначала все знатные сторонники арагонцев начали изгоняться из страны, а потом новое правительство объявило войну всем баронам вообще. Их сопротивление было окончательно сломлено к 1460 г., недобитые и не покорившиеся сбежали и укрылись в Тоскане. Победа? Да ничего подобного – оказалось, что не все представители семьи Кампофрегозо являются сторонниками Банка. И некто Томмазино, мать которого была корсиканкой, решил, что банк выполнил свою миссию и может уйти, а владеть Корсикой должна только их семья. И к 1462 г. ему даже удалось закрепиться в центральной части острова, пожалуй, самое трудное дело осуществил. И опять показалось – вот он, корсиканский вождь, которого еще и семья Фрегозо поддержит, очень кстати забравшая власть в Генуе.
Но… неожиданный, но быстрый внешний сюрприз ждал и его. Два года спустя Франческо Сфорца, герцог Миланский, сверг власть семьи Кампофрегозо в Генуе и сразу же предъявил свои права и на Корсику. Его военному представителю не составило труда заставить Томмазино уступить. Финита ля комедия? Нет, в этом сериале продолжение следует.
Когда в 1466 г. Франческо Сфорца умер, Милану стало не до Корсики, хватало внутренних и пограничных разборок, и его сюзеренитет над островом стал чисто номинальным. Этим в 1484 г. воспользовался терпеливый Томмазино и убедил преемников герцога предоставить ему право на управление. А когда он в дополнение к полученным правам еще и женился на дочери Джана Паоло да Лека, самого могущественного из оставшихся баронов, то обеспечил себе поддержку Пумонте и стал реальным главой острова. И что вы себе думаете? Хотя он продолжал быть почти своим, терпения корсиканцев хватило только на три года, потом они снова подняли восстание и за поддержкой обратились к Якопо IV д’Аппиано, принцу Пьомбино (маленькое княжество – осколок бывшей Пизанской республики), предки которого (семья Маласпина) ранее уже приглашались править на Корсике. Якопо не поддался уговорам, но на этот призыв откликнулся его брат Герардо, граф Монтаньяно.
По-видимому, свой город-крепость ему показался слишком маленьким, и он решил стать еще и графом корсиканским. Высадившись на острове с отрядом наемников, он захватил Бигулью и Сан-Фьоренцо, после чего испугавшийся Томмазино да Кампофрегозо продал свои права, полученные от Милана, банку Сан-Джорджио (по секретному соглашению). Банк пришел ему на помощь и в союзе с отрядом Джан Паоло да Лека сумел разбить Герардо. И тут Томмазино передумал и попытался отказаться от своей сделки, типа «помогли, ну и спасибо – теперь можете уйти». Джан Паоло его поддержал, но Банк обиделся всерьез и пошел войной и на Томмазино, и на баронов. В результате тяжелых боев победил, и семья Джана Паоло вместе с зятем была выслана на Сардинию. Дважды его люди пытались вернуться, но безуспешно, а к 1511 г. и оставшиеся бароны были разгромлены. Банк силой закрепил свои права на владение всем островом.
Для чего я так подробно остановился на этом средневековом периоде истории Корсики? Чтобы вы представили весь этот ужас, который практически непрерывно творился на острове. Как пауки в банке, практически при отсутствии центральной власти, господство постоянно оспаривали три политические группировки: генуэзская, арагонская и, скажем так, патриотическая. А еще в местной борьбе без правил и снисхождений участвовали коммуны (а их руководители (капителы) не всегда придерживающиеся единства) и, конечно, бароны. Внутри все действительно кипело. А вот внешняя картина почти не менялась. Генуэзцы контролировали крепости, охраняя главные порты и основные прибрежные и морские торговые пути, и предпочитали в центральную часть острова не соваться. Одновременно чуть ли не в каждой маленькой бухте неплохо чувствовали себя разношерстные пираты. В деловых вопросах (только бизнес – ничего личного) они без проблем находили общий язык и с Генуей, и с местными вождями кланов. Неудивительно, что один из самых больших невольничьих рынков Западного Средиземноморья функционировал именно на этом острове. Практически до 17 века. Отсюда появилось и изображение раба-мавра на гербе и флаге Корсики (по моему, он больше на пирата-мавра похож).
Банк, благодаря решительным действиям отрядов своих наемников (между прочим, среди них был и основатель фамилии Бонапарти на острове), в начале 16 века власть действительно захватил. Но очень скоро стал ненавистен большинству корсиканцев. Да и военная жуть периода, наступившего после средневековой истории, еще себя не исчерпала.
В 1553-59 гг. на территории многострадального острова начались военные действия франко-корсиканских войск и османского флота против имперско-генуэзских сил.
Это был последний этап серии так называемых «итальянских» войн между Францией и Империей (борьба за Италию между Императором и королем Германии, а также одновременно и королем Испании Карлом V Габсбургом (1519-1556 гг.) и французским Генрихом II (он же Henri II; 1547-1559 гг.)
Корсиканские профранцузские силы возглавлял полковник Сампьеро, корсиканец по происхождению (его биографию и описание подвигов я уже привел в предыдущем разделе, как и краткие подробности этой островной войны). И вы уже знаете, что, когда французы, проиграв большую европейскую войну, были вынуждены вывести свои войска, Сампьеро самостоятельно вернулся на Корсику и продолжил борьбу уже за ее независимость, опираясь только на своих местных сторонников, которых было немало. Началась ожесточенная борьба между Генуей и местной знатью, жаждущей власти, без опеки надоевших торговцев. Долго с ним не удавалось справиться, так Сампьеро и остался героем легенд борьбы корсиканцев за свободу. Погиб он не побежденный, в 1567 г., попав в засаду родственников убитой им супруги, подкупленных генуэзцами. Жаркое пламя этой войны угасло только после его подлого убийства и на некоторое время наступило затишье, казалось, корсиканцы исчерпали весь запас пассионарности и выдохлись. Тем более, что в 1571 г. Генуя, не дожидаясь новых вспышек недовольства, решила перехватить управление островом у банка, ставшего уж очень ненавистным населению.
Последовавшее за этим почти полуторавековое «мирное сосуществование и даже относительное процветание» начало портиться по мере роста налогов. Вот не жилось торговцам спокойно. Ну и, конечно, дровишек в тлеющий костер ненависти к любому правительству (национальный корсиканский обычай) подбросило чрезвычайно непопулярное решение – запрет ношения оружия. И выросшее новое поколение корсиканцев, давно ни с кем не воевавшее, решило, что «так дальше жить нельзя». И жадные и недальновидные генуэзцы опять получили новые вспышки военного сопротивления. Причем в первой трети 18 века они начали происходить по всему острову – практически это было восстание, которое поддержали почти все знатные и значимые кланы страны от Сисмонте до Пумонте. Генуэзцы вдруг осознали, что отношение к ним стало еще более суровым, непримиримым и замкнутым, чем было до того. Более того, на этот раз всеобщее народное негодование возглавила группа семей, которым удалось договориться между собой: Чекальди, Джиафери, Паоли, Коста, Матра, Джаффори, Фабиани и другие. Генуэзцы потерпели в схватках несколько поражений и отступили из центра острова, ограничились охраной укрепленных крепостей-портов. А восставшим удалось получить из других стран (главным образом, от Османской империи и ее североафриканских сателлитов) оружие, амуницию и прочие военные припасы и укрепить свое положение полу независимости.
Оценив серьезность опасности, Генуя уже традиционно обратилась за помощью к Императору, который и предоставил в ее распоряжение восемь тысяч германских наемников под предводительством принца Людвига Вюртембергского. Это были опытные профессионалы, однако плохо представляющие, с кем им здесь придется иметь дело. После нескольких успешных схваток на побережье побед, они столкнулись с партизанской тактикой корсиканцев и начали проигрывать почти все сражения в горной местности, регулярно попадая в подготовленные засады и ловушки. Надолго их не хватило и убедившись в неподдельной храбрости и упорстве корсиканцев, принц предпочел выступить в роли посредника. И поспособствовав заключению перемирия в 1732 г., увез остатки своих отрядов на «континент». Как всегда, Генуя на переговорах обещала многое, но с выполнением не торопилась, и ожесточенная борьба вскоре началась заново.
К этому периоду относится очень интересное событие: 12 марта 1736 г. в Алерию на английском судне приехал полувосточно-полуевропейски одетый чужестранец с большой свитой и богатым запасом военных припасов. Это был вестфальский барон Теодор фон Нейгоф, авантюрист и кондотьер высокого полета. В ходе своей предыдущей жизни во Франции, Испании и Голландии он случайно познакомился с одним корсиканским монахом, который рассказал ему о злоключениях народа, уже давно борющегося за независимость. По его словам, для победы храбрецам не хватает только внутреннего единства и оружия. Вот тут у фон Нейгофа и возникло неодолимое желание помочь корсиканцам обрести в лице собственной персоны и вождя – объединителя нации и поставщика вооружения, но в ответ на предоставление ему титула короля Корсики. В Ливорно Теодор встретился с Ортикони, представителем восставших, а потом и с другими лидерами этого движения и много чего наобещал им, рассказав о своих близких связях и с европейскими дворами, и с правителями Порты, и практически неограниченных финансовых возможностях. Ну и в награду за будущие услуги потребовал себе королевскую корону авансом, прямо сейчас. Корсиканцы наверно еще не знали, что сначала надо требовать деньги, а потом уже и о стульях договариваться, но терять то руководству было нечего. Да и обещания были заманчивы, и они решили, что лучше попробовать поддаться этому сладкоречивому господину, чем продолжать терпеть ненавистное ярмо генуэзского владычества даже на побережье.
И фон Нейгоф действительно начал свою деятельность с реальных дел: демонстрации оружия, амуниции и подарков. На Корсику он прибыл из Туниса с богатым грузом, встреченным вождями восставших с ликованием. Своей щедростью в раздаче титулов и распределении подарков он им глянулся, и этого хватило, чтобы 14 апреля торжественно провозгласить барона королем Корсики Теодором I. Самое интересное, что он и сам с энтузиазмом вознамерился сразу приступить к полезным нововведениям и реформам по европейским образцам, но… проблема их финансирования всплыла очень быстро. Налоги-то платить не хотел никто, и вопрос «где обещанные деньги, Теодор?» задавался все чаще. Однако дальнейших поступлений ни от султана, ни от бея, обещавших устами нового корсиканского короля помочь и деньгами, и снаряжением, и людьми, не последовало. Жители острова, как всегда, быстро вспыхнули, но быстро и охладели.
В результате в молодом королевстве Корсика тут же произошло образование партии республиканцев, под давлением которой монарх 10 ноября того же 1736 г. покинул свои владения, официально для получения займа в Амстердаме, но перед отъездом учредив регентство, состоявшее из трех человек: Паоли (отец), Джиофери и д'Орнано. И… на некоторое время пропал. Потом попытался вернуться и не совсем чтобы с пустыми руками, но местные лидеры уже в нем разочаровались, а, может, и поумнели под собственным руководством. По крайней мере, встретили Теодора I достаточно холодно и попросили для начала выполнить прежние обещания в полном объеме, а не ограничиваться подачками. Он опять наобещал много-чего и уехал, а когда попытался вернуться еще раз, его уже просто не пустили на остров.
Как ни странно, он на этот раз даже деньги в каком-то количестве нашел, но это же Корсика, В июне 1743 г. на острове уже была совсем иная ситуация, «образ его окончательно покинул сердца корсиканцев» и они отправили его, прямо «намекнув», что видеть больше не хотят совсем (правда, все привезенное забрали, как это было и в прошлый раз – не пропадать же добру). Вот после такого фиаско, первый и единственный в истории Корсики король и умер в изгнании в 1756 г., всеми забытый и одинокий (по некоторым данным, не совсем так: от долговой тюрьмы Лондона его все-таки спасла подписка, организованная его прежними британскими знакомыми).
А корсиканцы снова оказались предоставлены самим себе, но уже с республиканскими принципами. Их мужество и решимость на этот раз непременно добиться победы не ослабло. С присущим им упорством они продолжили свою борьбу с генуэзцами, не оставляя их в покое на всей территории острова.
Последним, судя по всему, все это уже сильно надоело. Да и собственных сил даже на охрану крепостей уже не хватало. Вот и вынуждены были торговцы обратиться за помощью к своему прежнему противнику – французскому королю. Тот прореагировал положительно и прислал им на помощь три тысячи человек под предводительством графа де Буассие. Подоплека подобного решения была понятна: давайте попробуем вмешаться, как бы и не сильно вмешиваясь такими незначительными силами, а там видно будет. У Генуи все равно нет денег, чтобы платить наемникам, вот и зацепимся за остров. Так оно и получилось. И хотя боевой дух французского отряда графа в ходе беспрерывной и жестокой борьбы с повстанцами довольно скоро испарился, ожидаемое продолжение последовало: Людовик XV послал подкрепление в виде гораздо более многочисленного и профессионального войска во главе с маркизом де Мейбуа.
С такой армией корсиканцы справиться не могли, отошли в горы, и большая часть Северной Корсики оказалась в руках французов. Это было их третье пришествие, но им опять не повезло. Вспыхнувшая в Европе война за «австрийское наследство» заставила Францию о второстепенном забыть и в сентябре 1741 г. срочно начать переброску войск с Корсики на Рейн.
Подарок судьбы для островитян и удар для Генуи. А тут последовал и второй: экономике республики (долгое время следовавшей в кильватере испанской) стало совсем плохо – и стране пришлось прежде всего думать о собственном выживании, буквально бороться за существование.
Вот Джаффори и Матра, представляющие Сисмонте и Пумонте, соответственно, и стоящие во главе их вооруженных формирований, решили использовать эту ситуацию, чтобы навсегда избавиться от ненавистного генуэзского господства. Опять начались масштабные военные действия уже на побережье. Казалось, успех близок, но в 1753 г. в городской перестрелке (группа наемных стрелков ждала его в засаде на улицах Корте) был убит Джан Пьетро Джаффори, и в рядах инсургентов возникла некая сумятица. А тут еще и марионеточный король сардинский, надеющийся на помощь англичан, начал демонстрировать агрессивную активность. Корсиканцам нельзя было медлить, но предводители Сисмонте Сантини, Фредиани, Гримальди, Ц(Ч)ервони и Паоли (Климент) долго не могли определиться с кандидатурой нового вождя, которая устраивала бы всех. И, как часто бывает в истории, решили поискать ее на стороне, но на этот раз – только из своих. И сошлись на предложении «священника с сердцем солдата», Климента Паоли, попробовать в этой роли его младшего брата Паскуале, молодого и образованного офицера, состоявшего в то время на неаполитанской службе. Климент отрекомендовал его как опытного и решительного организатора, который не потянет «одеяло на себя». Он и сам был таким, что в условиях Корсики было очень важно. В итоге так и сделали. (В 1739 г., когда «генерал народа» Джачинто де Паоли был вынужден покинуть остров, он увез в итальянскую эмиграцию и 14-летнего сына Филиппо Антонио Паскуале, который сейчас и принял предложение своих соотечественников, прибыв 29 апреля 1755 г. для этого в Порраджио). Приехал и в 30-летнем возрасте был избран генерал-капитаном – правда, всего лишь кланами Пумонте.