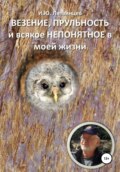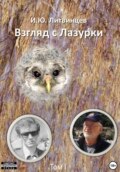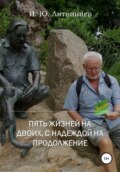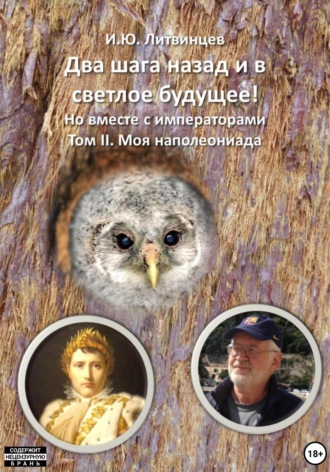
Игорь Юрьевич Литвинцев
Два шага назад и в светлое будущее! Но вместе с императорами. Том II. Моя наполеониада
Ну а для моего образования Энзо мне иногда выдавал и другие «корсиканские истории» со ссылкой на национальные обычаи и заветы великих предков – борцов за свободу острова, которая и сейчас продолжается. И все опять дружно кивали.
Так я впервые и услышал об истинном герое острова – Сампьеро. А когда признался, что вообще не знаю, кто это такой, то мне тут же было рассказано несколько душераздирающих подробностей из его жизни. Куча подвигов была перечислена: как его боялись генуэзцы, как пытали в тюрьме, как он ударом кинжала убил собственную супругу, выдавшую какие-то тайны повстанцев генуэзскому шпиону в сутане. Он громил врагов везде и всегда, но предатели его подло заманили в ловушку и убили, а отрезав голову, продали ее генуэзцам. Понял, что на его фоне «настоящего корсиканца всех времен» даже некто генерал Паоли слегка отдыхает, а Наполеон не котируется вообще! Мне стало так интересно, что я потом нашел его настоящую историю, которую и приведу ниже.
Краткая биография истинного корсиканца
Его настоящее имя, по-видимому, было Сампьеро де Бастелика, но всенародную известность он получил как Сампьеро Корсо. Согласно официальной легенде, это самый известный лидер повстанцев, герой борьбы за независимость Корсики от Генуи (на самом деле он оказался профессиональным наемником, действительно очень храбрым и удачливым, ставшим командиром корсиканского отряда французской королевской армии. Поэтому и принял самое активное участие в попытке отвоевать этот остров у Генуи для Франции и только после ее неудачного завершения начал свою собственную войну и превратился в борца за свободу острова для корсиканцев (только не говорите им про первую часть его эпопеи – это «табу»).
Еще будучи совсем молодым, он подался в Тоскану и начал службу в черных отрядах (конные наемники, вооруженные аркебузами, в форме с черными полосами под цвет герба нанимателей) личной армии Джованни Медичи, сына графини Катерины Сфорца. Потом предложил свои услуги королю Франции и в числе тысячи корсиканцев принимал участие в боевых действиях французской армии. Наверное, для смены обстановки, а скорее в поисках более выгодных условий найма со всем отрядом земляков в 1526 г. перешел под начало папы Климента VII, затем – кардинала Ипполито Медичи. Но ненадолго. Через два года отряд Сампьеро опять присоединился к армии маршала Лотрека, шедшего на Неаполь. В 1533 г. окончательно перешел к французам, получив чин полковника корсиканского подразделения. При осаде Перпиньяна спас жизнь дофина Франции, за что был лично награжден Франциском I. Ну и, кроме этого, во всех сражениях во главе корсиканского отряда наемников неоднократно отличался личной храбростью.
Воспользовавшись передышкой в войне (1544 г.) между Императором Священной Римской империи Карлом V и королем Франции Франциском I в блеске военной славы и заработанного богатства отправился на родной остров, где сумел очень удачно жениться на Ванине, единственной дочери Франческо д'Орнано, одного из самых богатых и влиятельных местных синьоров (баронов).
Ну и, по-видимому, вместо того, чтобы только наслаждаться жизнью с молодой супругой в собственном купленном доме, он вступил в контакты с представителями повстанческого движения, которое всегда существовало на острове, правда, в разной степени своего развития. Он еще ничего конкретного и сделать-то не успел, но генуэзцы, не зря опасающиеся его славы и влияния, пошли на превентивное задержание молодожена. Испугались появления потенциального вождя.
Держали его в тюрьме, в таких нечеловеческих условиях, которые должны были подтолкнуть узника к самоубийству. Знали бы тюремщики, с кем имеют дело, не придумывали бы такие хитрые ходы, просто убили бы при попытке к бегству. Но и они вендетты опасались.
Спасло его быстрое вмешательство французского короля Генриха II, потребовавшего немедленно освободить Сампьеро как офицера его армии и собственного спасителя. Выйдя из заключения, злой, но не сломленный, наш герой убедился, что генуэзцы сравняли его дом с землей. Для корсиканца это обида, которую можно смыть только кровью врагов. Вернувшись во Францию, он поклялся освободить остров от генуэзцев, а король, смотрящий вперед, присвоил ему в 1547 г. чин генерала-полковника (правда, корсиканской пехоты).
Неудивительно, что именно Сампьеро стал одним из главных организаторов и вдохновителей франко-корсиканско-турецкой военной экспедиции на Корсику в 1533 г. Короля Франции привлекало выгодное стратегическое положение острова, позволяющее контролировать пути сообщения континентальных Габсбургов (злейших противников) с Южной Италией. Сампьеро прекрасно знал характер своих земляков – вспыхивали, как солома, но и гасли так же быстро. Поэтому настаивал на молниеносном проведении операции. И сначала все шло согласно его раскладам. Корсиканские кондотьеры (включая примкнувшие к ним повстанческие отряды) пообещали (обратите внимание) «сражаться и умереть за Францию». Согласно обращению Сампьеро, все население должно было откликнуться на призыв «вставать под французские знамена!» Это работало, так как ненависть к генуэзцам была огромной. И его люди делали для победы все возможное. Именно им французское командование было в значительной степени обязано выигрышем серии сражений в этой кампании.
Начали с Бастии, и она была взята с ходу, несмотря на принятые адмиралом Андреа Дориа оборонительные меры по усилению ее гарнизона (корсиканские солдаты на службе Генуи просто открыли наступавшим соотечественникам ворота крепости).
После этого союзные войска легко овладели всем островом, практически везде встречая поддержку населения. Отряд Сампьеро самостоятельно захватил Корте и Аяччо. Французские части с его проводниками – остальные портовые города. Повторю – без активнейшего участия корсиканцев ничего подобного бы не случилось. Осталось занять только Бонифачо и Кальви.
Первую крепость уже 18 дней атаковали турки, а гарнизон, зная с кем имеет дело, отчаянно оборонялся, не соглашаясь на почетную капитуляцию. Обороной руководили мальтийские наемники-рыцари, последний семичасовой штурм турок им с трудом, но удалось отбить. Атакующая сторона, понесшая серьезные потери, была зла и жаждали мести и крови.
Французы использовали предателя и обороняющихся обманули, передав ложный приказ из Генуи о необходимости покинуть крепость, пообещав рыцарям соблюсти условия почетной капитуляции. Но турки, согласившись на эти условия, обманули французских союзников, и вышедший из крепости гарнизон был ими атакован и беспощадно вырезан, а потом ограблению и насилию подвергся и беззащитный город.
Узнав о судьбе Бонифачо, гарнизон Кальви стал обороняться еще упорнее, твердо рассчитывая на обещанную помощь имперцев (генуэзцы, понимая свою слабость, обратились за помощью к мощнейшим союзникам).
Эта экспедиция была лишь очередным эпизодом новой большой европейской войны Франции со Священной Римской империей германской нации (династий Валуа и Габсбургов). Как правильно планировал Сампьеро, чтобы его решить в свою пользу, надо было захватывать остров как можно быстрее, поставив противника перед уже свершившимся фактом. Но не получилось. На помощь защитникам Кальви подошло 26 галер с отборными испанскими отрядами, связь с осажденными по морю была налажена и на быстрое взятие этой крепости рассчитывать уже не приходилось. А тут еще и своенравные турки, которые должны были блокировать с моря эту бухту, увели свою эскадру.
Беда не приходит одна: честолюбивый французский главнокомандующий де Терм, не посоветовавшись с Сампьеро, вдруг потребовал от жителей острова принести присягу на верность французской короне. Это была недопустимая глупость. Многие корсиканцы, может, и были готовы это сделать, но добровольно, а не по принуждению, и их настроение стало меняться. А начальный энтузиазм затухать.
Война стала принимать затяжной характер, Империя продолжала присылать подкрепления, которые предприняли ряд серьезных контратак. Сражения уже шли по всему острову за каждый город, и инициатива переходила из рук в руки. Уступать не хотел никто.
Не буду останавливаться на всех перипетиях этих ожесточенных схваток. Сначала казалось, что имперцы, без проблем получающие постоянное подкрепление, одолевают. Восточная Корсика была ими уже захвачена. Но к концу года боев фортуна, похоже, начала склоняться на сторону корсикано-французских отрядов, в основном из-за отчаянных усилий отрядов Сампьеро, разбивших имперцев на перевале Тенде. Они вернули Корте и почти всю потерянную ранее территорию. Война стала принимать «буквально звериный характер, вследствие старой ненависти между французами и испанцами, корсиканцами и генуэзцами». И бои между армейскими частями, и партизанские действия корсиканского ополчения сопровождались разрушениями и грабежами, пленных не щадили, как и друг друга. Очень мешало отсутствие согласованности действий между французским руководством и Сампьеро.
И чтобы решить эту проблему, осенью 1554 г. он был отозван во Францию для консультаций. В этот момент под властью имперцев по-прежнему находились Кальви да отвоеванные ими крепости Сен-Флорана и Бастии. На этих позициях стороны и оставались, заключив перемирие до весны 1555 г. Имперцы дождались нового крупного подкрепления, чтобы опять перейти к атакам по всему острову. Но французские галеры (28 штук с 7 ротами пехотинцев) сумели прорваться и тоже доставить долгожданное подкрепление. Война на время приняла позиционный и вялотекущий характер. Обе стороны понимали, что ее исход будет решен в ходе основных сражений в Европе. Вернувшийся на остров, Сампьеро опять призвал соотечественников к оружию. И даже генеральная консульта под его председательством все-таки приняла решение о присоединении острова к Франции.
Де Терма король отозвал, но начались трения между Сампьеро и новым главнокомандующим французскими отрядами лейтенант-генералом Джордано Орсини. Дело дошло до прямого соперничества, и Сампьеро опять отбыл во Францию, чтобы прояснять свой статус на острове.
А тем временем становилось все понятнее, что потерпевшая общее поражение в большой европейской войне Франция не сможет больше оказывать поддержку своим частям на Корсике. И по условиям Като-Камбрезийского мира, подписанного в апреле 1559 г., французы были вынуждены их эвакуировать и остров покинуть. Казалось, план Сампьеро полностью провалился, но он не захотел смириться с поражением и решил продолжать борьбу. К кому он только не обращался за поддержкой: к Екатерине Медичи, ненавидящей генуэзцев, к королю Наварры, к алжирскому бею, даже до Константинополя добрался. Везде его встречали благосклонно, но дальше неопределенных обещаний дело не шло.
Может быть, именно в приступе отчаяния в Марселе он и совершил свой самый корсиканский поступок, который, между прочим, только прибавил ему обожания на родине. Обвинив свою супругу, которая должна была дожидаться его в аббатстве Экса, в сотрудничестве с генуэзцами, он приговорил ее к смерти. (А они действительно уговорили ее вернуться на остров, к родным. Люди Сампьеро успели перехватить генуэзский корабль с его семьей на борту в момент отплытия. По одной из версий, один из аббатов, имеющий на нее влияние, был их тайным агентом.) И (как говорят, по ее просьбе) разгневанный муж сам и привел приговор в исполнении, задушив шарфом. Вот это накал страстей – покусилась Ванина на святое – его любовь к родине – и поплатилась!
После этого поступка французская королева отказала ему от двора, и он год прожил у Екатерины Медичи, упорно подготавливая свою миссию.
В июне 1564 г. высадился в заливе Валлинко с отрядом численностью не больше 40 чел. Но по мере продвижения вглубь острова количество его сторонников росло как на дрожжах, его призыв «я пришел ради свободы моей бедной Родины» был нов и притягателен. И Сампьеро удалось выиграть ряд небольших сражений (а главное – ни одного не проиграть), что резко увеличило его популярность. Генуэзцы озаботились серьезно и отправили на остров значительные силы под командованием Стефано Дориа. Но Сампьеро разбил и их, после чего новая консульта по его инициативе обратилась за помощью к Франции (предлог был, Генуя нарушила некие статьи мирного договора). Императору Карлу, похоже, вечные плачи Генуи, которая не может сама разобраться с проблемами своей колонии, надоели, и на этот раз в качестве поддержки он выслал торговцам 13 знамен с девизом «Pugna pro patria» и чуть-чуть подсластил пилюлю деньгами. А повстанцы тем временем добили отряд Дориа в сражении при Сен-Флоране, захватив весь обоз и много военного снаряжения.
В 1556 г. наступило некое вынужденное перемирие: генуэзцы лезть в корсиканские горы не хотели, средств на наемников у них не было, а повстанцы для продвижения к побережью нуждались в военных припасах и оружии. И тут в Генуе вспомнили про старый, но очень эффективный обычай – вендетту (тем более, что семья Орнано уже пообещала за убийство Сампьеро 200 золотых дукатов – надо же им было отомстить за убитую дочь Ванину).
Они нашли трех ее кузенов, и разговоры о чести семьи и долге перед сестрой, ненависти к ее убивцу и т.д. подкрепили обещаниями передать братьям всю собственность семьи Орнано (но потом), а сразу – выплатить премию, оценив его голову в 4000 золотых. И кузены решились, придя к логичному выводу, что лучше не тратить семейные деньги на наемного убийцу, а рискнуть и сделать это самим, заработав в 20 раз больше. Тем более с помощью генуэзских связей на острове. Ну а дальше – дело техники, были подкуплены два человека в ближайшем окружении Сампьеро, уговорившие его под каким-то важным предлогом на безопасную поездку в нужном направлении. Он отправился без охраны и попал в засаду. Один из братьев по имени Микеланджело застрелил Сампьеро из аркебузы, а его отрубленную голову отвез губернатору в Аяччо. По этому случаю последний устроил салют и пригоршнями бросал в толпу деньги из окон своего дворца.
Так и погиб этот герой народных легенд, с которым почти 20 лет генуэзцам не удавалось справиться. Его мемориал, открытый на родине героя в Бастелике, особенно почти 4-метровая фигура на коне действительно впечатляет. Сам видел, а вот почему в Кальви его именем названы казармы, не знаю, и мои вопросы к местным гидам так и остались без ответа.
Хорошо, что я не знал подробностей его жизни еще раньше: если бы стал доказывать марсельским корсиканцам, что их герой вообще сначала воевал за французов, меня бы точно из бара выставили! Ну а если бы заикнулся про тот факт, что супругу он шарфиком придушил, а не кинжал воткнул в ее подлое сердце, могли бы и прибить бы на месте.
Корсиканские ослики и сегодняшние реалии
Даже когда я попробовал рассказать правду Элен (Helene) – корсиканке, работавшей в институте, где я стажировался, эффект был очень показательным. Рядышком с ней трудилась мадмуазель Луиза Ассударьян, кончившая химический институт в Ереване и очень помогавшая мне разбираться со всеми нюансами французского марсельского языка, тем более при изложении подробностей таких сложных исторических повествований. Уже к середине рассказа Элен попросила меня остановиться.
– Даже если это правда, – сказала она. – Я такую версию слушать не хочу. Уверена, что ее наши французские «братья» придумали. Лучше расскажи мне, что тебе в баре напели. Про свои уникальные ребра рассказывали? Которые якобы не позволяют им работать. И про корсиканскую исключительность тоже? Очень знакомый репертуар. Ты их не слушай – это все местные… (и она добавила несколько слов на арго, которые красочно повествовали, чьи они дети, чего у них нет и что есть вместо мозгов). Островные корсиканцы совсем не такие. Настоящие труженики и очень терпеливые, но работы на всех нет, поэтому бедные. Да и туристы их сильно развращают.
– Ну да, – сказал я. – И у них только один недостаток – как настоящие корсиканские мужчины они слишком сильно любят свои семьи.
Она задумчиво на меня посмотрела, мимикой показала, что попытку пошутить оценила и ответила:
– Да, тут ты прав. Но они не только семьи любят. Еще и осликов, причем и в прямом, и в переносном смысле: знаешь, какую вкусную вяленую колбасу у нас из них делают! Вот завтра принесу – попробуете, – и засмеялась. И я понял, что чувство юмора (а, по-моему, это очень привлекательная и хорошо характеризующая здоровье нации черта) у корсиканок (по крайней мере) точно присутствует.
Ну а если сами захотите получить представление о людях острова из первоисточников, то я вам советую начать с книги Джеймса Босуэлла «Описание Корсики: с разными при том важными по сие время неизвестными приключениями о Паскале Паоле корсиканском генерале» (1769 г.) Почувствуете атмосферу последних деньков независимой Республики – книга несколько раз с успехом переиздавалась в Европе, переведена на русский.
И почти современную (на русский тоже переведена в 1961 г.) немца Фреда Вандера «Корсика еще не открыта». Когда он туда собрался в 1956 г., его предупреждали: «Не ездите – ничего интересного, остров, который ничего не дал миру, кроме каштанов, козьего сыра, солдат и французских чиновников. Ну, правда, можно посмотреть на красивую природу и встретиться с его неизменными обитателями: осликами и свиньями». Но он не послушался, поехал и написал о том, что реально увидел и с кем встретился.
Ну а уже после этого можно ознакомиться с работами очень хорошей писательницы Дороти Каррингтон «This Corsica» (1962 г.) и «A Portrait Of Corsica» (1971 г.), которые в свое время были награждены премией Хайнемана «Granite Island» и до сих пор одинаково вдохновляют и простых путешественников-туристов, и журналистов, и считаются одними из лучших на эту тему. И чтобы отдохнуть от английского (перевода на русский пока нет) – с вами готова поделиться впечатлениями нашего времени (2019 г.) Елена Стогова: «Кое-что про Корсику и корсиканцев» (в интернете). Достаточно туристских и субъективных, но красочных заметок.
А если туда соберетесь, то не забывайте, что борьба за независимость продолжается. Выстрелов и взрывов, слава богу, уже не слышно, но напряжение присутствует. Сейчас упор сделан на политические способы борьбы – в основном выступают за признание легитимным родного языка.
Корсика – единственный департамент Франции, где ни одна из основных «континентальных» партий не котируется вообще и на выборах не может набрать больше 1-2 процентов. Побеждают только местные, но, согласно национальному обычаю, не могут между собой договориться (правда, недавно это с большим трудом получилось, но, думаю, ненадолго).
III. История Корсики
За три месяца до рождения Наполеоне Корсика стала французской, значит, и он по рождению – француз. Но долго не хотел с этим смириться и упорно считал себя корсиканцем. А французов ненавидел и называл завоевателями и оккупантами.
В молодости несколько лет даже писал труд по истории Корсики, очень серьезно к нему относился и неоднократно пытался довести до конца. В итоге – не получилось, жизнь замотала, и работа так и не была завершена. Из всего написанного сохранилось меньше одной тетрадки. А жаль. Вот я и решил восполнить этот пробел (это конечно шутка, но в ней достаточно правды. Попробуйте найти качественную книгу на эту тему. Интересно, что у вас получится. Я исходный материал по кусочкам долго собирал. Сначала написал короткий обзор, но… как всегда, меня понесло. И я не жалею – дальше поймете почему).
История этого острова на самом деле очень интересна и уходит корнями в такую глубь времен, что лучше туда долго и не всматриваться – затягивает. Одно перечисление нашествий говорит само за себя: древние сарды со своей оригинальной культурой, непрерывная череда визитеров-торговцев-завоевателей: греки-фокийцы, финикийцы, карфагеняне, греки-сицилийцы, этруски, задержавшиеся на три столетия. От этого времени осталось немного свидетельств – отрывки легенд, копии записок древних историков и темнота веков.
Понятно, почему корсиканскую историю сравнивают с глубоким колодцем, в котором мало что можно рассмотреть. Но одновременно есть и иной образ – постоянно кипящий событиями котел, в котором, как в калейдоскопе, происходит постоянная смена картинок, такая, что голова тоже может закружиться. Как ни странно – оба представления верны, просто последовательно расположены во времени.
Включите воображение и представьте себе стеклянный высокий сосуд типа греческой племохойи или бокала на полой расширяющейся кверху ножке, увенчанного шарообразной емкостью. Представили? А теперь я предлагаю читателям подняться снизу вверх вдоль такой вазы (как на фуникулере или лифте) от едва различимого прошлого к бурлящему средневековью и еще более беспокойному по сравнению с ним – следующему этапу корсиканской истории.
На самом дне колодца с трудом просматриваются следы культурного влияния соседей-сардов (в виде археологических находок, возраст которых сначала определяли 6 веком до н. э., а теперь уже 9). На них наслаиваются свидетельства визитов торговцев-грабителей-завоевателей (слова в любом порядке можно менять), выше уже упомянутых: греки-фокийцы, финикийцы, карфагеняне, этруски. Воюя, конкурируя, а иногда и сотрудничая между собой, надолго в покое местных жителей они не оставляли.
В основном все вели борьбу только за места на побережье, не рискуя забираться в горную и труднопроходимую часть острова. Иногда даже успевали основать и более-менее освоить город-форпост (классический пример – нынешняя Алерия на восточном берегу, преемница самого древнего фокийского порта – Алалии – 564 г. до н. э.) Какие битвы за обладание этим портом происходили!
В конечном итоге греков из него выдавил союзный этрусско-карфагенянский флот, но и они вынуждены были его покинуть в результате пунических войн (259 г. до н. э.). Сципион Африканский во главе римских войск зачищая остров от карфагенян, выбив их и из Алалии.
И только после этого, в эпоху античности наступил некий внешний покой. Самый большой хищник того времени Рим присоединил остров к своему государству и целых 4 столетия особых проблем у берегов Корсики не было. Хотя сначала отношения у них с коренным населением складывались непросто (почти как всегда – завоевание внутренних областей так и осталось незавершенным). Но и на побережье для подавления последних очагов сопротивления потребовалось немало времени и сил – 7 лет сопротивлялись аборигены (при несравнимом соотношении сил). Но в итоге наступило время мира и активного сельскохозяйственного развития прибрежных районов. А вот в центральную часть римляне по-прежнему предпочитали только карательные экспедиции посылать, в основном за рабами, да и те большим спросом у них не пользовались – слишком строптивыми были.
Что их всех привлекало: центральное и стратегически выгодное положение острова, возможность промежуточного базирования в его удобных гаванях, лес и его древесина, пастбища и земли плодородного побережья. Конкуренция играла большую роль и девиз оставался постоянным: «лучше захватить самим, чтобы чужим не достался», пусть даже и очень потенциальному врагу. Вот остров (и в древности, и в средние века) был объектом постоянной борьбы внешних сил, сопровождаемой непрерывным бурлением страстей его жителей, которых как военный материал использовали конкуренты в своих разборках в первую очередь. Но хочу еще раз подчеркнуть непреходящий фактор: всем завоевателям нужна была территория, а вот проживающий на ней народ им только мешал, тем более, что и взять-то с него было практически нечего, а вот нрав был уж очень воинственный, вздорный и несговорчивый.
Как написал один из наших современников в сознательно примитивно грубоватой манере: жили там сельские деревенщины, разводившие коз и овец, гнавшие виноградный алкоголь и жмавшие масло из оливок. Ни на что больше корсиканцы были неспособны – для торговли остров бесполезный, ибо с него вывозить нечего, ввозить тоже нечего, ибо платить за импорт особо нечем, ну и народец там обитал злобный, дикий и непокорный. Но за неимением другого приходилось завоевателям и к этому приспосабливаться.
В 230 г. до н. э. остров был частью римской провинции Сардиния и Корсика. К первому столетию н. э. на нем насчитывалось уже больше З0 поселений городского типа (правда, больше похожих на слабо укрепленные деревни – основные пункты торговых операций). Тогда же вокруг них быстро начало распространяться христианство, прочно укоренившееся среди местного населения.
Время шло, Империя сменила Республику, остров то становился отдельной сенаторской провинцией, то опять переходил под имперское управление, что не сильно влияло на его внутреннюю жизнь. Но спокойный период уже заканчивался, незыблемый, казалось бы, Вечный Рим под непрерывными атаками варваров начал разваливаться и в начале 5 века центральное правительство Западной Империи потеряло свою власть над Корсикой. Рим рухнул, а вместе с ним закончился и античный покой.
Со сменяющих друг друга вторжений различных германских племен начался период раннего, но бурного средневековья. Его окончанием историки считают момент подчинения Корсики власти генуэзского Банка Сан-Джорджо (в 1511 г.)
Если заглянуть в совсем короткий исторический справочник и только перечислить основные реперные точки этого периода, то уже можно представить, что тут творилось: сначала остров стал предметом последовательных военных разборок между ост- и вестготами, римскими федератами, поселившимися на землях вдоль побережья, и вандалами, основавшими королевство в Тунисе.
В 410 г. на остров вторглись вестготы. Через 50 лет – вандалы, которым была нужна база для нападений на материковую Италию. В 469 г. их король Гейзерих завершил покорение острова и в течение полувека они сохраняли свое господство, активно используя корсиканские леса для добычи ценной древесину для флота. В Африке такого богатства точно не было.
Затем их оттуда выставила Византийская империя, проводящая масштабную операцию по освоению (рекультивации) почти всего побережья Восточного Средиземноморья. В начале шестого века (534 г.) Кирилл, лейтенант ромейского полководца Велизария, восстановил имперское правление на Корсике, и остров был передан под управление недавно созданной преторианской префектуры Африки. Однако даже экзархат не смог защитить остров от набегов остготов и лангобардов, которые в 568 г. вторглись в Италию и стали претендовать на владения некоторых из ее портовых городов.
Дальше – хуже, в 709 г. Ромейская империя вследствие войн с армией династии Омейядов потеряла власть и над африканской материковой территорией. И по мере ее ослабления частота сарацинских пиратских налетов увеличивалась (их первый набег на Корсику относят к 713 г.), а затем эти вооруженные визиты переросли в нашествие.
Чтобы не дать мусульманам захватить остров (или под предлогом этого), туда вторгся Лиутпранд, король лангобардов (примерно в 725 г.), после чего византийская власть, бывшая и так почти номинальной, вообще сошла на нет. Но лангобарды задержались там недолго.
В 774 г. франкский король Карл Великий, завоевав их королевства в Италии, прихватил заодно и Корсику, включив ее в состав своей Каролингской империи. Однако мусульманские набеги не прекращались, изменился только их качественный состав. В 806 г. произошло первое вторжение (из последовавшей потом серии) испанских мавров. И хотя защитники время от времени одерживали над ними верх, нападения надолго не прекращались.
Мусульмане под разными именами, но остававшиеся все время непримиримыми врагами Церкви, беспощадно грабили и опустошали прибрежные районы острова, разрушая в первую очередь все здания, имеющие отношение к религии. Борьбу с ними сначала вели лангобарды, а затем, прикрываясь теми же лозунгами, и другие их европейские сменщики. Кто только не пытался закрепиться на Корсике! И так продолжалось больше столетия. Подробных и достоверных сведений об этом периоде не очень много – его тоже можно отнести к достаточно темным временам корсиканской истории. Зато очень хорошо известен его результат – жить на побережье стало практически невозможно, почти все города, церкви и монастыри были разрушены, все выжившее христианское население было вынуждено уйти в горы.
В 828 г. защитой Корсики озаботился Бонифаций II, маркграф Тосканский, граф Луккский, ставший с этого года еще и графом. Он сумел заметно потеснить уже укрепившихся там мусульман и построил на юге острова крепость, которая до сих пор носит его имя (Бонифачо). В течение следующего столетия Корсика официально считалась частью марша Тосканы (пограничного образования Священной Римской Империи), но полностью очистить ее территорию от мусульман не смог ни он, ни его сын Адальберт I. И, несмотря на все их усилия, те еще владели частью острова до 930 года.
А в 935 г. появилась новая угроза – к его берегам подошел мощный флот династии Фатимидов. К счастью для его жителей, искатели легкой добычи быстро убедились, что побережье уже ограблено до них и поплыли дальше – грабить и капитально осваивать юг Италии. Такому флоту даже объединенные силы христиан вряд ли смогли бы противостоять, тем более что в их рядах тогда особого порядка не было.
Так итальянский король Беренгар II в ходе своих разборок с Императором Оттоном (Отто) I прихватил себе мимоходом и Корсику, куда сбежал его сын, когда императорские войска вторглись в Италию. Но это их не спасло, они оба плохо кончили: папаша умер в заточении, а сын был отправлен в изгнание. А вот Отто I остался в истории под именем Великий.
Окончательно укрепить имперскую власть на Корсике, а заодно и покончить с мусульманами удалось его преемнику – Отто (Оттону) II. К этому времени корсиканцы, вытесненные в горные районы, вернулись к прекрасно освоенным ранее приемам партизанской войны: нападать внезапно из засад и беспощадно расправляться с пришельцами. И продолжали выживать, скрываясь в горных лесах при малейшей опасности.
Но, как ни странно (а, может, и наоборот – именно от такой жизни), единения между ними не было, война на острове велась не только против пришельцев, а по принципу «все против всех». После ухода мусульман жители стали возвращаться и снова занимать прибрежные районы: ну разве не повод для войн за землю? В результате сначала повсеместно образовалось много мелких феодальных владений. А в итоге длительных переделов земельной собственности на острове сложился режим двоевластия, с веками он устоялся и превратился в их исторический этно-географический феномен. Юго-запад (Над(На)горье или на корсиканском Пумонте) стал страной крупных феодалов (баронов) и получил название Терра ди Синьори (Земля господ), а Северо-восток (Загорье или Сисмонте) – Терра ди коммуне (Земля коммун или просто Терра). На этой территории, состоящей из нескольких объединений мелких землевладельцев, все крупные бароны к 1002 году были перебиты в результате так называемого «восстания народов» (по-видимому, народов коммун).