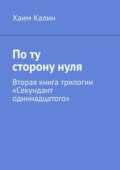Хаим Калин
Под солнцем и богом
Глава 24
В Ебби-Бу царил настоящий переполох. В последний раз нечто подобное замечалось в шестидесятом, когда французы, покидая Чад, эвакуировали свой гарнизон. Но тогда, демонтируя колониальную инфраструктуру, белые уходили. Сегодня же, напротив, не весть откуда взявшиеся разноязыкие европейцы заполонили этот ветхий, страдающий от жуткой антисанитарии, на границе Ливией городок. Запрудили причем не числом (было их не более сотни), а мобильностью уклада: круглосуточно носились на джипах, гудели клаксонами, разгоняя беспечно снующих на проезжей части горожан, внезапно исчезали и объявлялись вновь.
Внешний вид пришельцев был также в диковинку, стягивая зевак. Во всем Ебби-Бу – не более трех десятков фотоаппаратов, у гостей же на шеях таковых бывало и по паре. Их плечевую разновидность кто-то из местных всезнаек поначалу окрестил оптическим ружьем, иными словами, фотоаппаратом для съемки на больших расстояниях. Но когда, в конце концов, выяснилось, что «ружье» – устройство для киносъемки, гости свои камеры попрятали, ибо спасу от назойливых мальчишек не было. В Ебби-Бу в кино ходили по большим праздникам и преимущественно люди состоятельные. Двухчасовое путешествие в сказочный мир для большинства граждан – неподъемная трата.
В единственной на весь город гостинице вывесили на входе табличку «Мест нет», впервые в ее истории. Между тем новые гости все прибывали и прибывали. Для размещения вновь прибывших переоборудовали несколько пустовавших в средней школе классов. Селили, как в казарме, по пять, а под конец – и десять человек в комнате.
На крохотном отделении связи то и дело вспыхивали конфликты. Его оккупировали те самые европейцы, нареченные веселеньким, но неясным по смыслу словом «журналист». Схватывались из-за каждой мелочи: протяженности телефонных переговоров, попыток влезть вне очереди и элементарного недопонимания. Английский, произвольно возникший как язык группового общения, был для большинства неродным.
Оператору узла связи понадобилось содействие на постоянной основе – некоторые названия городов, прежде ему не встречавшиеся (да и откуда – все Марсель, Тулуза, Париж[67]), адресуя заказ в Нджамену, не мог нормально выговорить. Писаки тут же сориентировались, упросив журналиста из «Пари Матэн»[68] заделаться связником-переводчиком. Не за красивые глаза, конечно: эфир, когда вздумается, и еще кой-какие поблажки.
Между тем немецкий звучал чаще, чем прочая речь, что неудивительно – журналистов из ФРГ в Ебби-Бу собралось более двух десятков.
Западногерманская колония, успевшая оккупировать гостиницу, держалась дружно. Но из этой группы явно выпадали четыре газетчика из «Зюддойче цайтунг». По их горделивой осанке прочитывалось: все вы здесь примазавшиеся, с подачи у «Зюддойче цайтунг». Кто, как не мы, выявили след выживших в авиакатастрофе рейса «Мюнхен-Йоханнесбург» – сенсация номер один стронувшегося года.
Поначалу пишущее братство подбивало к ним клинья, но в какой-то момент унюхало: мюнхенцам известно не многим более, чем «Зюддойче цайтунг» о сенсации опубликовала. Их сдержанная манера поведения говорила: статус – ожидание. Правда, не с моря погоды, как все прочие, точно слепые котята не ведающие, куда сунуться в чужом, цивилизацией не обласканном крае, а результатов облавы, развернутой чадской полицией и военными, которые – сомнений не возникало – этой газетой прикормлены. Местные Пинкертоны общались лишь с ними, всем прочим в интервью отказывали.
На третий после журналистского десанта день в стане «Зюддойче цайтунг» мелькнул один измотанный европеец, вызвавший у немцев откровенный пиетет. Корреспонденту «Гардиан»[69] пришлый показался знакомым: напомнил старшекурсника из Оксфорда, который борзописец имел честь окончить. Но всерьез к этому не отнеслись, посчитав: коллега, скорее всего, напутал, как-никак четверть века назад.
Проспер Абукама, владелец единственного на весь город книжного магазина, сводившего концы с концами только за счет школьных учебников, потирал руки. Всего за пару дней у него раскупили все карты Чада и европейские газеты недельной давности, непроданные и подлежавшие возврату.
Из-за внезапного бума продаж стенд периодики Проспер даже выставил на улицу. Там, правда, скучали только парочка старых «Фигаро»[70] и лондонская «Таймс», совсем свежая, и пережившая нашествие европейцев лишь потому, что первые страницы не прочитывались – типографский брак. Днем ранее от нее отказался врач-швед из районной больницы, постоянный заказчик издания.
Проспер вышел на улицу, напевая L'ete Indien[71]. Пронесся джип со столичными номерами, взятый журналистами в Нджамене напрокат. Один из пассажиров помахал ему рукой, он ответил тем же, расплываясь в улыбке. Хотел было вновь затянуть «и вся жизнь будет казаться, как это утро»[72] – а было оно воистину прекрасным после подсчета вчерашних барышей – когда увидел, что «Таймс» со стенда улетучилась. Вытащил из паза «Фигаро», проверяя не под ними ли лондонец, но, увы, пусто. Вернулся в магазин, поискал на прилавке деньги – иногда их оставляли, если он задерживался в подсобке или выходил в туалет, – но и там по нулям.
Сегодня посетители еще не наведывались, да и их не могло быть. Считанные на весь город иностранцы и редкие местные книгочеи, как правило, послеобеденные гости. Журналистская «саранча» не ожидалась. Предупредил еще вчера: свежие газеты по вторникам не завозят.
Проспер подумал: «Может, кто-то из детей?» Но сразу отмел эту возможность: дети проследовали в школу прежде, чем он выставил стенд. Можно было, конечно, предположить, что кто-то сбежал с занятий, но такое случалось позже – после третьего-четвертого урока.
Вдруг в разнобое досады по упущенной выгоде Проспера посетило: совсем недавно, стоя спиной к окну-витрине, он резко обернулся. Но то была реакция скорее на колебание световой гаммы, нежели на чье-то присутствие. При этом он ничего не запечатлел – ни подвижки, ни шороха, тот же с детства знакомый пейзаж.
Чихнув, Проспер открыл книгу прихода. Записал новую дату – 27 января 1980 г., после чего отправился в подсобку перебирать подержанные учебники. За две четверти их накопилось изрядно. Учебный год завершали далеко не все ученики. Не менее четверти умирало от инфекционных, прочих заболеваний, в считанные дни съедавших истощенный хроническим недоеданием организм. Не успев похоронить чадо, родители торопились избавиться от учебников, надеясь за вырученные гроши прокормить оставшихся в живых.
Дидье Бурже, как и Проспер Абукама, его сосед по поселку, где обитали известные граждане Ебби-Бу и иностранные специалисты, в эти минуты испытывал схожую с Проспером горечь, хотя и по-своему.
На сегодняшнее утро Дидье запланировал архиважное мероприятие – отправить Ивонн телеграмму, в которой намеревался оповестить: «Прилечу через месяц. По техническим причинам передача дел сменщику откладывается». Накануне, немало попотев, убедил руководство компании в целесообразности отсрочки.
От Ивонн Дидье с каждым днем отдалялся все дальше. Перспектива расстаться с дарованной Богом спутницей уже не казалась кощунством, несмываемым грехом. Заполонившая его разум мутная нирвана перемешала представления о добре и зле, сиюминутном и вечном, благородном и низменном.
Дитя дикой природы Кану властно и безоговорочно завладела его «я». В этом затуманенном конгломерате, некогда благообразном, осмысленно действовала лишь одна цепь – как обезопасить от условностей мира берлогу, где они с Кану залегли.
Подобно всему рыщущему в топи низменного, контур работал изобретательно, изворотливо даже. На электростанции Дидье запутал документацию (якобы по вине персонала) до такой степени, что Париж его командировку продлил, хоть и со скрипом. Свой телефон он отключил – как на вход, так и на выход – но не от начальства, а от Ивонн.
Между тем никакие угрызения совести к Ивонн здесь не усматривались. Трусливо поглядывая на злосчастный опыт Шарля, двоюродного брата, заключил: заподозри соперницу, Ивонн может обрушиться как снег на голову и все поломать. Нечто подобное у родственника некогда приключилось… Оттого Бурже и заторопился сегодня на почту, хотя, по его просьбе, компания должна была известить супругу еще вчера.
Дидье шагал по центральной улице Ебби-Бу, досадуя, что телеграмму отправить не удалось. Перебои со связью случались и прежде, но не пробиться к окошку оператора – не припоминал Дидье такого. Не проведай он накануне о внезапном нашествии журналистов в затхлый, забытый богом Ебби-Бу, то, увидев вавилонское столпотворение на почте, ужаснулся бы.
Как Дидье не изгалялся, даже бланком «Post de Chad» не поживился. Не возымели свое и переговоры с неким Клодом, земляком, похоже, координатором очереди и переводчиком, которые он вел через голову разноплеменной толпы. Маневр к служебному входу тоже ничего не дал: дверь заперта, на стук никто не откликнулся. Побродил вокруг да около и с маской безликой отрешенности побрел на работу.
На полпути к электростанции Дидье посетило: «Ивонн все же нужно позвонить, идея с телеграммой – бесплодная затея! Особенно после вчерашнего звонка из компании. Рано или поздно Ивонн озадачится: а сам почему не позвонил? Неспроста! Что-то здесь не так… Тут же начнет названивать, моя же линия заблокирована… Связаться немедля, безотлагательно! Только откуда? Из своего кабинета? Боязно, сдрейфить смогу. Хорошо бы рядом кто-нибудь… Да-да, посторонний добавит куражу, отмобилизует. Кто-либо из соседей – вот выход! Проспер ближе всех. Но что это даст? Оператора отделения связи не миновать. Его же, сам видел, рвут на части… Наверняка на внешние звонки он не отвечает. Да и Проспер, забыл, в магазине, вернется только к вечеру. Может, все-таки с работы? Оператор, черт бы его побрал! Опять двадцать пять. До вечера не обойти его, лишь после шести связь напрямую, через Нджамену».
Тут в чересполосицу порыва вторглось сильное, прежде не испытанное чувство: кто-то, совершенно невидимый, давит в спину взглядом, злонамеренно причем.
Через минуту-другую Дидье думать о чем-либо перестал, забыв даже, что в 10:30 на электростанции у него встреча с Анри, его сменщиком. И, выйдя из почты, он нацелился именно туда.
Безликая, но властная сила толкала его домой. В общем туда, куда хотелось, а если точнее, откуда выбирался с трудом, едва извлекая себя из текстуры греха, его одержимости.
Дидье не мог ни обернуться, ни даже взглянуть через плечо. Исчезла в ощущениях Кану, давно прихватившая его с потрохами, застыла в статую и Ивонн, бесформенную, неузнаваемую, отяжелели члены, движения замедлились, потеряли естественность.
При всем при том Дидье шлепал, как тянутся выжатые тяжким трудом работяги, точно всю ночь в одиночку разгружал судно, но не осилил и первого трюма. Завтра же и до скончания дней – та же сирая участь: пахать да пахать, спину надрывая. Шел к себе домой.
Дидье открывал входную дверь чисто автоматически, как недавно двигался. Внезапно явившийся призрак в необычном, но вполне человеческом обличье не вызвал ни крохи испуга, даже любопытства. Осязал Дидье его лишь боковым зрением, призрак стоял позади, но чуть наискосок.
– Кто в доме? – обратился призрак, напоминавший собранного из спичек человека.
– Кроме нас, никого, – ответил Дидье без запинки. Ужасный акцент, исковеркавший вопрос до неузнаваемости, помехой не стал.
– Мы – это кто?
– Я и Кану. – Дидье уперся в дверь оловянным взором.
– Кану – ваша жена?
– Да.
– Подождите. – Одна из «спичек» накрыла ладонь, изготовившуюся нажать на дверную ручку.
– Она спит, – быстро отреагировал Дидье, желая поскорее избавиться от шершавой ладони. Это было первое чувство, которое он испытал после того, как у фотоателье внезапно провалился в воздушную яму апатии.
– Проходите. – Дистрофик мягко подтолкнул Дидье в плечо, оставаясь на пороге.
Инженер сомнамбулическим шагом прошел в зал и как истукан опрокинулся в стоявшее у дальней стены кресло. Руки примостились на подлокотниках (в одной из них зажат ключ), но на спинку Дидье не откинулся. В глазах зияла бездна – какого-то бессмысленного, затянувшегося прыжка в никуда. Но во всей материи, помимо рук, проглядывала некая готовность к действию, замороженная превратностями разума.
Дидье ничуть не изменился, когда в доме вовсю замельтешили «спички», – та же прострация с отростком недолепленного действия. Он даже бровью не повел, когда призрак обследовал обе спальни, кухню, зал.
– Где ваш паспорт? – спросил призрак, прикрывая дверь спальни, где спала Кану.
– Не нужен мне паспорт, остаюсь…
– У вас должен быть паспорт, где он?
– Не помню…
– Вспоминайте, это в ваших интересах! – Призрак сделал шаг в сторону Дидье.
– В ящике, где билет. Быть может, там…
– В каком ящике?
Не в силах вспомнить слово «стол» инженер попробовал вознести правую руку, но не смог. Кивком головы все же указал, но невнятно.
«Спички» бесшумно выдвинули ящик, который, по обыкновению, заклинивало. Через мгновение паспорт и билет уже лежали на столе. Персонаж из мультфильма абстракций, но в полный человеческий рост, перелистал по очереди обе книжечки, после чего билет отправил обратно.
Оставив паспорт на столе, призрак направился поначалу в ванную комнату, потом на кухню. Через несколько минут вернулся, держа в руках ножницы, нож, отвертку и лезвие бритвы. Раскрыл паспорт и с помощью ножа филигранными движениями ослабил заклепки, которыми фото Дидье крепилось к документу.
Затем призрак «наклевал» нехитрыми бытовыми принадлежностями уйму новых, напоминавших работу часовщика движений, пока вдруг не остановился, сложив инструментарий на столе, рядом с паспортом. Внезапная остановка чем-то подсказывала: «часовщик» результатом удовлетворен.
«Часовщик» резко встал, отправился к холодильнику. Открыв его, долго изучал содержимое. Наконец отломил кусочек халвы, отправил его в рот и основательно пережевал. Чуть подумав, повторил операцию, разжевывая на этот раз еще медленнее. Запил минеральной водой, аккуратно прикрыл дверцу.
Двинулся к свободной спальне, зашел внутрь, оставив дверь открытой. Потянул на себя дверцу шифоньера и, присмотревшись, извлек: джинсы, пару рубашек и брюки хозяина. Достал лежавший на шифоньере саквояж, сложил в него брюки и одну рубашку. Разоблачился от африканских обносков, в которые был одет, накинул на себя рубашку, застегнул и запрыгнул в джинсы. Именно запрыгнул – настолько они были ему велики. Подпоясался ремнем, просунув застежку в последнее невыработанное отверстие. Но джинсы на бедрах не удержались, сползли. Подтянул, закатал брючины. Вернулся в зал, сгреб в саквояж со стола принадлежности и паспорт. Туда же засунул и обноски.
– Кто вы? – прозвучал испуганный женский голос.
Бородатый Буратино в одежках явно не со своего плеча резко обернулся. В дверном проеме ближней к нему спальни – юная туземка в измятой ночной рубашке, слишком узкой для ее пышных форм и, похоже, как и одежки Буратино, у кого-то позаимствованной.
Девушка бросила взгляд налево – туда, где сидел, присутствуя лишь номинально, Дидье. Ее лицо мгновенно вытянулось, в глазах брызнул испуг.
– Вам плохо, месье Бурже?! – крикнула девушка и почему-то сделала шаг назад, вглубь спальни.
«Спички», столь споро и слаженно работавшие до сих пор, застыли в нерешительности, а может, в недоумении.
Туземка вновь пришла в движение и, объявившись на пороге, будто устремилась к Дидье, но, не сделав и шага, кинулась на «Буратино», точно пума.
«Спички» отшатнулись, но, должно быть, были захвачены врасплох. Левую руку девушки перехватили, но ее правая – ногтями вонзилась в лицо.
Раздался глухой звук – девушка кулем грохнулась на пол и застыла, словно сраженная наповал.
Бесшумные, но говорящие «спички» обрели еще одно одушевленное свойство – учащенно задышали, с опаской поглядывая на обездвиженную девушку.
Дидье по-прежнему отсутствовал, не обнаруживая себя ничем. Да и с чего бы – команды-то не поступало. Глаза, подернутые бессмыслицей, вписывались в образ всеобщей атрофии – плоти и чувств.
Буратино обошел распластанную фигуру, направился в ванную. Промыл царапины, оставленные туземкой на фасаде, обработал их одеколоном. На его бородатом, темном как горький шоколад лице следы подросткового насилия едва замечались. Допил бутылку минеральной воды, вытащил из стола всю имевшуюся там наличность и, аккуратно прикрыв за собой дверь, убыл с саквояжем.
Скоро ключ, который Дидье держал в руке, грохнулся на пол.
К вечеру Ебби-Бу наполнился слухами, один невероятнее другого. Сухой же остаток явствовал: в городе бесчинствует эпидемия и не обычная – сводящая людей с ума, причем как местных, так и белых. Оттого сплетники заключили, что разносчики, конечно же, пришлые журналисты.
Толчком к появлению подобных вымыслов послужили два очень схожих по сюжету события. Приблизительно в одно и то же время к двум известным в горожанам явились гости. К владельцу фотоателье Жоржу Мекомба – сын хозяина рынка (пленку проявить), а к французу Дидье Бурже, главному на всю округу электрику, – посыльной из электростанции. Там забеспокоились: главный инженер не явился на работу.
Обоих застали в тяжелейшем трансе. Жоржа – в лаборатории, стоящим лицом к стене и не реагирующим даже на крик, а Дидье – сидящим в кресле и столь же примороженным. Бедолаги разнились только в одном: впав в безумие, Дидье укокошил свою домработницу. На удачу, у Жоржа ассистентов не было…
Чуть позже, однако, выяснилось, что домработница инженера все-таки жива. Более того, у нее, помимо маленькой гематомы на шее, никаких повреждений.
На следующий день интерес к событию резко пошел на убыль, ибо всю троицу в полном здравии, но в глубокой растерянности чувств выписали из больницы. Многих удивило, почему выздоровевшие тут же оказались под плотной опекой начальника полиции и какого-то изредка мелькающего белого, но новость об угоне ночью у городского садовника «Ямахи» задвинула вчерашнюю сенсацию на задворки общинных интересов.
Почему-то никто не обратил внимание на то, что в полицейской бригаде, нагрянувшей к садовнику расследовать обстоятельства угона, вновь был замечен европеец, засветившийся накануне. Более того, играл в ней чуть ли не заглавную роль. По идее, он там был ни к чему. Вчера – другое дело. Один из «инфицированных» – Дидье Бурже, белый, хоть какое-то объяснение…
Не застрял в фокусе общинного внимания и приключившийся во дворе садовника инцидент, зачинщиком которого стал европеец, перед тем как представительная депутация рассосалась. Выговаривая на корсиканский манер[73] «р», да еще с рычанием, он – немыслимое дело! – повысил голос на самого начальника полиции, грозу города и округи. И не наедине, а при подчиненных.
– Разве не доходит, что это он! Во всех троих случаях! Вы что, ослепли?! – голосил европеец.
«Откуда «в трех»? – тут же озадачились зеваки. С тех пор, как убыли французы, это – первый угон. Да и угонять, в общем-то, нечего…
– Почему у первых двоих память словно отшибло?! – защищался начальник полиции.
– Достаточно, что его опознала домработница! – огрызался гость.
– Девушка еще ребенок, едва читает и пишет… – возразил один из стражей закона. – Опираться на показания полуграмотной несовершеннолетней, месье Ачерсон? Не знаю… Почему инженер и фотограф как в рот воды набрали? Мычат да и только! Не скажете?
Глава 25
В огромном читальном зале публичной библиотеке Йоханнесбурга, помимо дежурной, лишь три посетителя: два аспиранта из местного университета и Шабтай Калманович, гость города. Нелишне заметить, совершенно легальный. В кармане его брюк – израильский паспорт с многократной южноафриканской визой. Тот самый перекати-поле Шабтай, две недели как примеривший «комбинезон» беженца, но для признания статуса ни в одну из компетентных инстанций не обратившийся. Ни в Ботсване, ни в ЮАР, ни где-либо. Этакий внутренний дезертир, но явно не от самого себя, поскольку натурой был цельной и целеустремленной. Чуткий, как птица, однако…
Аспирантам библиотекарша уже дважды сделала выговор. Вместо того чтобы мерно грызть твердь науки, они ожесточенно спорили, но не о судьбе своей страны, в силу апартеида зажатой клещами международных санкций и давно уже не знающей, что с этим апартеидом делать, а о грядущих президентских выборах в США. Если конкретнее, то о предстоящем поединке Картер-Рейган. Были бы они политологами или, на худой конец, историками, так нет! Кропали диссертации по органической химии…
Ученой поросли невдомек, что их сосед – коллега, хотя и с некоторой натяжкой. Осилил целых три курса по специальности «инженер автоматизации химических производств». На большее духу не хватило, за неуспеваемость выперли. Института народного хозяйства в Каунасе не было, вот и поперся в политехнический наобум. Лишь бы не в армию…
Будь на то воля Шабтая, он бы и курсы менеджеров упразднил. Одна трата времени! Генри Форд ведь как-то заметил: «Чтобы заявить о себе как бизнесмен, для начала скопи миллион. Его же – хочешь не хочешь – придется украсть». Старина, конечно, подразумевал: увиливая от налогов и ставя институты государственного контроля ни в грош. Об этом не то что на курсах, даже в London School of Economics[74] не учат. Тут без ген, особого дара никак, грызи не грызи… Поглядывая украдкой на соседей, Шабтай фыркал про себя: «Пусть горбатятся, преют… Все, что осилят: ставить закорючки в ведомостях – от зарплаты и до зарплаты!»
На столе у Шабтая свежий номер «Таймс», только что приобретенный, и перекочевавшая со стеллажа подшивка той же газеты. Не в пример аспирантам он сосредоточен, собран: старательно перебирает фолиант, не суетясь. Разве что странно как-то – почти не листает, одним-двумя движениями попадая в нужный разворот. И на островные и мировые перипетии ему наплевать – тред-юнионы, приватизация по Маргарет Тэтчер, очередная жертва Берлинской стены… В раздел объявлений прямиком! Примерится, зацепит ногтем – через раз в яблочко, а не в яблочко, так страницу-другую перевернет.
Там кладбище из надгробий частной инициативы. Измеряется только не ярдами, а дюймами. И объявление «Ищу попутчика для велопробега в Дублин» стоит в метрическом соотношении дороже, чем в Лондоне, изнывающем от дефицита кладбищенских площадей, обрести вечный покой. А найдешь партнера, не найдешь – в кассу извольте!
Забурившись в раздел, Шабтай пальцем не водит, а вбирает глазами текст, словно считывающее устройство. Пробегает не до конца – ищет конкретный раздел и, ознакомившись, к следующему номеру переходит. В каждом движении ледяное спокойствие, не вяжущееся с его восточным обликом.
Посмотрели бы соседи на Шабтая всего пару часов назад, не поверили бы свершившейся метаморфозе. Последние трое суток дом Баруха напоминал газетный киоск, разоренный малолетними вандалами. Газеты раскиданы повсеместно – в гостиной, в спальне, на кухне, даже в туалете.
Обслуживая наполовину выжившего из ума старика, Шабтай с утра до вечера носился по дому. Стряпал, кормил и выдирал полупарализованное тело из инвалидного кресла. Три дня назад в эту изнуряющую повинность вторглось неврастеническое увлечение газетным жанром, как-то уживавшееся с подрядом. Утром Шабтай бросал калеку и, вызвав такси, несся к ближайшему книжному магазину (Барух жил в зоне вил пригорода), где скупал местные и иностранные газеты. Но не все подряд, а лишь те, которые освещали сенсацию о человеке-невидимке из рейса «Мюнхен-Йоханнесбург». Герое, водящем за нос полицию целого государства, пусть африканского. Его связнике – малейших сомнений у него не возникало – ибо никто иной выкарабкаться из огнедышащего зева пустыни, охмурять гипнозом и угнать запертый на амбарный замок мотоцикл не смог бы.
Кому как не выпускнику разведшколы об этом было не знать. За время своего дискретного ученичества Шабтай самородков повстречал немало. Выискивали их со знанием дела, откапывая порой в непроглядной глуши. Вспоминая о подборе кадров Конторы, всегда отдавал ей должное.
Барух завшивел и оброс щетиной, притом что совсем недавно Шабтай его ежедневно купал и брил. Без заботливой опеки старик закапризничал пуще прежнего. Когда матерился, но чаще выл и плакал.
Шабтай жалел убогого, но редкими наплывами – как бездомную кошку, мельком встречающуюся во дворе. Кормил левой рукой, при этом правой держал газету, да еще умудрялся перелистывать. Понятное дело, половина супа мимо… В редких передышках от чтения подопечного переодевал, чтобы при следующей трапезе замарать всю одежду снова.
Ящик для грязного белья наполнился под завязку, Шабтай даже не подумывал постирать. Позвонил Дине и, сославшись на генеральную уборку, убедил повременить с визитом несколько дней.
Уборку он и на самом деле затеял нешуточную. Только не в доме Баруха, а в своей черепной коробке, где царил невообразимый кавардак. Одолевшая в Ботсване безнадега захламила присущую ему ясность ума, привнесла суетность, сбила прицел. Требовалось срочно взять себя в руки, очиститься от травящих душу и разум кислот.
Но беда коренилась не в этом. Мозг гудел от лавины недавних и текущих событий. То отказывался верить в произошедшее, под стать приземлению на крыльце НЛО, то впадал в эйфорию, но не разливанную, а урывками, с трусливой оглядкой. Что-то вроде душевных движений школяра, учуявшего в подъезде запах маминых пирогов, но робеющего нажать на звонок. В портфеле-то очередная двойка, а в шкафу – отцовский ремень, оболтуса дожидающийся…
В этих пирогах и неотвратимости кары вся путаница! Как полакомиться и от ремня прародителя увернуться?
Был бы ремень, полбеды…
«Предположим, подъемные уцелели… – мечась утром по дому, размышлял Шабтай. – За две недели столько воды утекло! Сто раз все могло перевернуться! Хочешь разобраться, чтобы головешки голыми руками не таскать, греби в истоки. Разгадка, если и есть, то там.
Сомнительно, что московские тугрики из «тупика», несложно предположить, что распотрошили бюджет. Может, по сыскному ведомству, а может, по другому. Различие имеется, но не принципиальное: рано или поздно недостача вскроется, если не покрыть ее. Не зря «бугор» в Берлине докапывался, смогу ли за полгода «уставной фонд» по частям вернуть через эмиссию и продажу акций. Лишь разобрав бизнес-план по косточкам, с тяжелым сердцем, колеблясь, – трудно было не заметить – согласился. Впрочем, ссужать три «лимона», кто станет вслепую, не просветив подноготную…
Хозяевам здравого смысла и знания западных реалий не занимать. Любой самый обсчитанный бизнес, по сути, здоровый авантюризм, ибо норов рынка мало предсказуем. Сродни стихийным бедствиям! Их прогнозирование – сплошное тыканье пальцем в небо. Свободный рынок – котел, где варится похлебка из всех цунами, торнадо и землетрясений вместе взятых. Профукать не то что три «лимона», миллиард ничего не стоит! Погода решает все…
Но если энергию черпали не из резервной батареи, а в самой станции, можно представить, какой у подельников переполох. Тут, брат, не обвал напряжения в дачном поселке, а обесточивание целых магистралей, питающих серьезнейшие проекты. Приписками, очковтирательством не отделаешься…
Закрывая «протокол о намерениях», выстраивается главный вопрос: если подельники одолжились, удержались ли на своих местах? Ведь запаниковав после крушения «Боинга», могли подставиться или даже сдать друг друга.
Теперь о герое Пржевальском – другого эпитета не подберешь! Уцелела ли передача? По нормальной логике, в грузовой отсек ее сдавать не должен был. Значит, шансы на сохранность посылки велики, коль сам жив. Но с ним ли она? Мог элементарно бросить, вытаскивая свою задницу из мартена, или, в лучшем случае, закопать. Если припрятал, то испанские галеры с золотом инков разыскать легче. Пустыня не океан, батискаф не спустишь!
Хотя… наткнулись же в прорве Сахары на попутчика, им уморенного. И не просто надыбали, а вникли, что и почем. Кто головастый такой? Пресса, жаль, умалчивает.
Хорошо, допустим, он груз вынес, пусть в это трудно поверить. Куда курс держит? В Москву, Европу? Но не ко мне, это точно, по целому ряду причин. Разбирать их – потеря времени.
Нет худа без добра: не вычислили бы газетчики героя, он мог бы преспокойно на Гавайи свалить и кайфовать там до скончания дней. Пластическая операция – и концы в воду. Теперь, засветившись, не рискнет… В Москве не дураки, с первой же статейки смекнули, что выжил! Пусть его никто толком, кроме давшего кров аборигена и школьницы-недоучки, не видел.
Понять одного только не могу: какого журналистам он сдался? Почему раздувают? Ради сенсации?
А ради чего еще? Это их хлеб! Совершенно однозначно: во всей неразберихе не то чтобы косого взора, а и ресницы чьей-либо Конторы не мелькнуло. Другие у «дальнобойщиков» методы, гласность – их злейший враг. Но шумиха в каком-то смысле на руку: подельники в курсе, во все всплывающие детали побега посвящены. Значит, когти рвать будут, чтобы Пржевальского вытащить. Но это лишь в теории – вон в какую глухомань его занесло. Могут смириться и с самовывозом, если руки коротки. Опять точно неизвестно, кто они и каков их уровень.
Причислив компаньонов к элите внешнего сыска, я отталкивался от одних предположений. Ведь что о структуре внешней разведки я знаю? То, что в западной прессе мелькает, где львиная доля – домыслы а-ля Калманович.
Однако не учитываешь: Пржевальский давно мог выйти на связь и получить команду, куда путь свой держать. Оттого и «Ямаху» угнал, дабы, рванув на всех парах, на явке затихариться. А может, просто газует в ближайший аэропорт? По карте ближе всего Нджамена. А хотя, что у него на уме, одному Господу известно.
Тут, правда, закавыка: в состоянии ли москвичи Пржевальскому подсобить? Операция, как пить дать, неучтенная, вневедомственная халтура, так сказать. Не исключено, сидят как зайцы, уши попрятав, вроде меня. В уровень, в него окаянного все упирается…
Ладно, довольно копаться в формуле «Мул-гужевой кпд-пастбище» и в тайнах парижского двора! Ты не Ури Геллер[75], да и он, уловив запашок, давно замахал бы руками: ну вас всех, вечно опаздывающих, на все четыре стороны! Со всем обозом совковых козней и с неизбывным желанием достать правой ногой левое ухо. Чего бы полегче. Курантов бой могу остановить, поднатужусь лишь малость… Потрясения никакого, зато назавтра Россия – новая страна. У каждого не только на руке, а и на плечах своя луковица имеется… Оглядываться на стрелки Кремля не надобно. И все совершенно бескровно, а главное, для шейных мышц польза.
Надоело! Из головы всю аналитику и картографию – вон! Еще немного – ум за разум завалится!
Не дергайся, лучше подумай о главном: с проектом что? Решатся ли в Москве его воскресить, если «капуста» воротится?