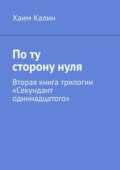Хаим Калин
Под солнцем и богом
Глава 15
«Вода!» – взорвалось нутро Юргена, едва он забрался на макушку бархана.
«Не умру! Буду жить!» – захлебнулась душа Конрада и тихо заплакала.
«Дошли!» – ухнуло в груди у Гельмута, и его сердце исступленно застучало.
Но голосовые связки бедолаг молчали – вторые сутки они шли без воды. Выцедили утром и последнее, уже из себя…
«Напьются и в путь…» – заключил Эрвин, за секунды окинувший новый квадрат. Кроме притаившегося в низине оазиса, пейзаж все тот же: пустыня и небо – одиннадцатый, рычащий корчами день.
Конрад рванулся к воде, загремевшей в ушах водопадом, но свалился, поранив о проволочную петлю поясницу. Вместо того, чтобы не спеша выскользнуть из кольца, с остервенением рвал провод, доставляя себе еще большую боль.
Эрвин снял с себя поклажу, подошел к Конраду и, освободив от оснастки, поднял его на ноги.
Тем временем Юрген и Гельмут неслись к слепящему голубизной водоему. Летели они скорее в мыслях, потому как спотыкались и падали, а местами – передвигались ползком.
Вожак забросил руку Конрада себе на плечо и потащил доходягу вниз, к оазису. Приблизившись к оазису, Эрвин увидел, что Гельмут и Юрген жажду утолили и, опрокинувшись на спину, тупо мокнут в прибрежной мели. Ни тени улыбки, ни сполохов чего-либо светлого в их лицах, потекших слякотью, не замечалось. Не выказывалось и малейшее желание ту обузу эту смыть. Их глаза то закрывались в изнеможении, то закатывались белками, осмысленности не обретая. Щеки то подрагивали в нервном тике, то тяжелели сытостью стойла.
Эрвин достал из кармана пластиковую бутылку, набрал воду и мелкими глотками выпил ее до дна. Повторил этот цикл четырежды и, немного отдохнув, разделся. Залез в воду, помылся, насколько это было возможно без мыла, а чуть позже – постирал свои лохмотья, во что превратился за дни пути его костюм. Но лежавший на берегу мешок ни на минуту не выпускал из виду.
– Помойтесь! – приказал Эрвин, забираясь в одежду, высохшую после стирки за двадцать минут.
В ответ – лишь судорожные хлебки сотоварищей, впавших в новый цикл омовения внутренностей. Могло показаться, что их кишки слиплись от жажды и не размокают. Чуть позже, до икоты нахлебавшись, горемыки выползли из побуревшей мели и распластались на горячем песке.
Эрвин наполнил водой бачок, последние два дня дико бесивший друзей по несчастью. Некогда вожделенная, но, увы, опустевшая вчера емкость, громыхала, ударяясь на марше о спину поводыря. Эти звуки, казалось им, подсмеивались над их высушенными жаждой душами. Иногда же, в приливах отчаяния, возвещали раунд – без арбитров и номера, но с именем, бывшим самым точным в медицине диагнозом – «смерть».
От своих емкостей они избавились, едва кончилась вода, и увещевания командора придержать фляги никакого воздействия не возымели. Он, правда, особо и не настаивал, после «отселения» Дитера заметно ослабив узду. Да и чем поводырь мог приструнить, если три дня назад доели последнее. Отнятым обедом, как профессора, уже не проучишь, а расправой не пригрозишь. Болевой порог от адовых лишений они давно перешагнули.
Как только группа доела свой скудный запас, из комплекта друг за другом выбыли Герд и Вилли, обессилившие буквально на глазах. Вначале Герда, а на следующий день – Вилли Эрвин приютил под барханами.
На сей раз вожак дискуссий не устраивал и банками из-под пива никого не попрекал. Забрасывал дистрофика себе на плечо и, не произнося ни слова, удалялся. Делал это поспешно, чуть трусливо даже, что никак не вязалось с его недавним обликом – бетонной стелы в оболочке мыла.
За барханами задерживался неоправданно долго, даже если предположить, что устраивал эвакуированным укрытия. Когда сплавлял Вилли, не таясь, вытащил из мешка обрывок провода. Сотоварищи тотчас вспомнили, что, «отселяя» Дитера и Герда, Эрвин запихивал нечто за пазуху, повернувшись к группе спиной.
Возвращался потяжелевшим, покачиваясь, и сразу объявлял привал. «Эвакуировал» к вечеру, когда ночлег напрашивался сам собой. Ночью стонал и, схватившись за живот, катался по песку.
Бедолаги все это видели, не смыкая ночью из-за голода глаз. Но внимали ли? Скорее всего, фрагментарно. Голод разжег, многократно умножил галлюцинации, подчинившие, помимо светового дня, и ночную часть суток. Вся же одиссея раскорячилась бескрайней, дробящей психику фата-морганой, где каждый, давно потерявшись, внемлил лишь корневому инстинкту – жить.
Когда плотный слой грязи Эрвин с себя смыл, на его лице высветилось нечто необычное, ранее не примеченное. Оболочка грубого хозяйственного мыла, ему присущая, прохудилась, но не повсеместно, местами. Там, в прогалинах, казалось, пузырятся угрызения совести, раскаяние. Тем самым нравственная глухота, некогда обволакивавшая бетонную стелу, обнажила очажки перерождения. Но, откуда все взялось, строить догадки было некому, да и особо не с чего. Больно монументально все еще смотрелся персонаж, притом что ушлый, каналья, до чертиков.
В Эрвине-оригинале затейливо смешались: паранормальный дар, мастеровой, естествоиспытатель, электронный процессор, зомби и немного – человек. То ли соседи по «коммуналке» обросли животным покровом, создав выгодный фон, то ли по иной причине, но человеческое в вожаке пустило новые всходы, четче обозначив себя.
Эрвин бросал то оценивающие, то вороватые взгляды на подопечных. По всему чувствовалась, что перед ним дилемма, а может, их целый набор.
Чуть погодя, подложив руки под голову, проводник растянулся на песке, но вскоре перевернулся на живот, укрыв голову куфией – солнце палило нещадно. На первый взгляд, казалось, что его, как и прочих, животворная вода разморила, призвала ко сну. Между тем исходящая от Эрвина энергия говорила об обратном, хотя его тело практически не двигалось. Возникло ощущение, что на привале заработал вычислительный центр, но выдающий себя не шумами матчасти, а пульсацией. Машине, однако, не ведомы сомнения, над Эрвином же их завис целый рой.
Вскоре хаос будто улетучился, но, казалось, мозг поводыря продолжает гнать все новые и новые волны. Зарывшийся в песок процессор – естественный, а не рукотворный – корпел, торя какую-то борозду.
Эрвин приподнял голову. Бедолаги спят как убитые, напоминая поверженные на поле битвы тела: раскинувшиеся ноги, застывшие в последней конвульсии руки, расхристанная одежда. Но сон их не вечен, быть ему недолго, хотя бы по причине голода или жажды, которые, даже обретя спасение, им добрую неделю утолять.
Восставший в образе общности цели вожак прошелся над распластанными сотоварищами. Хотел было гаркнуть «Подъем!», когда увидел свое отражение в оазисе, вновь обретшем прозрачную голубизну. На него глядело уродливое пугало, непостижимым образом забредшее в Сахару из родительского подворья. Он не раз чинил его после шквальных ветров и прочей непогоды. В годы детства пугало подменяло ему игрушки, а точнее, единственной игрушкой служило.
О, милые игрушки, в щетинистой, пыхтящей неуемностью аппетитов и амбиций жизни, вы порой так трогательно, хоть и неосознанно, маните к себе – к груди, истоку, в колыбель…
Кроме соломенной шляпы сходство с пугалом отдавало буквальностью, выспренными аллегориями не коробя. Руки и ноги – палками, вместо рельефа мышц – жидкая солома. Единственное утешение: попутчики смотрелись еще хуже, напоминая скорее высушенные стволы растений из гербария, нежели людей.
Эрвин сел на корточки, обхватил голову руками. Исподволь его лик затвердел, вернувшись к обычному образу на вынос, а пробившиеся кустики раскаяния на глазах пожухли. Казалось, шла холодная переоценка решения, принятого накануне, отрабатывался новый, принципиально иной сценарий.
Эрвин уставился на Гельмута и с бесстыдством работорговца рассматривал его, игнорируя прочих. Спустя минуту вожак ухватился за воротник своего выбора и осторожно потянул на себя. Отклика не последовало – ни бормотанья, ни спросонья выкинутых рук.
Гельмут проснулся, когда Эрвин оттащил его от бивуака метров на двадцать. Прохрипел в испуге: «Где я?»
– Тихо, Гельмут, – шикнул Эрвин. – На ноги вставай.
– А, это ты… – Гельмут пытался встать на карачки. – Спасатели – здесь?
– Я твой спасатель. Тише, всех разбудишь…
– Куда уж тише, голоса своего не узнаю. Думал, подмога, спасатели… – сокрушался Гельмут.
– Посмотри вокруг, где здесь живое? – взывал к трезвомыслию вожак.
– Придут. Где вода, там и люди, – тупо отвечал подопечный.
– И в океане, Гельмут, вода…
– Хочешь сказать, что оазис – астероид из космоса?
– Оазис значит лишь то, что, запасшись водой, еще немного протянем, – обдал жарким шепотом Эрвин. – Если останемся, сдохнем от голода. Гляди: все тот же песок, никакого просвета. Идем! – Вожак продублировал призыв взмахом руки.
– Эрвин, а остальные? С ними как? – кивнул на сотоварищей Гельмут.
– Вчетвером нам не дойти. Конрад плох, да и Юрген не намного лучше. Но вдвоем, даже без еды, выдюжим еще дня три-четыре. И это шанс, единственный! – вынес вердикт Эрвин.
– Мы столько отмучались. Они же шагают еще! – взмолился Гельмут.
– Пустыня, вижу, от глупости не лечит… – пояснил свой вздох командор.
– Я остаюсь, караван забредет сюда рано или поздно, – упорствовал Гельмут.
– След хоть видел какой, человеческий или животного? – охватил горизонт взмахом руки вожак.
– Почему мне предлагаешь? – засомневался Гельмут. – Юрген – не слабее! И не понимаю я многого… Ты давно мог смыться, прихватив воду и съестное… Зачем всех тащил? Чтобы потрошить по очереди или что ты там… за барханами… делаешь? – Гельмут затравлено посмотрел на Эрвина, ежась.
– Ты мне дорог, Гельмут, как друг… – тихо молвил Эрвин. Обошел наперсника, с коим побратался в очереди на тот свет, и двинулся к оазису. У воды собрал в кучу мешок, емкость с водой, прочую оснастку, поэтапно развесил на себе. Приладив – путем подбрасывания на спине – мешок и емкость, зашагал от оазиса прочь, в даль, должно быть, только ему шептавшую свои секреты.
Гельмут все это время стоял на прежнем месте и отчаянно вертел головой. Он глядел то на самозваного друга, походившего скорее на кочегара чистилища, нежели на душеприказчика, то на спящих сотоварищей, то куда-то на север, словно тщась рассмотреть благодатную Баварию, куда все еще надеялся вернуться живым.
Эрвин натужно шел, прогибаясь от тяжелой ноши. Передышек не делал и не оборачивался. Через сорок минут, умаявшись, сбросил с себя поклажу и зашелся в кашле. Попил воды и повалился наземь, прижимая к себе мешок.
Навстречу, со стороны оазиса, к нему двигалась, расплываясь в мареве, постепенно укрупняющаяся до размеров человека точка. Когда «точка» приблизилась вплотную, дыша точно гончая, но как дворняга преданно глядя, Эрвин вытащил из мешка провод, на три звена уже укороченный, но все еще с двумя окружностями на концах.
Глава 16
– You stole my booze, bloody Indian![30] – метнув тень, крикнул кто-то. Тут же Шабтая пронзила боль – от переносицы до пят.
Проснувшись, он протирал глаза, сидя на верхнем ярусе единственного в Йоханнесбурге приюта для бездомных, и уклониться, не говоря уже предупредить удар, не мог.
Из носа хлынула кровь. Судорожно зажав его одной рукой, Шабтай другой зарылся под подушку. Не обнаружив носового платка, схватил подушку, прижал к носу.
«Палата» пришла в движения. Несколько завсегдатаев ночлежки похватали банки пива, еще в восемь утра разложенные персоналом. Нижнему ярусу – на тумбочки, а верхнему – рядом с подушкой.
Назвать персонал обслугой – язык не поворачивался. Их шрамы выдавали бывалых преступников, отбывающих общественные работы, или, на худой конец, портовых грузчиков, вышедших в тираж.
– Снова драка, позавтракать не успели! – прогремел голос Йена, в прошлом полицейского, ныне – управляющего ночлежки, отличавшегося и на фоне своих коллег могучими, как у борца, руками.
– Йен, он спер мое пиво! – кинулся навстречу управляющему Рууд, потирая правую ладонь.
– Кто это «он»?! – рявкнул попечитель, разбудив тех, кто еще спал. – В душ, ворюга, захотел?! – Щеки Йена раздулись петушиным гонором.
Йен, не осиливший и восьмилетки, не знал, что его патент – ледяной душ для особо буйных – уже десятки лет борется, хоть и в одиночку, с алкоголизмом в далекой России. В «приемном покое» вытрезвителей им рутинно приводят в чувство пьянчуг, никого не предостерегая при этом.
– Индус, Йен!
– Откуда в приюте индусы, Рууд? Не опохмелился что ли?
Даже здесь, на «дне» Йоханнесбурга, неукоснительно блюлись нормы сегрегации.
– Вылитый Джавахарлал Неру, посмотри! – Рууд, ветеран ночлежки, некогда учитель истории, указал банкой пива на Шабтая.
Йен выдул губы, что выказывало в нем потуги ума. После чего приподнялся на цыпочках, норовя рассмотреть заслоненное подушкой лицо Шабтая, но не солоно хлебавши откинулся на полную ступню обратно.
На окровавленную наволочку спадали густые черные волосы и впрямь с характерным для индусов пробором посредине.
Лик попечителя заострился озабоченностью борца за чистоту расы. Подавшись в сторону, Йен стал разглядывать Шабтая со стороны.
– Тьфу ты, Рууд! Это же тот, кого пристроил отец Ричард. Какой он индус? Откуда-то из Европы… Проблема с деньгами или с паспортом, не помню уже…
– Послушай, Йен, его Европа начинается и кончается в Бомбее или в схожей дыре, откуда его предки драпанули в ЮАР![31]
– Бомбей, это где? – заинтересовался управляющий.
– Знать тебе зачем? Телевизора даже не смотришь… Он индус, и этим все сказано! – голосил экс-историк.
– Заподозрить отца Ричарда в любви к цветным? Не знаю… – усомнился йоханнесбургский Макаренко.
– Поборников черноты хватает! Ненавижу! Сжечь всех, сжечь! Напалмом! – Рууд рванул корешок четвертой банки пива, судя по числу пустых на постели. При этом утренний рацион – лишь пара…
– Чего дерешься, ковбой?! – Йен повернулся к Шабтаю. – И почему прячешься?
Якобы «потомок древнего Ганга», умудрившийся прорыть приток во вполне современный Иордан, медленно спустился с верхнего яруса, держа подушку в левой руке. Его семитская горбинка утонула в распухших по-африкански ноздрях, а круглое как луна лицо пугало белизной. Майка же и нижняя часть лица залиты кровью.
«Слишком белый для индуса, – подумал Йен, – но метис – вполне возможно…»
В душевой Шабтай снял с подушки наволочку и выстирал вместе с майкой. Вернувшись, обе казенные принадлежности развесил на спинке кровати и переоделся во все свое.
В «палате» никого из постояльцев или персонала жертва «дна» уже не застала. Опустел и пенал предбанника, где большую часть суток нес вахту дежурный. Из столовой доносились голоса жильцов, разгоряченные утренней дозой, и крики тех, кто надзирал за порядком. Ночлежка завтракала.
Шабтай вышел на улицу, огляделся и направился к ближайшей остановке автобуса. Но, не сделав и десятка шагов, остановился. После недолгих раздумий вернулся к приюту обратно. Приоткрыл входную дверь, заглянул внутрь и, осторожно ступая, проследовал к столу дежурного. Достал журнал учета «гостей» и ловко вырвал страницу, где был зарегистрирован. Оскопил и две смежные страницы, одну до, а вторую – после своей регистрации. Запихнул листы в карман и поспешно ретировался – на сей раз, чтобы никогда сюда не возвращаться.
На Шабтая вытаращился весь автобус, когда, купив билет, он двинулся вглубь, высматривая свободное место. Опухший нос понуро «шагал» впереди хозяина. Пристроился травмированный в предпоследнем ряду, с краю, прихватив с собой «дружка», битого за профиль низших рас да еще не тот пробор с пьяного похмелья…
Соседка по сиденью отстранилась, прижалась к окну. Сидевшие рядом пассажиры, в чьем поле обзора он поневоле оказался, с мало скрываемым раздражением, а то и с издевкой рассматривали его.
Нос вновь потек – на этот раз сукровицей, но доставать платок под взглядами, кусающими словно крысиными зубками, ему не хотелось. Через две остановки Шабтай вышел, увидев через окно уютный, утопающий в зелени парк, коих в Йоханнесбурге превеликое множество.
Шабтай шагал по тенистой аллее, выискивая себе уголок поукромнее. Оный обнаружился в самом конце парка, у знатной ели, огромными кронами заслонявшей скамейку от возможных полицейских патрулей, нередко здесь гостящих.
Шабтай напился из фонтанчика, тщательно промыл нос, намочил для новых процедур платок и лишь затем уселся на приглянувшуюся ему скамейку.
В парке пусто, лишь у входа ему встретилась пожилая супружеская пара, завершавшая утренний моцион. Уже припекало.
Он водрузил руки на покатые края спинки и… хмыкнул, поймав себя на мысли, что в этой позе напоминает распятие, пока добровольное. Забравшаяся на его расквашенный нос улыбка могла тронуть и мизантропа…
Тут лицо Шабтая погрустнело. Проницательные, хоть и некрасивые глаза загустели и, постепенно сужая веки, закрылись.
«Все-таки, как это вышло, – кособочась в чувствах, задумался Шабтай, – что ночлежка, гнойный отстойник жизни, сделалась моим очагом? Неужели так начертано, запрограммировано так? Хотя… Чего уж? Начал-то с чего? С запредельного риска, презрев весь свод условностей «Нельзя!» Ведь неоспоримо: родившись для большого, но не там, где следовало, был обречен ломиться промеж шестеренок, поскольку загорожены прочие лазы наверх. А может, не дано и как слепец блуждал в потемках? И расшибить башку было лишь вопросом времени, отсеивающего из своих угодий как лежебок, так и без меры назойливых? Все же, с чего все началось? Где та ступенька, с которой я запрыгнул в вагон, оказалось, прицепленный к ложному составу? Где?»
– Отец рисковал ради нас, мама! – услышал он свой голос, отзванивающий юношеским фальцетом.
– Для чего, сынок?
– Чтобы жили лучше и не маялись как все!
– Деньги прах, Шабтай. Отца и мужа не купишь… – Мать обреченно, тихо заплакала. – Бросил нас всех…
– Папа в тюрьме, зачем ты так?
– Поймают, не раз ему говорила! Виноват…
– Виновата мелуха[32], мама! Во всем мире богатеть – норма, у нас – преступление! Страна…
– Боже, пожалей нас сирот.
Шабтай подошел к безутешно рыдавшей матери и нежно поцеловал белую прядь, которой еще вчера не было.
– Мамочка, не плачь! Вытащу его, спасу!
– Копия отец… Тот на такси бросился, когда мне плохо стало. Останавливаться не хотели… Но тюрьма не таксист, не уговоришь…
В ту ночь Шабтай не спал, уткнувшись в подушку головой, кровоточившей тогда лишь извилинами. Под утро, ему казалось, у кровати зияет яма, вырытая его голыми руками. Но, увы, дальше ни шагу – сплошной бетон. Стало быть, подкоп коту под хвост, отца из кутузки не вызволить. Рви, мечи, все без толку. Разве что ту стену, прочнее китайской, соблазни…
В тот день институт он профилонил, хотя и вышел из дому с портфелем – изведенную горем мать расстраивать не хотел.
Добрый час бесцельно болтался по городу, почему-то заглядывая прохожим в глаза. Казалось, ищет поддержи, но странно как-то, да и в чем… Некоторые недоумевали, но большинство – игнорировали. Один из пешеходов, пожилой литовец, по виду увязший в синильном болоте старик, вдруг остановился как вкопанный и направил на него инвалидную палку. Тотчас холод верткими ручейками разлился по его телу.
Дедок, скорее всего, выбросил руку случайно, ибо сложно поверить, что, фланируя без очков, что-либо, кроме внешних контуров, осязал, а невнятные заигрывания – тем паче.
Через несколько шагов Шабтай обернулся. Старик на прежнем месте, но никого уже не изобличает, а методично протыкает палкой воздух, орудуя, словно шпагой или, может, вилами… «Рапиристу» – за восемьдесят, возраст его деда, если бы он дожил до этих дней. Деда Шабтая, известного на всю округу лавочника, соседи-литовцы закололи, как только немцы пересекли границу Литвы. Лавку, понятное дело, разграбили, а книгу должников сожгли. Европейцы как-никак! Не изничтожишь – наследники объявятся, с закладными и прочей кабалой…
Зря суетились погромщики, не разумея, что красный кашалот воротится! Наследники? Дудки вам! Жив-живехонек, хоть и без права переписки! История все спишет, под чистую! С исками – прямо к ней!
Больше Шабтай рябью души никого не тревожил, устремившись по маршруту, окончательно определившемуся. У печально известного в Каунасе здания остановился, но внушенная синильным старикашкой решимость будто испарилась.
Возведенный в эпоху Сметоны[33] дом отличался прочностью и – надо же! – шестью этажами. Самое высокое в Каунасе здание… Местные остряки шутили: «С крыши Сибирь видна, бинокль даже не нужен…»
Шабтай прошелся вдоль проходной туда обратно и, глубоко вздохнув, определил ориентир: после третьего посетителя заходит. Случись среди визитеров женщина – неважно какая по счету – наведается сразу.
Оказалось, что переминающийся в сомнениях и склонный к восточному хороводу мысли Шабтай, не зря себе отсрочки навыдумывал. За полчаса – ни одного посетителя, что неудивительно: десять утра, на службу казенный люд валил на час раньше. Из проходной лишь выходили, в подавляющем большинстве, мужчины, хотя, случалось, и женщины. Их лица, казалось, закалены в борьбе с опасными, но, судя по отсутствию макияжа, индифферентными к прекрасному полу субъектами. Мужчин же студент особо не рассматривал.
Шабтай оперся о стену дома, расположенного напротив, и пустился методично скоблить каблук о шершавый профиль. Благо каблук из хорошей кожи, а не резиновый… Сновавшие по тротуару пешеходы бросали на него любопытные, но чаще – встревоженные взгляды. Кто кого одолел бы раньше – каблук стену или наоборот – неизвестно, но, казалось, приступу городской достопримечательности сегодня не бывать. Шабтай смотрелся несобранным, растеряв признаки цели, хоть какой. Озираясь по сторонам, он уже подумывал, как бы свалить домой покороче, когда увидел прапорщика со щитом в петлицах. Служивый двигался прямо на него.
– Что здесь высматриваешь? – обдал наледью прапорщик, сблизившись. – Не положено!
У застигнутого врасплох лазутчика онемел язык.
– А это что у тебя?! – указал на прислоненный к стене портфель прапор. Тут же прильнул к переговорному устройству губами: – Наряд немедленно!
Через несколько минут Шабтая препроводили в проходную «высотки», где, тщательно обыскав и изъяв студенческий билет, заперли в выкрашенной под камеру комнате.
Там, кроме стола, двух облезлых стульев и зашторенных гардин, – достопримечательностей никаких. Пол отсвечивал стерильной чистотой, но, судя по затхлому запаху, проветривали комнату, как и гостили в ней нечасто.
Дверь отворилась, и в горницу, источавшую угрозу, но на пыточную все же не походившую, проскользнул, словно мышь, маленький невероятно худой мужчина средних лет. Пиджак и брюки на нем болтались, точно у годовалого малыша распашонка. Портфель Шабтая, который человечек держал в руке, грешил брюшком на фоне его неестественной худобы.
Мужичок-маломерка пригласил рукой «лазутчика» к столу, уселся сам и водрузил «пузатого». Вынул учебники, конспекты, без энтузиазма перелистал и, загрузив содержимое обратно, опустил портфель на пол.
– Выкладывай, студент. – На Шабтая уставилась пара совсем не злых, проницательных глаз.
– А я… ничего…
– Как это ничего? Наблюдать за Комитетом госбезопасности – забава? Не ребенок уже…
– Я просто… – запнулся Шабтай.
– Просто здесь не бывает и шуток тоже…
– Хотел помочь…
– Кому?
– Вам…
– Тогда почему не заходил, высматривал? И откуда мысли о помощи?
– Чтобы сделать доброе людям! – набрав полные легкие воздуха, выпалил Шабтай. Казалось, плотная штора на выдохе доброхота всколыхнулась, изобразив гримасу, а может, ухмылку какую…
Прокуренными пальчиками-мундштуками дознаватель ударил по столу.
– Помощь, как себе представляешь? Суть ее в чем?
– Знаю людей, кто с немцами сотрудничал…
– Сами тебе рассказывали или как? – оскалился дознаватель.
– Знакомые говорили… – Голос воителя добра увял, когда слуга госбезопасности сморщился.
Шабтай, понятное дело, не знал, что за последние полгода гебистов захлестнула волна анонимок на граждан, которые якобы сотрудничали с немцами во время войны. Несколько недавних процессов над палачами, приспешниками нацистов, широко разрекламированных властями, вместо того, чтобы занять последнюю полку в архивах страшной, но задвинувшейся в прошлое войны, породили небывалый всплеск ложных кляуз и доносов. Видя, с какой легкостью раздаются «вышки», нередко тем, кому в пору репрессий едва перевалило за восемнадцать, душевно защемленная публика озверела. Брошенные жены и любовницы – на фронте интимном, метящие в чужое кресло или незаслуженно обделенные начальством – на стезе карьерной, повздорившие соседи и завистники всех мастей – на лоне бытовом, наладились строчить кляузы, требуя скорого суда. То, что в загашнике болтались смутные, многократно искаженные слухи и всевозможные домыслы, их не смущало. Коль государство с такой маниакальной настойчивостью выкорчевывает последние, полусгнившие поганки дряхлеющей в памяти войны, почему бы под эту лавочку не свести счеты? Только гебистов, по долгу службы приневоленных разгребать множащиеся день ото дня и разящие душевным смрадом кучи, активность подобных «граждан» доводила до белого каления.
Дознаватель задумался и потянулся к внутреннему карману пиджака. Достал студенческий билет и, подержав в руке, положил перед Шабтаем. Указывая на лежавший под столом портфель, пригрозил:
– Попробуй только на проходную пялиться, арестуем. И чтобы через минуту тебя здесь не было!
– Я еще не все… – пытался возразить Шабтай.
– Неясно выразился? – дернулся человечек, взявшийся за дверную ручку.
– О валюте и иконах могу рассказать!
– Валюте? – Гебист опустил руку.
Объявленная медельинскому наркокартелю в 90-х тотальная война смотрелась невинной игрой в «Зарницу» на фоне карательных акций против советских валютчиков, которые благословил еще сам Хрущев. Но гебист и не подозревал, насколько уникальным окажется материал. Разработав его, он получит звезду майора – на полтора года раньше срока, предусмотренного нормой выслуги.
В считанные минуты студент-прогульщик живописал, как несколько семей, получивших добро на эмиграцию в Израиль, вкладывают немалые сбережения в валюту и дорогие иконы, рассчитывая беспрепятственно пройти таможенный контроль. И поможет им никто иной, как старший смены на брестской таможне по имени Николай. Все договорено и затребованный таможенником аванс передан. Между тем впавшие, безжизненные щеки гебиста просто зарделись, когда Шабтай выдал нечто невероятное, в шаблоны преступной мысли тоталитарного Совка не вписывающееся. Оказывается, более половины своих накоплений эмигранты уводят из страны по безналичке. И не валютой через Внешэкономбанк, а самими что ни на есть деревянными, перевозимыми частными лицами – в поездах, автобусах, прочем транспорте на колесах. И не через Чоп, Унгены или Брест, а внутри страны.
У многих семей, планирующих отъезд, в Израиле или США обитают родственники. У тех – состоятельные друзья и знакомые, которые не прочь поддержать живущих в СССР близких, эмигрировать пока не собирающихся.
Кандидаты в эмигранты сбрасывают свои деревянные последним, рассчитываются между собой и родственники за бугром – цикл замыкается. Оттого в переписке между близкими, живущими по обе стороны железного занавеса, столь милое еврейской душе слово «гезунт»[34] постепенно вытесняется актуальным, но все же реже употребляемым словом «эсн». И все на развес – килограмм, два, а порой и более. И подкопаться не к чему: еды в стране по-прежнему не хватает…
Продовольственная проблема провинции решается целой армией экспедиторов, ежедневно наводняющих Москву из сотен городов и весей. Тогда, что незаконного том, что сердобольный родственник повезет из благополучного Каунаса, скажем, в Златоуст «два килограмма гречки», как предписывает письмо из средиземноморской Хайфы или заоблачного Сиэтла? Волка ноги кормят, а евреев – взаимовыручка, испокон веков!
– Мы проверим. Понадобишься, позвоню… – обращаясь к кому угодно, только не к Шабтаю, молвил гебист. При этом нервно теребил подбородок.
– Запишу номер! – Учуяв реабилитацию, лазутчик бросился к портфелю.
Гебист, должно быть, примерявший нечто, не исключено, звезду на погонах, нырок Шабтая к портфелю проигнорировал и направился к выходу. Но у двери остановился и как-то буднично спросил:
– У тебя что – хвосты в институте? Гонят?
Путаясь в мыслях, доброхот стушевался. Когда же нашелся наконец, то увидел перед собой лишь широко распахнутую дверь.
Уныло пошаркав в прошлом и никак не вдохновившись, Шабтай засеменил по дорожке парка обратно. Поймав на улице такси, отправился в йоханнесбургскую синагогу литваков.
– Я ушел из ночлежки, ребе. Еще ночь – и меня прикончат! – Шабтай опустил носовой платок, обнажая нос картошкой в сине-лиловых разводах.
– Что случилось, Арон? – В голосе раввина мелькнуло скорее раздражение, нежели испуг.
– Мало нам антисемитизма, так в индусы меня прочат. Но беда не в этом: ощущение, будто в питомнике, где взращивают шваль да рвань!
– Чтобы устроить тебя, к самому эпископу обратился! – зло перебил Шабтая раввин. – Учти, наша община – самая законопослушная в городе. Прикажешь, репутацией ради тебя рисковать? Не могу… Сам посуди: без документов, с дикой историей, не еврейской совсем… Обратись в Сохнут[35], израильское посольство, к местным властям наконец. – Раввин отодвинул канцелярские принадлежности, давая понять, что аудиенция закончена.
Шабтай смотрел на ребе и переваривал вдруг посетившую его мысль: «Хоть и гонишь меня, все же советом твоим воспользуюсь… И не далее, как завтра, пойду в посольство, только не в израильское, а в американское. Пробившись на прием, выложу свой единственный козырь, о наличии которого до сих пор не догадывался».
Последние пять дней стебелек этой мысли, давший побег в Габороне, наливался соками, но созрел, обретя силу истины, только сейчас. Шабтай наконец уяснил, насколько он опасен для московских партнеров и почему им так важно как можно раньше отправить его к праотцам. Расскажи он американцам о приводном механизме похороненного под обломками «Джамбо» проекта, то, как минимум, лавры возвестившего о скором закате советского режима ему обеспечены. Сделай он это, не более, чем через сутки, доклад о разложении главарей советской разведки у Картера на столе.
«Шантажировать верхушку Первого управления, а может, и самого КГБ, президент, скорее всего, цэрэушникам не дозволит, – размышлял, обкатывая перспективу, Шабтай. – Слишком не прогнозируемы, не просчитываемы последствия. Ломать хрупкий, с трудом сложившийся баланс сил ни в чьих интересах. В термоядерный век любое потрясение, расшатывающее остов власти сверхдержавы, одинаково не выгодно обоим полюсам, не говоря уже о мире в целом.
Выйдя на Брежнева напрямую, Картер, скорее всего, предложит сделку. Вот вам папочка о разложенцах, разберитесь по-тихому – дурной пример заразителен. До частной лавочки власть низвели, создав опасный прецедент – что для вас, что для всех прочих. Здесь мы с вами по одну сторону баррикад. Но взамен – придержите вето в ООН по такому-то вопросу, или нечто подобное. Найдут что…