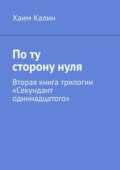Хаим Калин
Под солнцем и богом
Глава 19
– Забыл что? Топчешься…
– Спросить хотел…
– Что, недоплатили?
– О другом…
– Кстати, первый гонорар отпразднуешь? В меру, смотри!
– Мысль, право… Может, в «Тюльпе»[40] посидим. Угощаю.
– Со студентами не пью! И с прочими тоже. Матери отдай, одной не сахар!
– О родителях как раз, об отце…
– Отце? Ему сидеть да сидеть, начал только!
– Я могу и без денег… Ему помогите!
– Не понял: посылки или свидание?
– Отпустите его!
– Отпустить – куда и откуда?!
– Из тюрьмы.
– Ты что, с Луны свалился?! Ум за разум?
– А что я сказал?
– Сказал… Где находишься, надеюсь, помнишь? Мы – оплот Советской власти, ее защита! Твой отец – самый что ни на есть враг. Меха – все равно, что валюта, он же их расхищал! И наказан по закону, который для всех один! Отпустить… Батюшка пусть отпускает… Против власти кто согрешил, будет наказан, от звонка до звонка! Заруби себе на носу и больше о нем ни слова!
– Мой отец пешка, отдувается за других. А те, на кого работал, чистенькие, в тени.
– Это что – домыслы или как понимать?
– Куда уж, на самый верх тянется…
– Если знаешь, выкладывай.
– Зачем? На контакт ради отца шел…
– Кошки-мышки брось. Не то – на его место загремишь!
– После того, что для вас сделал?
– В общем так: хочешь сотрудничать – сотрудничай, но об отце забудь, пока не отсидит свое. Парень ты, конечно, не промах, побольше бы таких! Надеюсь, не запутаешься. Да и… за полсеместра стипендию, где еще?
– Ты что, оглох?! Не слышишь?!
Шабтай моргал, точно спросонья, хотя на самом деле не спал. Сидел в беседке с Барухом, своим подопечным, его окликнувшим, и, прикрыв веки, плутал: по советской юности, где в двадцать уже был развалиной, нет, не физически – в помыслах и душою, по раздолью короткой, но куда только ни кидавшей и как только не выкаблучивавшейся судьбы.
– Пить принеси, пересохло! – вновь прохрипел Барух.
– Может, в дом, кондиционер включим? – Шабтай приподнялся.
Полупарализованной Барух застыл, чем-то походя на осьминога, укушенного ядовитой змеей.
Открывая холодильник, Шабтай замер сам. Наконец до него дошло, почему со стариком столбняк приключился. Кондиционер он озвучил на иврите, ибо на идише, языке их с Барухом общения, дополняемого литовским, такого слова попросту нет. Как и не было кондиционеров, когда этот язык формировался, застряв в колыбели в силу раздробленности этноса-носителя.
Слово же «кондиционер» в жарком Израиле по частоте употребления уступает только «шалом»[41] и известно почти каждому, кто там гостил. Услышав иврит, Барух опешил, понимая, что беглый советский офицера из Анголы, живописавший ему свою одиссею, слово «мазган»[42] знать не мог.
Не сложно предположить, что и слово «холодильник» в идише отсутствует тоже…
Как Шабтай за своей речью не следил, маху все же дал – иврит совсем некстати вылез. Ведь с Барухом, то и дело впадающим в маразм, отношения притерлись, став первым проблеском в серой безнадеге, в которой, подавшись в бега, он отирался.
– Арон, ты бывал в Израиле? – Барух оторвался от стакана, тяжело дыша.
Шабтай принял стакан, аккуратно вытер салфеткой лицо старика (к нему прилипли апельсиновые волокна) и развернул коляску к дому.
– Везешь меня куда?! – Лицо Баруха загустело желтоватым испугом, словно пленка, сбившаяся после кипячении молока.
– Время обедать, да и лекарства пора… – как можно приветливее ответил Шабтай.
– Лекарства не буду! И в дом не вези, не хочу!
– Волноваться вредно и… – Шабтай хотел было продолжить: «Что с тобой?», но фразу оборвал, остановившись перед входной дверью. После чего заговорил как ни в чем не бывало:
– В Израиле я не был, хотя хотелось очень. До Шестидневной войны к родственникам еще выпускали, единиц и только членов партии. После же – не только прикрыли выезд, название страны старались не упоминать. Сионисты, агрессоры – пожалуйста, а Израиль и евреи – крайне редко. Словно нет нас с тобой, Барух, и не было! Адольф Гитлер в газетах можно чаще встретить, что не диво: он часть их великой истории, мы же ее жалкий обмылок. Выбросить будто жалко, авось да сгодиться, но юркой дробностью своей раздражает.
– Ты сказал мазган…
– Что это, Барух? – Шабтай отозвался не сразу – после паузы, словно спохватившись. Прослушал, дескать.
– Мазган – кондиционер то есть…
– Да, сказал. Ведь припекает! – Зарифмовав промах, Шабтай вкатил подопечного в прихожую, думая уже совершенно об ином.
Его помыслами завладело насущное – инстинкт, точно спиралью пронизывающий наш мятущийся, лишенный парности в генезисе мир. Тягаться с ним – мука, стерпеться – может быть, если по силам бодаться с природой.
Звонок из синагоги застал внучку Баруха на работе врасплох, но, уловив суть дела, она помчалась к раввину йоханнесбургских литваков сломя голову.
В последние полгода жизнь Дины превратилась в фиолетовый ад. Спрашивается, почему не в кромешный, а с подсветкой? Из сто двадцати, которые ее соплеменники на день рождения желают друг другу, отмерила лишь двадцать пять.
Внезапно ушедшая из жизни мать взвалила заботу о деде, полупарализованном, пережившем инсульт старике. Память несчастного словно рассекло на две неровные доли, в грубом соотношении один к двум. Начало пути – отчий дом в Паневежисе и первые тридцать лет в Литве – оголились до мельчайших подробностей, большая же часть судьбы – эмиграция, прорастание корней и обретение Земли Обетованной – перемешались, как шары в барабане лото. Сознание выпускало их по капризу и, понятное дело, по большей мере не те. Нанятых двух чернокожих сиделок дед выставил, а, очутившись в богадельне, пустился во все тяжкие. В итоге Дине пришлось его вернуть домой.
Иронизировать тут не столь неэтично, как не над чем. В Паневежисе тридцатых цыгане – большая экзотика, а негры – тем более…
О серьезности намерений Шабтая, назвавшегося Ароном, говорил его расквашенный, пошедший лиловыми оттенками нос. Не склонная, как и большинство женщин, к занудству психоанализа и отталкивающаяся лишь от предметных истин Дина, едва взглянув на пришельца, заключила: Арон готов сию секунду поселиться у деда и, пусть временно, впрячься в доведший ее до отчаяния труд. И вопреки досаждавшим ее в пути сомнениям, оказалось, что идея раввина не химера или глупая удочка, на которую достопочтимый служитель культа попался.
Рассудительную Дину не интересовали ни туманные мотивы Арона, путано поведанные раввином, ни прочая обволакивавшая событие шелуха. Ей достаточно было объять, что Арон – пусть оступившийся где-то, но с виду нормальный молодой мужчина, который нуждается в содействии не меньше, чем ее досаждает бремя забот.
Так выглядел лишь каркас события, хоть и пустотелый, зато весело поскрипывавший в лихорадке момента. Главное в самоощущениях девушки было то, что от пришельца исходило обаяние, которое могло минуть разве что черствую или мужеподобную женщину.
Он ничем не походил ни на развязных, провинциально шумливых израильтян, ни на напористых, расчетливых собратьев по обе стороны Атлантики. Ненавязчивость и застенчивая угловатость выдавали в нем посланца иных, укрывшихся за дымкой преданий краев.
Незлобивое, тлеющее уютом начало приглашало в почти исчезнувший мир, в котором некогда обитали ее предки – как здравствующие, так и ушедшие из жизни: бабушки, дедушки, прочие отделяемые лишь поколением собратья по крови.
Помимо сходства прототипа, лубочно-семейственного, генами беззащитного, словно у черепахи, сбросившей свой панцирь, эту общность объединял один характерный признак: они выросли в черте оседлости преимущественно реакционных и нетерпимых к евреям стран – Польши, Украины, Литвы, откуда ее семья родом. Путь предков выпускнице факультета иудаики был известен отнюдь не по одним преданиям.
Умаявшись от нищеты и чесночной юдофобии, какая-то часть восточноевропейских евреев снялась с насиженных мест и в поисках лучшей доли разбрелась по белу свету, забравшись и в такие дали, как ЮАР.
За каких-то полвека в Южной Африке эмигранты не только пополнили собою средний класс, а и выдвинулись на ряд ведущих позиций – в бизнесе, науке, даже в политике, где заняли, на первый взгляд, бесперспективную нишу борьбы с апартеидом. Но, обосновавшись в обществе открытой конкуренции, стали меняться, хотелось им этого или нет. Пусть новый социум расово был к ним терпим и по любому поводу руки не выкручивал, легко ли возвести шалаш, продираясь через частокол локтей – этот перпетуум-мобиле Гуляйполя капитализма? Оттого, выдрав себя из магмы черты оседлости, где так трудно, зато дружно всем жилось, и, войдя в пенистую воду общества «рваных» возможностей, лубочные переселенцы душою потекли, но все же остались самими собой. Богом, что даровано, то даровано, в одночасье не изживешь, не разбазаришь. Их же детям, не говоря уже о внуках и правнуках, было уже не до задушевных песен, привезенных прародителями с собой…
Пока Дина везла пришельца к деду, обитающему в пригороде, ее посещали любопытные, конфликтующие друг с другом эмоции. Ей было одновременно вольготно от замаячившей впереди передышки и неловко от дискомфорта, который испытывал ерзавший рядом спутник.
Поначалу ей казалось, что раздражитель беспокойства Арона – его неурядицы, увязнув в которых, он вынужден опекать старика-развалину – немыслимое для белых в Южной Африке занятие. Невольно подтверждая гипотезу, спутник молчал, нехотя, односложно откликаясь. На вопрос «Откуда вы?» пробормотал уклончиво «Издалека», добавив после заминки «Потом расскажу».
Дина не была бы женщиной, если бы в какой-то момент не задумалась: «Может, это я его волную, и Арон кочевряжится, уместно ли подбивать клинья. Он ведь по факту поденщик, прибившийся за кров в услужение. А возможно, еще лукавее: влечения пока не осознает, вот и дергается, как не в своей сбруе».
Чуть позже Дина заметила, что на поворотах, когда внимание концентрируется на дороге, Арон украдкой поглядывает на нее. Интерес его самый что ни на есть мужской, поскольку тревога за безопасность маневра неуместна: водит она хорошо и зря не рискует. Почему-то в эти секунды шарм господина из загадочных, лубочных далей тускнел, навлекая тревожные мысли: по суматохе доверилась типу без роду и племени, как бы не накликать беду. Но, невольно отсылая себя к раввину, авторитетнейшему предводителю общины, быстро успокаивалась.
Дед принял Арона настороженно: набычился и глядел исподлобья. Но, услышав родной язык (пришелец поначалу заговорил по-английски) заулыбался, чего не делал с тех самых пор, как его парализовало. Дина изумилась: как это ей раньше на ум не приходило? За полвека дед даже не освоил походный английский, не говоря уже африкаанс. Оттого, вполне вероятно, не последнюю роль в размолвке с сиделками сыграло незнание языка, а не цвет кожи, на который, брызгая в бешенстве слюной, он ссылался. Если, конечно, саму болезнь, заарканившую тело и разум, оставить побоку…
Сама Дина мамэ лошн понимала лишь отчасти, а изъяснялась обрывками наиболее употребляемых фраз. Своим осколочным знаниям была обязана годам, проведенным у grandparents[43]. У родителей, вкалывавших как тягловые лошади, сил на ее воспитание не оставалось. До поступления в начальную школу в основном росла вне отчего дома – то у родителей отца, то матери, кроме деда Баруха, ныне покойных.
Между пришельцем и дедом завязалась живая беседа. Дед размахивал правой не тронутой параличом рукой, раскраснелся. Маска болезненной желтизны исчезла, на лице заиграли бусинки целительного пота. Радуясь метаморфозе, Дина даже не подумывала промокнуть влагу салфеткой.
В речевом потоке, казалось ей, приятном для обоих, замелькало «Паневежис», географическое название, известное Дине с младых лет. Именно там, в далекой Литве, родился дедушка – единственный (на этот день) близкий родственник, которого до болезни просто боготворила за мягкий нрав и отзывчивость. Внимательно вслушалась, продолжая хлопотать по дому.
Мамэ лошн, и без того воспринимаемый через пень колоду, зачастил слащавой фонетикой, ни на один из ей известных языков не похожей.
Верткая, склизкая козявка поползла по телу, породив размышлений зуд: «О чем это они, и на каком языке? Может… Wow, да это же литовский – какой, помимо родного, дед может знать?»
Некоторые слова в литовских фразах узнавались. Дина даже не подозревала, что они не исконный идиш, а его прилипалы, как масса, в зависимости от региона, приблудившихся иных. Язык рассеяния – сиротство и вечные примы…
По всему выходило, что Арон из Литвы и, судя по непринужденности речи, покинул страну не в младенчестве, да и покинул ли ее вообще…
Дробную козявку проглотила ящерица с мельтешащим жалом, парализуя выпученными зенками.
Вздрогнув, Дина покосилась в сторону телефона. Ей безудержно захотелось вызвать такси и выпроводить пришлого, свалившегося непонятно с каких меридиан на их с дедом голову.
«Литва – не что иное, как республика СССР, который за одну непроницаемость границ вызывает предубеждение. Я объездила полмира, но ни один советский человек мне не встретился! Даже здесь, в ЮАР, варящейся в котле расовых волнений, четверть новостей – репортаж о нескончаемом турнире СССР – Планета Земля».
– Вам помочь? – На Дину смотрели темные, как африканская ночь, глаза на выкате. Умные, спокойные, вмиг рассеявшие или загнавшие на ночевку рептилии и гнус. – Хочу приступить к обязанностям…
Арон все схватывал буквально на лету: как перетаскивать больного с кровати в инвалидное кресло, чем кормить, какие гигиенические средства использовать и массу прочих навыков, прежде ей казавшихся вотчиной сугубо женской.
Заканчивала Дина инструктаж сбивчиво, повторяясь по нескольку раз. Словно прилипчивая собачонка увязалась мысль: не стерла ли с автоответчика новый телефон Джейкоба, ее бой-френда, связь с которым из-за деда оборвалась месяц назад, и что-то еще, похоже, сопредельное, но пока неуловимое.
Введение в ремесло сиделки вышло на диво коротким и по логике действа время было двигать домой. Но Дина почему-то не торопилась раскланяться, копошась на кухне. Вытаскивала и задвигала сковородки, кастрюли, не отдавая себе отчет зачем. Шабтай же стоял рядом, терпеливо дожидаясь указаний или, может, осваиваясь на новом месте.
– Будьте спокойны, справлюсь… – Приятный мягкий тембр остановил Дину, изготовившуюся вытащить ту же кастрюлю в третий раз.
– Да, конечно, не сомневаюсь. Ладно, если что, звоните.
Дома Дина приняла душ, улеглась на диване и бесцельно «листала» телевизионные каналы. Выглядела при этом откровенно рассеянной – точь-в-точь как недавно на кухне у деда. В какой-то момент мельтешением экрана пресытилась, выключила телевизор и поплелась в спальню. Приземлилась на краешке кровати и, почти не двигаясь, просидела долго, будто заскочила в густой туман.
Мгла загрузила приятной тяжестью, но помыслы обесточила. Прошлое, настоящее, будущее слились в единый, управляемый внешним гипнозом поток – он ублажал материю, но душу сковывал. Вместе с тем в этом сытном, отупляющем единообразии оставаться вовсе не хотелось, но изменить что-либо, вытряхнуть себя из вязкого омута полуреальности-полусна сил не было.
В этот вечер телефон Джейкоба она не искала, хотя и порывалась порой. Каждый раз Дину осаждал следящий за каждым движением взгляд. Будто не давящий, но охмуряющий.
Человеческий облик, обрамляющий этот взгляд, отдавал заурядностью. Как представляется, Дину, привлекательную молодую женщину, увлечь не должен был. Но у подспудного свои законы…
Барух крепко спал, склонив набок голову. Из полуоткрытых уст текла слюна, собирающаяся в пузырящуюся лужицу. Шабтай салфеткой промокнул губы и рубашку Баруха, уселся в кресло напротив. Но, увидев скопившуюся на прикроватной тумбочке посуду, собрал и отнес на кухню. Вернулся в зал, помялся малость и отправился в спальню, где, словно с разгону, плюхнулся на кровать. Ноги остались на полу, руки же задвигались, не находя себе места: поправляли волосы, рыскали в карманах, в конце концов сложились на груди.
Дина не шибко заблуждалась, предположив во время поездки к деду, что дискомфорт Шабтая – от обуявшей к ней симпатии. Между тем истина гнездилась, как всегда, посередине…
В эти минуты, через двое суток после знакомства с Диной, Шабтаю до разбухания извилин и конечностей хотелось женщину. Только не избирательно конкретную, а любую. Разве что аборигенкой побрезговал бы… При этом в перспективе – только внучка Баруха, не много не мало работодатель и распорядитель угла, с таким трудом обретенного. Одно лишнее движение – и пинком в Крюгер парк[44]… Кроме того, Дина мыслилась им и в ипостаси связного, но для связи с кем и какой, он пока представлял слабо.
Собственно в чем вопрос? Разведка сильна планами и подбором кадров. День икс не наступил – пасутся пусть пока…
Бурное сексуальное прошлое сыграло с Шабтаем злую шутку. Оказавшись на голодном пайке, а вернее, без такового, он захворал от перепроизводства соков. Тут-то и обуяла его мания, настоящая, без литературных прикрас. Спонтанный нырок из Ботсваны – будто в бегстве от анонимных, живущих по сицилийскому счету партнеров – судя по перекличке сюжета, таковой не был. Напротив.
Шабтай охмурял прекрасный пол везде, в любое время суток, при любой погоде, невзирая на общественный строй, полушария и климатические зоны. На этой стезе отметился и рекордом, в силу крутой смены эпох так и не превзойденном. В разведшколе ГРУ совратил повариху, мелькавшую в расположении хозчасти всего несколько дней. Любопытно даже – чем он «принцессу поварешки» соблазнил? Песни пел лишь строевые, а стихи – костяшками на счетах гонял, будущие барыши сочиняя… Не дай бог, застукали бы – прямая дорога в дисбат. Жаль, ту семинарию прикрыли, спортивный лагерь там. А не то, в наш ушлого пиара век, в пищеблоке красоваться бы памятной табличке. А то и на самом КПП!
Шабтай, словно кумулятивный снаряд, прошибал любую броню – от приглянувшихся горничных в гостиницах до дамочек высшего света. Мягкая, присущая национальному типу вкрадчивость в сочетании с дивной изобретательностью и настоящим гипнозом, заставляли океаны мелеть, а горам расступаться. Автономии – вестимо какой…
Нутро Шабтая ныне бурлило, мешая хоть на секунду забыться. В нем кипели нейроны побед и вкушений – старых, свежих совсем, всяких. Неотразимые Барбара и Регина, косящиеся друг на друга на пьедестале абстракции, одноразовые как жевательная резинка секретарши и медсестры, измаянные домогательствами боссов и тянущиеся к чему-то светлому, солдатки с автоматом «Узи» наперевес, разругавшиеся с родителями и тщащиеся что-то доказать, стареющие директрисы банков и жены дипломатов, пресытившиеся скукой и фальшью этикета – все, как на подбор, естественные или выкрашенные блондинки – переплелись в воображаемой оргии ловеласа.
На завалинке же этой сауны, стегающей сухим паром, но наглухо заколоченной, примостилась, скромно сложив руки на коленях, Дина – единственный на тот момент символ мутной бездны, именуемой «женщиной», которой Шабтай как языческим божкам поклонялся. Но при полнорыбье в ста из ста случаев прошел бы брюнетки мимо…
Шабтай глубоко вздохнул и перевернулся набок. Вязкий, потливый сумбур мало-помалу ужался в объеме, слипаясь в силосную жвачку, совсем не удобоваримую. Лишь Дина сидела на прежнем месте, застывшим взором глядя на него. К слову, ожидалась через час, утром звонком предупредила о визите.
«Сомнительно, что с наскоку возьмешь, но почву взрыхли. Сказочку придумай, яркую и гладкую! А завтра-послезавтра прокатимся – на качелях, а хоть на носороге… Постой, кого она напоминает? Вертится на уме… Неужели Розу? Точно! Брюнетка-смоль, пышные формы, большие, яркие глаза и нос горбинкой, как у Барбары Стрейзанд. И не вспомнил бы, не забрось сюда судьба…»
– Сынок, ты давно видел Розу?
– Какую Розу, мама?
– Розу Шмерлинг, дочь Раи и Самуила.
– Почему спрашиваешь?
– Как она?
– Откуда мне знать?
– Вы же на одном курсе…
– Да, но факультеты разные, видимся мельком…
– Беда у них.
– У дяди Самуила грыжа?
– Не шутил бы так… Несчастье у Раи, вернее, у брата ее, Лейзера.
– Брата? Знаю лишь сестру.
– Дора из Каунаса, местная, а брат Лейзер, конструктор, в Москве живет. Рассказывала…
– Не помню…
– Странно, с твоей-то памятью…
– Что мне до дел взрослых? В запарке друзей не узнаю!
– Брат Раи в тюрьме.
– К-ак в тюрьме? К-как…
– Ты слышал никак?
– Отк-уда?
– Зачем только Рая делилась? Мне что, своей беды мало? Говорит: о брате никому, кроме меня. Не обвиняет напрямую, но… Я сроду не ябедничала!
– В чем дело, мама? И как тебя можно подозревать?
– Брат ее, Лейзер, полгода назад кислород ему перекрыли. То ли не продвинули по пятому пункту, то ли его проект под сукно, не помню…
– Мы здесь при чем?
– Мы? Почему мы?
– Говоришь, подозревает!
– Племянник Раи из Нью-Йорка прилететь должен был. Узнав о визите, брат надумал свое открытие американцам передать. Чудак, одним словом, мишугене[45]… Нет чтобы о семье думать, с огнем решил поиграться! А институт, в котором работал, секретный, армию обслуживает. Неделю назад Шперлингов обыскали, изъяв папку, которая предназначалась для передачи. В этот же день и даже час в Москве арестовали Лейзера, прямо на работе. Хорошо, что Рая при обыске нашлась: понятия не имею, что там. Семейные фото, говорил. Не приведи господь, не то ляпнула, сидела бы без вины виноватая! Ревет: кроме меня, ни с кем не делилась. Самуил же молчун, слова из него не вытянешь. Здесь верю я ей… Помню даже тот вечер, когда с ней секретничали. И зачем я только слушала, прок от чужих тайн? Ни живой души, кроме нас с Раей, в квартире не было. Лишь ты курсовую писал…
– Хвалить тебя будем, Шабтай, молодчина!
– За конструктора?
– Как догадался? Ах да, оттуда же… Смотри, помалкивай!
– Отца отпустите? Я столько сделал всего…
– Не гони лошадей! Всему свое время…
– Когда же?
– Заладил: когда-когда. Отучишься – посмотрим…
– Мне четыре семестра еще, отец загнется.
– Во-первых, отца на общий режим переведем, это сделаем. Во-вторых, о семестрах забудь, их у тебя больше не будет.
– Как это?
– В нашу спецшколу пойдешь. На научном уровне, так сказать…
– Не понял, а институт?
– Дался тебе институт, сплошные переэкзаменовки да хвосты! Без нашей помощи – отчисли бы давно!
– Школа в Каунасе?
– Школа не в Каунасе и даже не в Литве.
– Не поеду, мать не оставлю!
– Здесь мы решаем, кого, когда и с кем оставить. И куда распределить, порой надолго…
– Мать не брошу!
– Кто сказал бросать? Увольнительные, отпуск… Да и учебы всего год. Пролетит – не заметишь!
– Не могу.
– Ну, знаешь, (после паузы) с твоими-то хвостами… Без нас, сколько протянешь? Вот и я говорю – недолго. Далее голая физика: берем тело, одеваем в сапоги и прямо в армию. Как защебечешь тогда?