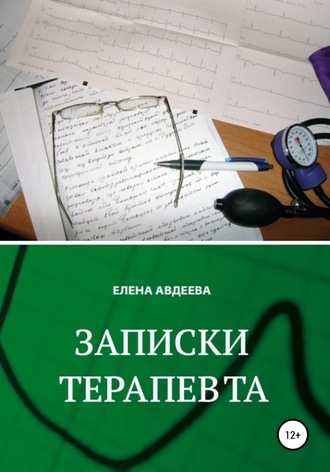
Елена Викторовна Авдеева
Записки терапевта
Надеждинская больница
Село Вольно-Надеждинское – центр Надеждинского района, находится ровно в часе езды на электричке от городского железнодорожного вокзала, т. е. добираться не дольше, чем с Чуркина до Второй речки. В Надеждинской ЦРБ долго работала до прихода в институт уважаемая и любимая мной Валентина Михайловна Глазунова, краевой гематолог, а совсем недавно начинал свой трудовой путь мой бывший студент Марс Сафиуллин, выполнивший под моим руководством небольшую научную работу. Так что преемственность прослеживалась. Поехала знакомиться. Здание Администрации ЦРБ – рядом с железнодорожной станцией, двухэтажное, старое и обшарпанное, но при портике с колоннами. Кабинет главного врача – на втором этаже.
Главный врач, Дина Андреевна Зорина, женщина за 50, приняла меня любезно (ей уже звонили из крайздрава), но несколько настороженно: из города и в глушь? Поговорили о структуре больницы, графике работы. В то время больница была ещё на шестидневке, рабочий день, как и везде. Отличительная и, к сожалению, негативная особенность НЦРБ – в территориальной разбросанности лечебных подразделений, что делает невозможным организацию общего приёмного покоя. Поступающих по направлениям врачей или по СМП больных осматривают заведующие отделениями, отрываясь от обхода или другой плановой работы («скорая помощь» ждать не может, и больные из района не могут прибывать по расписанию), и тут же определяются с госпитализацией или отказом от неё. Отделение скорой помощи – в крыле административного здания. Рядом с этим корпусом – более современное кирпичное здание хирургического и гинекологического отделений. Здесь же на первом этаже рентгенологический кабинет, а во дворе – флюорограф. Поликлиника располагается в поселке Новом, куда надо ехать на маршрутном такси или автобусе. Детское отделение и лаборатория – в бывшем здании райкома КПСС, не предназначавшемся изначально для лечебного учреждения. А отделение общей терапии метрах в 300 от хирургического блока. Оно рассчитано на 35 коек, что предполагает 1,5 врачебных ставки + 0,5 ставки заведующей.
При виде моего будущего места работы у меня «упало сердце». Представьте себе настоящий барак из довоенной эпохи, с покосившимся крыльцом и без опознавательных знаков. «Мы осенью планируем переезд терапии в нынешнее административное здание, а администрацию поселим на втором этаже «детского» корпуса», – произнесла главный врач, видя мою, мягко сказать, оторопь. Заходим внутрь через служебный вход: крыльцо для больных – с противоположной стороны. Коробки, старая мебель, баллоны с кислородом в «предбаннике». Дальше – длинный коридор, палаты с обеих сторон, двери открыты и занавешены простынями. Сразу направо от входа – ординаторская. Конечно, если сравнивать с кабинетом врача в английском сериале по М. Булгакову «Записки врача» – нищета, но всё, что надо для работы, есть: два стола, полки для книг, диван, на стене «Классификация гипертонических кризов», прилично нарисованная. В углу – переносной электрокардиограф. Доктор – молодая симпатичная женщина с тоненькой косичкой ниже лопаток. Это была Эмма Леонидовна Бобровская, местный «ветеран» и мой будущий соратник на многие годы. Но в тот момент я никак не думала, что задержусь здесь надолго. Договорились, что выйду на работу 9 августа, отпуская тем самым доктора в отпуск. Оставшиеся две недели настроение моё подавленное, но странно: в гороскопе из газеты «Владивосток», который мы тогда ещё активно читали – на ближайшее время для «близнецов» (а я – «близнец») всё хорошо и правильно, а будущее ещё лучше.
Итак, мой первый рабочий день на новом месте. Оказалось, что вместе со мной впервые вышла на работу доктор, только что закончившая интернатуру в больнице ДВЖД. Марии Ильиничне лет 26, она высокая, интересная – первое впечатление благоприятное. Для передачи больных собираемся на общий обход. Больных около 30 на этот день. Доклад Эммы Л., беглый осмотр, планы на дальнейшее в отношении каждого пациента, и идём в следующую палату. Во второй по счёту палате внимание сразу же привлекает один больной, мужчина лет 45. Эмма Леонидовна докладывает: «Находится в отделении 5-й день, температура держится на уровне 38–38,5 °С. На рентгенограмме – пневмония слева в верхней доле. Обратился через неделю от начала заболевания». Жалуется на сильную боль в грудной клетке слева, кашель с серо-зелёной мокротой. При осмотре: одышка в покое до 26–28 в минуту, тахикардия – 100 в минуту, АД 100/70 мм рт ст. В подмышечной и прекардиальной областях слева – грубый шум трения плевры. Состояние в целом расцениваю как тяжёлое, меняю антибиотики и назначаю их внутривенно, увеличиваю объём дезинтоксикационной терапии, подключаю глюкокортикоиды внутривенно, учитывая вовлечение плевры. Идём дальше. В предпоследних двух палатах, расположенных друг против друга, дверей нет. Справа – на функциональной кровати лежит мужчина с диагнозом «ишемический инсульт»: в сознании, но в контакт не вступает из-за афазии, полный паралич правых конечностей, нарушение тазовых функций. Слева – женщина в аналогичной ситуации, но сознание отсутствует. С обоими больными сидят родственники. Э. Л. сообщает, что невропатолог их смотрел, назначения выполняются.
Наконец, миновав общий довольно просторный туалет (хоть не на улице!) заходим в последнее помещение, обычно исполняющее функции «приёмного покоя». На кушетке сидит худенькая старушка, одна нога которой обута в валенок. В комнате запах гниения. Выясняется, что это доставленная с платформы «потерявшаяся бабушка» без документов и способности сообщить свою фамилию и адрес. Находится здесь уже несколько дней, история болезни на неё почему-то не заведена (отсутствуют документы?). Приглашаю дежурную медсестру (это совсем молоденькая девочка, Вика Тхоренко, впоследствии выросшая в старшую медсестру), надеваю перчатки, прошу освободить больную ногу от обуви и тряпок. Зрелище нашим глаза предстаёт потрясающее: стопа вся черная с гноящимися дефектами кожи и гиперемией вплоть до верхней трети голени. Ситуация ясна – влажная гангрена. Звоню заведующему хирургическим отделением – он занят, на операции, передадут, чтобы посмотрел по дежурству. А пока – заводим историю болезни, назначаем антибиотики, капельницу с целью дезинтоксикации, заказываем анализы. Времени уже 16 часов, хирург пока так и не пришел, передаю больных дежурному врачу (кажется, ЛОР-врач из поликлиники) и идём на электричку. По дороге договариваемся с коллегой, как разделить работу: ей 22 больных, мне – остальных, включая самых проблемных.
Едва войдя в отделение следующим утром, узнаю, что вчерашний больной с плевропневмонией ночью умер, уже увезен в Раздольненскую больницу, где находится приспособленный под морг сарай, а хирург исполняет функции патологоанатома. Машина на вскрытие повезет меня около 11 часов, а пока надо решить вопрос с гангреной стопы у бабушки, ведь хирург так и не пришел. На этот раз я уже звоню начмеду (моя сокурсница Кравченко Вера Алексеевна) и уже не прошу, а требую организовать немедленную консультацию хирурга. Сегодня заведующий хирургическим отделением появляется быстро, бегло осмотрев ногу больной, ничего не говорит, и собирается уходить. Я буквально хватаю его за полу халата: «Так Вы переводите больную? Ведь ей нужна срочная операция!!!» Снисходительный взгляд: «И что дальше? Мы прооперируем, и она у нас останется жить?». После моего твёрдого обещания «забрать» больную сразу после снятия швов, он даёт добро на перевод. Быстро собираем больную, оформляю эпикриз, вызываю машину СМП, и с этим вопросом пока всё. Такой была моя первая встреча с Шамовым Владимиром Фотиевичем, с которым мы вскоре стали хорошими приятелями и коллегами. «Просто раньше терапевты ничего не требовали»,– объяснил он позже свою реакцию. Ну а с бабушкой дальше было всё хорошо. Ей благополучно ампутировали ногу до нижней трети бедра, операцию она перенесла хорошо, переехала в терапию уже в обычную палату. А через несколько дней объявились счастливые родственники, которые и не думали её бросать: просто женщина заблудилась.
Часам к 12 подъехал шофер на больничном газике и повёз меня на вскрытие в п.Раздольное. Не буду описывать «морг», зрелище неприглядное, и уже невыносимый запах (жара). У больного оказалась пневмония с деструкцией, осложненная гнойным плевритом и перикардитом. Выпота в перикарде было немного, но это был густой гной с уже значительным утолщением серозной оболочки по типу «волосатого сердца». Ясно, что прогноз был предопределён в связи с поздним обращением больного. Терапия, наверное, тоже была недостаточной: недооценёны упорный интоксикационный синдром и поражение плевры.
Начался обычный рабочий процесс «врабатывания», осложнённый тем, что ни я, ни мой новый доктор не знали местных особенностей и контактов: как вызвать специалиста на консультацию, по какому расписанию работает лаборатория, когда доставят рентген-снимки и много других мелочей. Я уже упоминала, что отделение общей терапии располагалась на отшибе, и связь с другими подразделениями – только по местному телефону. Многое поначалу вызывало недоумение. Например, все истории болезни и листы назначений лежали в одной стопке: раскладывать их по палатным папкам было как-то не принято. А когда мы положили оформленные истории болезни выписных больных в заведенную для этой цели папку непосредственно в день выписки, наша старшая медсестра, в чьи обязанности входило подавать текущие сведения и относить истории медстатисту, была поражена. Исторически сложилось, что выписки отдавали больным сразу же, больничные листы выписывал лечащий врач, а сдать сами истории болезни не возбранялось и в конце месяца, в лучшем случае. Пришлось наводить во всём привычный порядок, на утренних пятиминутках рассказывать сёстрам о больных, проверять сделанные назначения, обучать действиям в неотложных ситуациях – таких, как гипертонический криз, боли в грудной клетке, в животе, лихорадка. Это было необходимо, поскольку дежурили в ночное время большей частью врачи не терапевтических специальностей. Терапевты поликлиники избегали брать дежурства, хоть это и был единственный способ подзаработать. Мы с М. И. могли «прикрыть» не более трети месяца: два-три дежурства – я и шесть-восемь дежурств – она.
В течение нескольких дней я разобралась в ситуации и уже могла спокойно работать, зная, куда в случае чего обращаться. Беда, что многие врачи жили или во Владивостоке, или в других населённых пунктах Надеждинского района, поэтому вызвать в вечернее – ночное время невропатолога было практически невозможно. А из терапевтов, если у дежурившего ЛОР-врача возникала такая необходимость, доступна была только всё та же Эмма Леонидовна, жившая на станции Совхозная – минут тридцать езды на автомобиле.
Шла вторая половина августа. Жара. Наплыв дачников, и череда сосудистых катастроф: инсульты, инфаркты, пароксизмы аритмии, гипертонические кризы. Об инсультах я напишу чуть позже, обобщив наблюдения за все прошедшие годы. А вот с тяжелыми инфарктами у мужчин относительно молодого возраста мы столкнулись в первые же дни. К счастью, большинство таких экстренных госпитализаций приходилось всё же на рабочее время, в том числе субботу или ранее послерабочее время, пока мы находились на местах: ведь и при желании уехать раньше 16 часов было невозможно – так ходили электрички. И спасибо, что вообще ходили: почему-то в это время возникали задержки, опоздания, а один раз, когда я возвращалась после тяжёлого дежурства, поезда вообще встали у станции Угольной из-за аварии на путях. Пришлось тогда добираться домой с пересадками: автобусом до трассы и «на частнике» до города.
Итак, инфаркты. Благодаря быстрому и точному следованию алгоритму помощи, действовавшему в то время, можно считать, что несколько жизней нами было спасено. В нашем арсенале были препараты для нейролептаналгезии (фентанил, дроперидол), морфин, гепарин, реополиглюкин как дезагрегант и средство для поддержания гемодинамики. Кислород, правда, в подушках. Истинный кардиологический шок в те тяжёлые дни нас, к счастью, миновал, а с рефлекторным мы справлялись с помощью норадреналина (допмина ещё не было) и глюкокортикоидов. Особенно запомнились два больных, оба местные жители, мужчины один 32, другой 40 лет. Всё по тому же «закону парных случаев» они поступили в отделение с интервалом по времени в несколько дней. У одного из них был трансмуральный инфаркт задне-диафрагмальной стенки, у другого – передне-септальный. У первого после введения морфина возникла брадикардия, но уже атропин восстановил нормальное число сердечных сокращений. Во втором случае обошлось без нарушений ритма, но болевой синдром в обоих случаях был купирован только после повторного введения морфина (после НЛА). У обоих на фоне болевого синдрома развивался рефлекторный шок со снижением АД до 80/50 мм рт ст, но после полного купирования болей гемодинамику удавалось восстановить. Один из этих больных (с задним инфарктом) здравствует и поныне, активно работает, другой, к сожалению, умер от повторного инфаркта миокарда лет через 10, проживая эти годы полноценной жизнью и занимая руководящую должность. Летальных исходов в связи с инфарктом миокарда, наступивших в дневное время, я не помню.
Второй напастью, обрушившейся на нас в том жарком августе, были… осы. Интересно, что в последующие годы эта ситуация ни разу не повторялась. А тут «скорая помощь» один за другим привозила «дачников», жителей Владивостока, и всех – уже в состоянии анафилактического шока, причем, первая доза адреналина вводилась фельдшером ещё на месте. Особенно запомнилась одна семья – муж с женой и девочка, доставленные одновременно, и все в одинаково тяжёлом состоянии: нет пульса, диффузный цианоз, холодные конечности. Дело было во второй половине дня в субботу, главной медсестры больницы, выдававшей медикаменты, на работе уже не было. А мы никак не рассчитывали на такой случай, и ампул преднизолона явно не хватило. Работали по полной программе: адреналин повторно до 0,5 мл на иньекцию, физиологический раствор (у мужчины одновременно в две вены) и, конечно, по 60–90 мг преднизолона струйно внутривенно. Но пришлось и задействовать администрацию, привозить из дому главную медсестру, которая выписала требование на 2 упаковки преднизолона, с чем я и побежала в аптеку, благо она через дорогу. Справились мы с шоком часа через 3–4, после нормализации давления ввели антигистаминные, и, как положено, рекомендовали приём небольшой дозы преднизолона внутрь ещё в течение 5 дней для предотвращения поздних органных изменений (по типу иммунных миокардита, гепатита, гломерулонефрита). А пострадавшее семейство в удовлетворительном состоянии на следующий день отправилось домой.
Инсульты
Наступил сентябрь, и начался переезд отделения в бывшее здание администрации. Именно в этом доме размещалась вся Надеждинская ЦРБ в 70-е годы. Ремонта не было, и въехали мы в неудобные большие палаты, ещё и сообщающиеся между собой. Крутая лестница на второй этаж. Общий туалет – рядом с пищевым блоком на первом этаже. И неприятный запах, исходящий откуда-то снизу. Это была осень 1993 года, прогремевшая внезапной эпидемией дифтерии. Все срочно прививались, признаки любой ангины были показанием для госпитализации. В связи с форс-мажором наше отделение временно было объявлено «ангинозным», и только на первом этаже зарезервированы два помещения на случай поступления терапевтического больного, которому нельзя ни отказать, ни переправить в другой стационар.
Не успели мы расположиться и заполнить палаты на втором этаже «ангинами», как «скорая» доставила из района дач женщину в возрасте 54 лет. У неё была нарушена речь, и отсутствовали движения в правых руке и ноге. Сопровождали её две взрослые дочери, одна из которых врач-терапевт. Они рассказали, что мама уже более 10 лет страдает гипертонической болезнью. Давление контролировала не ежедневно, в частности, сегодня,уезжая на дачу, его не измерила. Состояние больной было тяжёлым из-за неврологического дефицита, АД на момент поступления 250/120 мм рт ст. Мне было ясно, что это церебральный инсульт и, скорее всего, геморрагический: из-за внезапности развития на фоне высокой артериальной гипертензии, хотя ни рвоты, ни повышения температуры на тот момент не было. Везти больную в город без предварительной договоренности и при опасности внутримозгового кровоизлияния я не решилась, а дочери не настаивали. Разместили её в одной из двух комнат на первом этаже. Приложили лёд к голове и стали снижать АД дробными дозами клофелина, поставили капельницу с физиологическим раствором и эуфиллином. Это был уже не первый инсульт в моей здешней практике, поэтому теоретически я уже подготовилась, благодаря монографии Трошина В. Д. Она прекрасно и доступно для терапевта излагала принципы диагностики, дифференциальной диагностики и, соответственно, лечения. Согласно автору, в лечении геморрагического инсульта после тех мероприятий, что мы уже сделали, на первом месте была гемостатическая терапия эпсилон-аминокапроновой кислотой внутривенно капельно в течение 10 дней. Естественно, геморрагический характер инсульта должен быть подтверждён. Вторая половина дня, невропатолог живёт в п. Раздольном, телефонной связи с ним нет. Прошу приехать дежурного анестезиолога и сделать диагностическую люмбальную пункцию. В пунктате оказалась кровь, что позволило приступить к гемостатической терапии. АД к этому моменту снизилось до 180/100 мм рт ст. Несколько улучшилась речь. После введения реланиума больная уснула. Рано утром приехал уже предупреждённый невролог, подтвердил мой диагноз, одобрил лечение, но, оценив неврологическую симтоматику, сказал, что кровоизлияние обширное, и прогноз более чем сомнительный. Действительно, речь больной снова ухудшилась, появилась ригидность затылочных мышц, АД оставалось выше 200 мм рт ст и снижалось только при повторных иньекциях клофелина. Использовали мы осторожно и бензогексоний внутривенно капельно, но эффект от него был только под иглой. Я поговорила с дочерьми, объяснила ситуацию, сложность ведения такой больной в отсутствие невропатолога и, поскольку одна из дочерей – медик, посоветовала привезти на консультацию ещё и специалиста из города, оговорив с ним возможность перевода больной в неврологическую клинику. В этот же день приехал доцент кафедры нервных болезней, наш диагноз и лечение признал адекватными, а транспортировку в город противопоказанной. Между тем состояние больной день ото дня ухудшалось, снижался уровень сознания, АД упорно держалось на высоких цифрах. Уход был, конечно, идеальный, одна или обе дочери находились при ней постоянно, я оставалась лечащим врачом и ежедневно на обходе тщательно ее осматривала и выслушивала. При этом взгляд дочерей становился всё более враждебным. Они не доверяли сестрам, по вечерам требовали показать им лист назначений, следили за их исполнением и постоянно выказывали своё раздражение дежурным персоналом. Ситуация создалась, мягко говоря, неприятная. Просто поставить их на место я не могла, во-первых, потому, что мне очень было жаль этих девушек, которые внутренне не могли смириться с тем, что такая «здоровая» и молодая мама умирает в больнице, и никто не может ничего сделать. Во-вторых, это был мой второй месяц в отделении, опыт работы с неврологическими пациентами практически отсутствовал. Медсёстры еще не были достаточно обучены и «вышколены», и случалось, допускали промахи. Так, одна из них по дежурству вместо назначенного клофелина уже собралась было вводить коффеин, но была остановлена бдительной дочерью. Понятно, что от одного миллилитра коффеина ничего драматического произойти не могло, к тому моменту уже и клофелин практически не работал, но сам факт ошибки привел к скандалу. Медсестра была отстранена от ночных дежурств, контроль за работой персонала ещё более усилен, но финал неумолимо приближался. На девятые сутки поздно вечером старшая дочь приехала с бригадой реанимации, и больную отвезли в краевую больницу, где она на следующий день умерла. На вскрытии – обширное внутримозговое кровоизлияние в теменной области с прорывом крови в желудочки мозга. Состояние, несовместимое с жизнью, но для меня эта история ещё продолжалась. Дочь написала заявление в районную прокуратуру, меня вызывал следователь, историю болезни изымали для проверки, я писала подробную объяснительную записку. На заседании ЛКК (лечебно-контрольной комиссии) больницы мне объявили замечание «за нарушение этики», конкретно – неправильное поведение с родственниками. Но на горьком опыте учишься. И в дальнейшем я никогда не жалела времени на разговоры с родственниками, рассказывала им, как правильно ухаживать за больным и не препятствовала их присутствию в отделении, при возможности помещая в отдельную палату. Но это всегда должен быть только один ухаживающий, выполняющий наши требования.
Проблема инсультов красной нитью проходила через все, в общей сложности, 15 лет моей работы в ЦРБ. В соответствии с приказом Минздрава, принятым в 90-е годы, госпитализации подлежали ВСЕ больные ОНМК, за исключением агонирующих и неизлечимых онкологических больных. В выездных бригадах «скорой помощи» в Надеждинском районе работали и работают до сих пор исключительно фельдшера: единичные врачи появлялись, но надолго не задерживались. Естественно, что везли всех, у кого ещё сохранялись дыхание и кровообращение. Даже, если было очевидно, что больной в глубокой коме и уже не первые сутки (пролежни!), его госпитализировали в терапию, а с 1998 года, когда открылось реанимационное отделение, – в ОРИТ. Такие случаи происходили часто, поскольку жить на отапливаемых дачах, да и в домах посёлка, оставались престарелые родители горожан или кто-то один из них. Обеспокоившись отсутствием связи, дети приезжали и, застав беспомощного и уже без сознания родственника, вызывали «скорую». Некоторые из горожан оставались ухаживать, иные сразу уезжали решать другие вопросы. В результате с учётом «дачной ситуации» количество больных ОНМК составляло с нарастанием из года в год от 8 до 11,5 % всех пролеченных за год больных терапевтического отделения. А из всех умерших пациентов в терапевтическом отделении и в ОРИТ на терапевтических койках за год больные с инсультами составляли в среднем 45 %. Конечно, инсульт инсульту – рознь: при геморрагических летальность достигала 75–90 %, но их и было, как минимум, в 3 раза меньше, чем ишемических, протекающих более благоприятно. В категорию последних попадали и больные с так называемыми «преходящими ОНМК» (транзиторными ишемическими атаками – по более поздней терминологии). Поэтому общая летальность от ОНМК по ежегодным отчётам колебалась от 19 до 28 %.
Я старалась по мере возможности помещать больных с тяжёлыми инсультами в отдельную палату, но такая возможность, увы, не всегда появлялась: 2-местных палат в отделении было всего 3. К сожалению, чаще мы вынуждены были в условиях переполненного отделения оставлять «парализованных» пациентов в 5–6 местных палатах, осознавая, какая это психологическая тяжесть для их соседей. Просто удивительно бывало порой, как люди это выдерживали, даже если такой больной был отгорожен ширмой. Сельские жители гораздо более терпимо относились к соседству жизни и смерти, а городские родственники ужасались и требовали перевода в город. Иногда это получалось, если родственникам удавалось договориться с заведующим одного из неврологических отделений Владивостока, тогда я ему звонила, характеризовала состояние пациента и возможность его транспортировки. Последняя осуществлялась чаще всего нашей машиной СМП, причем, если рейс был специальным, а не совмещённым с другим заданием руководства, его нужно было оплатить. Бригада МЧС, заказанная для транспортировки в город родственниками, также приезжала не бесплатно. Самым удачным вариантом была ситуация, когда СМП привозила больного из района дач в сопровождении родственников, я осматривала его прямо в машине, и если состояние пациента позволяло везти его дальше, писала заключение с выводом о необходимости лечения в неврологическом отделении. Та же машина доставляла его в приёмный покой одной из больниц города, в зависимости от прописки, и рейс, понятно, оплачивался уже нашей больницей.
Это я всё описывала проблемы госпитализации и собственно нахождения больного ОНМК в районной больнице. Теперь о возможностях диагностики. С первичным осмотром невролога получалось по-разному. В рабочее время мы оформляли экстренный вызов невролога из поликлиники или ждали нашего консультанта Ивана Адамовича Лейбольта, работающего на постоянной основе в Раздольненском психоневрологическом диспансере. В выходные чаще всего с осмотром невролога ничего не получалось, ночью пригласить невролога также было практически невозможно. Не редкостью были и случаи, когда невролог в первый раз осматривал пациента с ОНМК на третьи сутки.
Итак, первый осмотр с заключением о диагнозе (предварительном) и неотложной терапии практически во всех случаях проводил терапевт, а поскольку заведующий отделением в рабочее время осматривает всех поступающих больных, экстренных обязательно, то эту работу приходилось совершать мне. Конечно, вникать в тонкости топической неврологической диагностики я не могла – совсем другая специальность, которую я изучала только на 5 курсе мединститута много лет назад. Ориентироваться я могла только на клинические критерии и данные люмбальной пункции – при необходимости, плюс постепенно накапливающийся опыт.
Проще всего было заподозрить и с помощью исследования ликвора подтвердить субарахноидальное кровоизлияние: внезапное начало, сильная, порой нестерпимая головная боль, ригидность затылочных мышц и кровь в спинномозговой жидкости (ликворе). В большинстве случаев не вызывало затруднений и распознавание ишемического инсульта: постепенное развитие неврологической симптоматики на фоне нормального или умеренно повышенного АД, сохранение сознания и отсутствие общемозговой симптоматики. С локализацией его в общих чертах тоже понятно – нарушение речи и парез правых конечностей указывало в большинстве случаев на очаг поражения в левом полушарии, и наоборот. Классическое внутримозговое или субарахноидально-внутримозговое кровоизлияние проявлялось тоже довольно своеобразно: внезапная потеря сознания, иногда после короткого периода сильной головной боли, высокое АД, анизокория, рвота, повышение температуры. Люмбальная пункция, если обнаруживалась кровь в ликворе, подтверждала диагноз кровоизлияния, но отсутствие крови не могло быть критерием исключения: очаг мог локализоваться глубоко внутри мозговых структур. Конечно, провести бы КТ или МРТ – об этом оставалось только мечтать. В последние годы с появлением в г. Артёме компьютерного томографа, в пределах квоты (5 больных в месяц) можно было провести это исследование за счёт средств ФОМСа. Но в тяжёлом и нестабильном состоянии за несколько километров больного не повезёшь, лишь при стабилизации жизненно важных функций и получении согласия невролога уже непосредственно из ОРИТ в сопровождении врача можно было решиться на эту «операцию». Чаще при относительно удовлетворительном состоянии больного родственники возили его сами и за свой счёт в одну из больниц Владивостока. МРТ (или КТ) мозга была совершенно необходима, когда возникало подозрение о поражении лобных или лобно-теменных областей, проявлявшееся клинически внезапно возникшим нарушением психики. Сознание и двигательные фунции больного в таких случаях сохранялись. Ещё одна форма нарушения мозгового кровообращения тоже была доступна общеклинической диагностике: речь идет о нарушениях в вертебро-базиллярном бассейне. При внезапном появлении повторной рвоты, тошноты при перемене положения головы, нистагма, атаксии – можно было диагностировать либо ОНМК, либо, при купировании симптоматики в течение 24 часов, транзиторную ишемическую атаку.
Если картина ОНМК была нечёткой, результаты люмбальной пункции отрицательны, то диагностировался недифференцированный тип инсульта. Объективная сложность заключалась в том, что ишемический поначалу инсульт в ходе развития и пропитывания ишемизированного участка мозга эритроцитами мог стать смешанным, ишемически-геморрагическим. Понятно, что в условиях ЦРБ возможности диагностики были ограничены.
Подход к лечению ОНМК на протяжении последних двух десятилетий менялся, особенно в части медикаментозной терапии. Я уже упоминала, что в 80-е годы и в первые годы моей работы в ЦРБ сохранялась установка на использование аминокапроновой кислоты при геморрагических инсультах до 10 дней и даже 2 раза в сутки. В 2002 году на своей лекции профессор невропатолог Гуляева С. Е. обозначила показанием для применения Е-АКК только субарахноидальные кровоизлияния. Определились попытки оперировать внутримозговые гематомы, но это вопрос не районного уровня, где даже уточнить объём и характер мозговой катастрофы с помощью современных методов исследования на территории больницы невозможно. Чётко определен срок, когда можно добиться обратного, хотя бы частично, развития инсульта – 3 часа с момента появления неврологических симптомов. Уточнились и стали непреложными основные правила ведения больного с ОНМК. Их немного. Для всех видов ОНМК – это контроль за функцией дыхательного аппарата, состоянием ротовой полости и диурезом, инфузионная терапия в объеме 25–30 мг/кг массы тела, коррекция гемодинамических показателей. При геморрагическом инсульте – рекомендуется приподнятое положение головы, холод в первые часы, снижение АД до 180/100 мм рт ст или несколько ниже (в зависимости от исходного уровня), борьба с отёком головного мозга в первые 2–3 дня (маннитол, гипервентиляция, небольшие дозы дексаметазона). А дальше – как уж судьба распорядится. Ишемический (нетромботический) инсульт предполагает инфузию препаратов, улучшающих мозговое кровообращение: кавинтон, трентал – при отсутствии аритмии или острого инфаркта миокарда и ноотропы, которых сейчас достаточно и с различным механизмом действия, от ноотропила до цероксона, церебролизина и глиатилина. Конкретный выбор эмпиричен и определяется наличием препаратов, кошельком пациента, т. к. не все они входят в перечень жизненно важных, оплачиваемых ФОМСом и – личным предпочтением невролога. Да, за прошедшие годы специалист невропатолог трансформировался в невролога, что и к лучшему, ибо короче. Ну, а если инсульт явно тромботический (наличие аритмии, внезапное начало с потерей сознание, гиперкоагуляция) – назначается и гепарин.


