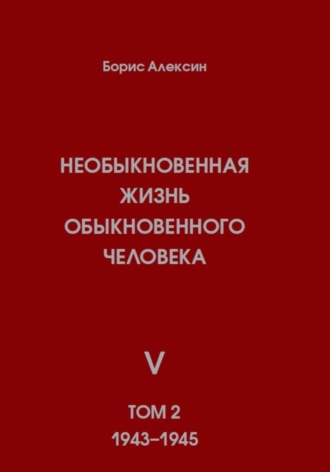
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 2
Глава девятая
Через два дня действительно нагрянула комиссия, причём в её составе, кроме тех, кого ждал Алёшкин, оказался и сам командующий фронтом, маршал Советского Союза В. К. Рокоссовский. Борис, как и его заместители и помощники, очень удивился такой чести – присутствию этой высокой комиссии в их госпитале. Бегло оглядев некоторые помещения, приезжие направились в кабинет начальника госпиталя и пригласили туда же его самого, замполита и помощника по хозяйственной части.
Когда все уселись за столом, генерал Жуков с молчаливого разрешения маршала Рокоссовского сказал:
– Товарищ Алёшкин, вы мне рассказывали о виллах рядом с госпиталем, я доложил о них маршалу, и он принял решение организовать на базе вашего госпиталя кратковременный дом отдыха для высшего командного состава фронта. Нам нужно осмотреть сейчас эти виллы, и если они действительно так хороши, как вы описывали, то использовать их. На ваш госпиталь ляжет большая ответственность по организации этого своеобразного дома отдыха. Отдыхать будут генералы и полковники, занимавшие должности не ниже командира дивизии и корпуса, а также члены Военных советов и командующие армиями. Так что создание необходимого рациона питания, медицинского наблюдения, лечения и, конечно, охраны будет делом нелёгким. Как видите, доверие вам оказываем немалое. Для дополнительной охраны и несения караульной службы выделим вам роту автоматчиков, разместить её можно в одном из бараков. Командир этой роты будет полностью подчинён вам. Ну а сейчас, товарищ маршал, пойдём посмотрим некоторые из домов, их здесь двадцать два.
– Да, двадцать два, – ответил Алёшкин. – Но я сам не видел все, посмотрел только некоторые. Вот товарищ Захаров успел обследовать каждый дом и уверяет, что они шикарные.
– Так уж и шикарные, – усмехнулся Рокоссовский. – Ну, пойдём проверим, посмотрим. А вообще-то, наши генералы заслужили хоть несколько дней отдохнуть в шикарных домах. Хватит с них землянок, палаток да лесных шалашей. Пойдём, показывайте!
Вся эта группа вышла из здания госпиталя и, пройдя около ста шагов по дороге, а затем свернув в сторону леса, как-то незаметно очутилась перед небольшим красивым и даже немного вычурным одноэтажным домом, с круглой башенкой посередине. Участок соснового леса вокруг дома был обнесён изящной железной оградой. Борис позвонил в звонок у калитки, расположенной рядом с воротами ограды. На звонок из-за дома вышел опрятно одетый старый немец лет шестидесяти в белом фартуке с метлой в руках.
Увидев много офицеров Красной армии, причём большую часть с генеральскими погонами, он немного опешил от неожиданности, затем опомнился, бросил метлу, бегом направился к калитке, распахнул её и, согнувшись в полупоклоне, встал в стороне.
Рокоссовский удивлённо спросил:
– И что же, тут в каждой вилле немецкий сторож есть?
– Да, – ответил Борис. – Когда мы нашли эти виллы, то товарищ Захаров собрал всех сторожей-дворников, разрешил им остаться в их квартирах (как правило, они в глубине двора), приказал следить за чистотой и никого, кроме меня и его, в помещение не впускать. Также у нас выделено два подвижных поста, которые патрулируют входы в виллы со стороны дороги и со стороны леса. Хотя въезд на эту территорию охраняется шлагбаумами, тем не менее, эта мера необходима: могут появиться любители «почистить» помещения и из немецких дезертиров, и из наших братьев-славян.
Пока Алёшкин докладывал всё это маршалу, Захаров, взяв ключи у дворника, забежал вперёд и предупредительно открыл парадную дверь. Этот небольшой дом из шести комнат с мансардой наверху и большой верандой, выходившей в хорошо ухоженный цветник, очень понравился Рокоссовскому и всем остальным генералам. Генерал-лейтенант Лагунов даже сказал:
– Эх, самому бы отдохнуть в таком домике!
Рокоссовский улыбнулся и заметил:
– Ну, это вам вряд ли удастся, а вот если семью свою сюда привезёте, то на некоторое время можно. Я, может быть, и своих пришлю.
***
Эти виллы, как мы уже говорили, служили дачами для крупных немецких фабрикантов и других капиталистов и, так как все они с началом наступления советских войск на Берлин спешно эвакуировались в нейтральную Швецию и Швейцарию, то имущество, имевшееся на этих дачах, оказалось брошено на произвол судьбы. Варен и его окрестности были взяты без боя, виллы стояли в стороне от основной дороги, и поэтому никакого ущерба не понесли. Вся мебель, богатейшая обивка стен, радиоприёмники, посуда и даже одежда и бельё, которыми пользовались хозяева при посещении дач, находились на месте. В гаражах некоторых вилл стояли легковые автомобили. Правда, тут Лагунцов проявил активность, и три наиболее дорогих машины переехали во двор госпиталя.
Осмотрев таким образом пять вилл, комиссия приняла следующее решение: дать госпиталю на подготовку десять дней, а затем направлять в него генералов на десятидневный отдых. Список и очерёдность составит член Военного совета фронта, генерал Рузский. Ему нужно было предупредить всех направляемых, что они могут взять с собой двух-трёх человек (например, адъютантов или ещё кого-нибудь) и не более двух автоматчиков для личной охраны, также поставить в известность, что за порчу или хищение имущества виновные будут подвергаться самым суровым взысканиям, вплоть до отдачи под суд военного трибунала. Каждому направляемому начальник сануправления фронта генерал Жуков должен будет выдавать соответствующую путёвку с перечислением сопровождающих лиц и указанием срока пребывания. В госпитале эти путёвки станут документами строгой отчётности. Начальнику тыла генералу Лагунову поручалось обеспечить госпиталь необходимым продовольствием. Конечно, это решение мы передаём не дословно, а лишь сохраняя его суть.
Прощаясь с Алёшкиным, Рокоссовский сказал:
– Наверно, через неделю я пришлю сюда жену и дочь, предоставьте им помещение, какое они сами выберут. О готовности приёма отдыхающих доложите генерал-майору Жукову.
На следующий день после отъезда комиссии в госпитале началась прямо-таки бешеная активность. На коротком совещании, проведённом Алёшкиным и Захаровым, решили для каждой виллы выделить специальную медсестру, которая станет сестрой-хозяйкой и будет отвечать за всё хозяйственное обслуживание отдыхающих на вилле, организацию их питания, а если потребуется, и лечения.
В каждом доме имелось две-три спальни с кроватями. Решили все их заправить чистым бельём, а остальное постельное бельё, а также гражданскую одежду, находившуюся на виллах, собрать и сдать на склад госпиталя (иногда шкафы просто ломились от одежды). Питание запланировали организовать по специальным заказам каждого отдыхающего, получая эти заказы за день, для приготовления пищи использовать пищеблок госпиталя. Повара у них были весьма квалифицированные, главное, чтобы ассортимент продуктов не подвёл. Питание решили доставлять в специальной посуде – термосах и судках. Предполагалось, что дружинницы под руководством сестры-хозяйки будут разогревать еду на кухне, имевшейся в каждой вилле (там были газовые плиты).
Обсудив детали, все принялись за работу, а Борис и Захаров отправились к генерал-лейтенанту Лагунову с просьбой организовать своевременную доставку с фронтовых складов высококачественных продуктов. Тот принял их очень любезно, но заявил, что получение и доставку продуктов им придётся взять на себя. Найдя на карте недалеко от города Варена фольварк (поместье), он сказал:
– Вот вам и база, и склад. Используйте те продукты, которые там сумеете найти. Доставку их организуйте сами. Да, наши генералы нуждаются и в спиртном. Вот тут, – он вновь ткнул в карту, – есть спиртоводочный завод, передаю его в ваше распоряжение. Остальное ищите в городке. Всё, что нужно, берите, оставляя расписки, я вам дам соответствующее разрешение.
Он вызвал кого-то из своих помощников и приказал перечисленные распоряжения оформить соответствующим приказом, а на имя начальника госпиталя выдать удостоверение.
Выйдя из кабинета генерала Лагунова, Борис и Захаров недоумённо переглянулись:
– Вот так фунт, – не вытерпел Захаров. – Что мы там найдём в этом фольварке? И в нашем городке?
– Да-а, – протянул Алёшкин, – вот тебе и обеспечение продуктами! Но всё-таки поедем посмотрим.
Часа через два, ориентируясь по карте, они разыскали поместье. Оно состояло из большого хозяйского дома с заколоченными окнами и полутора десятков коттеджей, в которых жили немцы-сельхозрабочие. Выяснив с помощью мешанины из немецких, польских и русских слов, что сельхозработами и вообще, всей деятельностью поместья руководил старший рабочий, Алёшкин и Захаров отправились к нему.
В доме они застали за обедом семью: хозяин – мужчина лет сорока пяти без левой руки, его жена – подвижная, моложавая женщина, и трое детей. Увидев входивших офицеров, а следом за ними двух солдат с автоматами, все обедавшие испуганно вскочили. Детишки бросились к матери, а мужчина встал, как бы загораживая их, насупился и, поглядывая на незваных гостей исподлобья, угрюмо молчал.
Борис вышел вперёд и на ставшем уже привычным, смешанном языке спросил, верно ли, что Ганс Штубер (фамилию ему подсказали в первом доме) – старший рабочий этого поместья. Немец ответил на исковерканном, но всё-таки понятном, русском языке, что это правда. Мы передадим содержание его речи в целом, как его поняли Борис и Захаров. Штубер действительно принял на себя обязанности старшего, так как их хозяин ещё два месяца назад уехал в Берлин и более не возвращался, а оставленный им управляющий, как только «русские взбунтовались», ускакал верхом неизвестно куда.
Услышав это, начальник госпиталя со своим заместителем, уже находясь во второй комнате домика и сидя на вежливо предложенных хозяевами стульях, изумлённо спросили:
– Какого бунта? Каких русских?
Штубер ответил:
– Вы ещё не осматривали поместье? Там за конюшней находится большой барак со сплошными нарами. В нём жили русские – женщины и подростки, которых пригнали сюда из России, а наш хозяин выкупил их себе для работы. Хозяйство у него большое, всех рабочих-мужчин взяли в армию, вот он и набрал русских. Они с управляющим обращались с русскими ребятами, шестнадцатилетними парнями и девушками, как с рабочим скотом, работать заставляли по 12–16 часов, а есть давали похлёбку из брюквы и маленький кусочек хлеба. У нас тоже очень маленькие нормы, но всё же жить можно, а этих несчастных людей держали на голодном пайке. Кое-кто из наших помогал им, приносил на работу еду (картошку, хлеб или кусочек мяса), но это строго наказывалось. Уличённый в таком преступлении вместе со всей семьёй лишался своего пайка на неделю, на две, а то и на месяц. Немудрено поэтому, что как только мимо фольварка проехали последние машины с солдатами, а следом за ними появились советские танки, при этом охрана помещика сбежала, русские почувствовали себя свободными и, вооружавшись кто чем мог – вилами, топорами, лопатами, принялись громить барскую усадьбу. Управляющий сбежал, мы тоже перепугались, ведь в фольварке живёт всего пятеро мужчин, таких же калек, как и я, остальные – женщины и дети, а русских рабочих было больше ста человек. Но они не тронули ни одного из нас, только забрали продукты и разные вещи из имения, запрягли четыре подводы и отправились со всем этим куда-то на восток.
Алёшкин и Захаров не раз уже встречали подобные группы репатриированных, самостоятельно возвращавшихся домой, и потому рассказу немца поверили, а он между тем продолжал:
– Русские ушли, а хозяйство осталось. У нас здесь сотня молочных коров, много телят и бычков, откармливаемых на мясо, куры, индюки. У нас маслобойный завод, хозяйство производит масло, мясопродукты и яйца. Нельзя же было бросить это всё на произвол судьбы! Меня избрали старшим, и мы все продолжали работу, как и раньше, только теперь нам приходится работать больше.
– А куда же вы деваете получаемые продукты? – поинтересовался Захаров.
– Раньше хозяин отправлял их в Варен и другие города, там у него были магазины, а сейчас у нас есть большой погреб с холодильником, всё получаемое в нём и храним. Мы хозяйского не берём, вдруг он вернётся. Всё цело, у меня записано в книге.
– А как же вы питаетесь?
– По нормам, которые раньше были. Решили только прибавить по пол литра-молока на маленьких детей.
Задав ещё несколько вопросов Штуберу и осмотрев склады поместья, Алёшкин и Захаров убедились, что это хозяйство, действительно, в полном порядке, и если и нуждается в чём-либо, так только в дополнительной рабочей силе.
Один из сопровождавших их санитаров, в прошлом председатель колхоза, с завистью посматривал на упитанный скот, запасы корма для него, склады в погребе, забитые мясом, сливочным маслом, яйцами. Борис заметил это и, обратившись к нему, спросил:
– Ну как, товарищ Коноваленко, нравится вам это поместье?
– Ещё бы, товарищ майор, такое богатство! Нам бы так-то жить!
– Подождите, дайте срок, заживём лучше. А у них кто жил? Богатей, помещик. А эти немцы, что мы тут видим, они же все голодные, живут-то хуже некуда. Детишки-то прямо синие все.
– Да уж… И чего они от этого богатства не берут? – изумился Коноваленко.
– Чего, чего… Такая уж у них палочная дисциплина! – заметил второй санитар.
– Ну так вот, товарищ Коноваленко, – заявил Алёшкин, – в соответствии с имеющимся у меня приказом начальника тыла фронта, мы этот фольварк берём себе. Вас я назначаю главным управляющим поместья, будете с помощью Ганса Штубера хозяйничать, нам в Варен доставлять ежедневно свежее молоко, мясо, масло, яйца по требованиям, которые мы будем вам посылать. Следите, чтобы рабочие работали не больше 8–10 часов. Лишний скот прирежьте, нам мяса много потребуется. Да, обязательно пересмотрите норму обеспечения рабочих и их семей, дайте им возможность поесть как следует, ведь неизвестно, какая тут будет власть, когда мы уйдём, пусть хоть сейчас досыта наедятся. Ну как, товарищ Коноваленко, остаётесь? Не боитесь? Наши бойцы вас через день навещать будут, чтобы в случае чего помочь.
– Товарищ майор, – Коноваленко даже задохнулся от неожиданной радости, – так ведь это просто счастье – хозяйством опять заняться! Как мне опротивел этот инструмент за четыре года, – он с отвращением взглянул на свой автомат, – что и сказать не могу, но понимаю, что пока с ним расставаться тоже нельзя. Товарищ майор, лучше бы было, если бы вы дали сюда в моё распоряжение одну полуторку. Мне бы и продукты было способнее доставлять, и я был бы не совсем один. Как думаете?
Алёшкин переглянулся с Захаровым:
– А что, товарищ Коноваленко дело говорит. Как только вернёмся в Варен, сейчас же пришлю вам машину.
– Ганс, – обратился Борис к немцу, стоявшему рядом и внимательно слушавшему весь разговор, но, очевидно, не всё понимавшему, – вот товарищ Коноваленко станет здесь управляющим, а хозяином этого поместья буду я, понятно?
Немец кивнул головой.
– Гут, герр майор, – уже почти подобострастно сказал он.
Как потом выяснилось через Коноваленко, в своём сознании Штубер уже определил, что майор Алёшкин по праву завоевателя захватил поместье себе, и теперь перед ним придётся раболепствовать так же, как перед прежним хозяином.
К слову сказать, это хозяйство обеспечивало госпиталь не только молоком и мясом. Выяснилось, что в Варене раньше работали маленькая колбасная фабрика и сыроваренный завод. Хозяева их сбежали, из-за отсутствия сырья эти предприятия вынуждены были закрыться. Захаров договорился с ними, чтобы начинали работать, пообещал сырьё, но не менее трёх четвертей продукции, изготавливаемой из него, они должны бесплатно передавать госпиталю.
Таким же образом Алёшкин принял винокуренный завод, находившийся в пяти километрах от Варена, в котором, помимо спирта, оказался большой запас картофеля. Около вокзала станции Варен оказался большой склад, заполненный мукой. Бургомистр разрешил брать муки столько, сколько потребуется. В городе работала булочная и кондитерская, госпиталь загрузил их полностью.
К назначенному сроку «дом отдыха» был готов к приёму отдыхающих, о чём Алёшкин и доложил соответствующим рапортом. На следующий день начали прибывать генералы. Большинство из них поражались и искренне радовались тому комфорту, в котором они очутились, и неукоснительно выполняли все правила, список которых висел на каждой вилле. Питание тоже всех вполне устраивало.
По правилам госпиталя в первый же день каждый генерал и все сопровождающие его лица проходили медицинский осмотр, проводимый врачами госпиталя. Если было необходимо, назначалось лечение, диета и режим. Такое положение сразу ставило на место тех отдыхающих, которые намеревались провести свой отдых как обыкновенную гулянку, да ещё и с выпивкой. Да и член Военного совета генерал Рузский своим авторитетом и довольно частыми наездами в «генеральский дом отдыха» помогал обеспечивать должный порядок.
Время шло. В Варене сменилось уже две смены отдыхающих, готовились к приёму третьей. Проводили генеральную уборку помещений, меняли бельё, тщательно убирали территорию вилл, – одним словом, шла обычная подготовительная работа.
Надо сказать, что этот период деятельности госпиталя довольно отрицательно сказался на рядовом составе – санитарах и в особенности шофёрах. Не сильно загружены были и врачи. Многие стали устраивать частые прогулки в город, чем вызывали серьёзное беспокойство со стороны начальства. Рядовой состав, пользуясь свободным доступом к спирту, которого теперь в госпитале имелось в избытке, стал часто выпивать, и некоторые в таком состоянии грубо нарушали воинскую дисциплину. Эго, конечно, требовало от всех командиров, и особенно от Алёшкина, принятия самых строгих мер. Пришлось один из погребов превратить в гауптвахту. Борис был вынужден, не стесняясь, пользоваться своей властью, а она у него, как у командира воинской части (госпиталь приравнивался к таковой) была большой, и наказывать виновных очень строго.
О врачах и медсёстрах, уезжавших на велосипедах (в одной из вилл обнаружили их целый склад), приходилось беспокоиться по следующим причинам. Хотя на третий день прибытия Алёшкина в Варен в городе появился военный комендант (старший лейтенант Жучков с целым отделением бойцов), он никакой серьёзной охраны порядка обеспечить не сумел, и главным образом не потому, что его не слушались немцы (ими продолжал управлять бургомистр и несколько шуцманов), а потому, что освободившиеся из лагеря военнопленных американцы и англичане, ожидавшие репатриации на родину, вели себя в городе самым разнузданным образом. Они нападали не только на немцев, но могли и советским медикам-женщинам причинить вред. Для их безопасности Павловский направлял с ними вооружённых санитаров, но и этого могло оказаться недостаточно. В город женщин привлекало то, что в маленьких магазинчиках на русские деньги можно было купить дёшево различные мелочи.
Дня через три после отъезда последней партии генералов госпиталь был готов к приёму следующей, но вместо них явился нарочный с пакетом. Там было предписание госпиталю немедленно передислоцироваться в курортный город Бад-Польцен, найти свободное помещение и развернуть в нём санаторий для среднего офицерского состава, ёмкость которого должна быть не менее 400–500 мест. Начальник сануправления фронта, генерал-майор медслужбы Жуков требовал, чтобы и этот санаторий был достаточно оборудован, обеспечен необходимым мягким инвентарём, посудой и хорошим питанием. Кроме того, следовало организовать и возможное курортное лечение.
Ни Алёшкин, ни его ближайшие помощники не имели никакого представления об этом курорте, и потому новое распоряжение их основательно встревожило. Город Бад-Польцен находился километрах в 250 восточнее Варена и, кажется, теперь входил в состав Польши. Что и в каком состоянии там имелось, конечно, никто не знал.
Генерал разрешил взять с собой максимальное количество белья и продуктов из Варена, однако он категорически запретил увозить что-либо с вилл, предупредив, что эта территория отходит в распоряжение 1-го Белорусского фронта, и маршал Жуков наметил здесь организовать отдых своим генералам. В распоряжении говорилось, что представителю 1-го Белорусского фронта, который скоро должен был приехать, следует передать виллы в том состоянии, в каком они были.
Никаких средств для перевозки госпиталя на новое место из сануправления фронта не поступило, а между тем теперь у двадцать седьмого набралось столько дополнительного барахла, как его пренебрежительно называл Павловский, что обойтись своими силами было невозможно. Решили воспользоваться железной дорогой (к этому времени по многим внутренним железнодорожным линиям Германии уже ходили поезда). Через военного коменданта города договорились с комендантом станции Варен, тот выделил восемь вагонов, четыре платформы и обещал отправить этот состав специальным эшелоном сразу после погрузки.
Конечно, не всё было так гладко, как мы описываем, Захарову пришлось потратить немало усилий, чтобы выпросить весь перечисленный транспорт, но, так или иначе, вопрос разрешился.
Основную часть личного состава, всё медимущество, аптеку и кое-какое продовольствие отправляли своим автотранспортом. Образовался эшелон из 12 машин.
Всем надоело фактическое безделье в Варене, поэтому погрузка как в автомашины, так и в вагоны проводилась с большим подъёмом и была закончено в течение суток.
Нужно было подготовить госпиталь к приёму отдыхающих не позднее 20 июня 1945 года. Пришлось поторопиться, в распоряжении Алёшкина имелось всего десять дней.
Таким образом, хирургический полевой передвижной госпиталь № 27 пробыл в Варене почти полтора месяца. Его персонал и начальник были заняты совершенно новой работой по организации дома отдыха для высшего командного состава, и поэтому они как-то не придавали значения событиям, которые в это время происходили в мире. После подписания представителями германского командования Акта о безоговорочной капитуляции, которое произошло 8 мая, и объявления 9 мая Днём Победы, война ещё не окончилась. 11 мая войска 1-го и 2-го Украинских фронтов разгромили остатки немецко-фашистских войск в Чехословакии, и лишь 14 мая завершилось освобождение Югославии от немецко-фашистских оккупантов. 5 июня была подписана «Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединённого королевства Великобритании, Соединённых Штатов Америки и Временным правительством Французской Республики». События огромной политической важности прошли как-то мимо работников госпиталя № 27, и, хотя товарищ Павловский регулярно проводил политинформацию по этим вопросам, получая материалы из политуправления фронта, врачи, средний медперсонал, да и сам Алёшкин как-то не оценили их значение.
Теперь, следуя в город Бад-Польцен, Борис Алёшкин попытался узнать, что же это за город, в котором им предстоит работать. Никакой информации он найти не сумел, и первое время и у него, и у всех его сотрудников возникало немало недоумённых вопросов. Пользуясь авторским правом, мы расскажем об этом городке то, что Алёшкину стало известно много лет спустя.
Город Бад-Польцен в средние века входил в состав Польского Королевства, конечно, под другим названием. Тогда была обнаружена целебная сила минеральных источников, вокруг которых постепенно строился городок. При последнем разделе Польши, в 1794 году этот город, как и вся Познаньская область, отошли к Германской империи, тогда он и получил своё название «Бад-Польцен». В течение XIX, а затем и начала XX веков городок увеличился, так как там построили несколько крупных санаториев, в том числе один для императорской семьи. В соответствии с этим в городе жили и поляки, и немцы.
В 1918 году после разгрома кайзеровской Германии и образования независимого польского государства, город снова перекочевал в Польшу и находился в её составе до 1939 года. Теперь, после разгрома фашистской Германии предполагалось, что эти земли, в том числе и город Бад-Польцен, отойдут снова к Польше, и поэтому Польский комитет национального освобождения, руководимый Берутом, начал ставить представителей своей власти во все северо-восточные городки и поселения бывшего фашистского рейха.
Но, повторяем, ничего этого Алёшкин в то время не знал. По пути в Бад-Польцен его мысли были заняты тем, каким образом он сумеет выполнить полученное задание и организовать в этом городе санаторий. Он надеялся найти подходящее неразрушенное здание и уложиться в срок.
Расстояние от города Варена до Бад-Польцена, как мы уже говорили, равнялось 250 километрам. В место назначения прибыли поздним вечером 11 июня. Несмотря на хорошее состояние дорог, двигаться приходилось медленно: они были забиты большими толпами репатриированных, направлявшихся в Советский Союз. Навстречу им двигались колонной соединения Войска Польского, перемещавшиеся из одного бывшего немецкого города в другой. Задерживали также и многочисленные объезды участков, испорченных снарядами или фугасами, заложенными фашистами при отступлении.
Колонна госпиталя остановилась на центральной площади Бад-Польцена. Разыскивать какое-либо помещение на ночь глядя в незнакомом городе было безрассудно, решили заночевать, как это бывало в начале войны, в машинах, под машинами и около них. Выставили охрану вокруг этого своеобразного лагеря. Как всегда при таких переездах, караульным начальником стал Добин.
В группе автомашин, кроме грузовиков, находилась всего одна легковая машина «опель-капитан», а остальные девять отличных трофейных машин следовали по железной дороге так же, как имевшиеся в госпитале шесть лошадей.
Проснувшись ранним утром 12 июня и оглядевшись, Алёшкин заметил, что на эту же площадь выходит здание ратуши. Он решил пойти туда, чтобы выяснить у военного коменданта, где искать подходящее здание для санатория. Вместе с Павловским они подошли к ратуше. К их удивлению, никакой охраны здания не было.
В большой приемной, где за столом сидела молоденькая девушка, находилось несколько человек, ожидавших приёма, но не у военного коменданта, а у бургомистра города, или, как он требовал, чтобы его называли, у «пана старосты повятового».
Увидев входящих офицеров Красной армии, девушка встала из-за стола и, подойдя к ним, на довольно чистом русском языке спросила, что им угодно. Борис заявил, что ему необходимо переговорить с бургомистром, и как можно скорее. Она скрылась за массивной дубовой дверью и, вернувшись через две минуты, вежливо пригласила их зайти. Следом за ними вошла и сама. На вопросительный взгляд Алёшкина она сказала:
– Пан староста по-российски не розумеет, я буду переводчица.
– Не тщеба, пани, бардзо дзенькуе. Я умием мович по-польски и вшистко разумием, – заявил Борис.
При этих словах бургомистр (будем называть его так, потому что все жители города пока его так и называли), выскочил из-за стола и, подойдя к обоим офицерам, пожал им руки.
– О-о! Бардзо пшиемно, бардзо пшиемно, же пан майор разумеч польски. Прошу сядач. Кристина, поведж там, же естем заети.
Алёшкин и Павловский уселись и через несколько минут уже знали, что в Бад-Польцене установлена польская народная власть, в распоряжении бургомистра имеется взвод польских солдат, которые пока и обеспечивают порядок в городе, никаких советских подразделений нет. Узнали они также, что здесь есть шесть санаториев, все они сейчас пустуют (во время войны в них лечились немецкие солдаты и офицеры), что пришлось выставить специальную охрану зданий, оставшихся целыми, и бургомистр будет очень рад, если русские возьмут на себя использование и охрану хотя бы некоторых из них.
Узнав от Бориса, что его госпиталь прибыл как раз для организации работы в одном из санаториев и что, вероятно, скоро прибудут и другие, он очень обрадовался. Пан бургомистр заявил, что будет помогать в оборудовании санатория, направит необходимых рабочих и выдаст вещи, взятые из этих зданий на склад для хранения. Он обещал также обеспечить всех находящихся на лечении необходимым продовольствием.
Получив такие гарантии, Алёшкин решил расстаться с поместьями, которые ему были выделены начальником тыла фронта, тем более что они находились теперь от него на расстоянии более 150 километров. Он приказал на следующий же день послать две грузовые машины, вывезти возможно больше необходимых продуктов и освободить Коноваленко от руководства тем хозяйством.
Через полчаса после разговора в ратуше Алёшкин и замполит в сопровождении бургомистра объехали несколько санаториев и остановили свой выбор на одном из них, носившем название города – «Бад-Польцен». Это было большое трёхэтажное здание, имевшее около четырёхсот комнат и позволявшее разместить в очень хороших условиях не менее пятисот человек.
На первом этаже находилась огромная, шикарно обставленная столовая, хорошая водолечебница и электролечебный кабинет, там же располагался и стационарный рентген. Вода из целебного минерального источника была подведена к зданию санатория. Правда, всё это, как и общий водопровод, как и электроосвещение, в настоящий момент не работало, но бургомистр заверил, что его мастера в течение нескольких дней это наладят. Будут устранены также и некоторые неполадки в комнатах: рабочие починят полы, вставят выбитые стёкла и т. п.
Борис поблагодарил услужливого бургомистра и пообещал, что после развёртывания он пришлёт к нему своего помощника, если почувствует недостаток инвентаря, посуды и прочего. После этого эшелон госпиталя направился к облюбованному зданию, которое находилось в каком-нибудь километре от площади. Во дворе санатория стоял двухэтажный дом, в котором, очевидно, раньше жил обслуживающий персонал, кроме того, находился гараж и большой сарай. Всё это пустовало.
Посовещавшись с Павловским, Алёшкин решил разместить в двухэтажном доме весь личный состав госпиталя, себе же взял две комнаты в основном здании санатория. Павловский решил поселиться в соседнем жилом доме.
Как всегда, первое, с чего начали работу по освоению нового места дислокации, – это произвели очистку его от оставленного немцами мусора. Затем занялись выяснением дефектов каждой комнаты и других помещений. Каждому отделению госпиталя Алёшкин отвел по одному этажу, начальники отделений распределили имевшиеся на этажах отдельные блоки, состоявшие из 12–15 комнат, между врачами. Те руководили своими сёстрами и дружинницами и составляли список необходимого ремонта и недостающего инвентаря. Начальник продовольствия вместе с поварами обследовал пищеблок, кухню и ресторанный зал (столовую), проверяли наличие кухонной и столовой посуды. Одним словом, все занялись делом.







