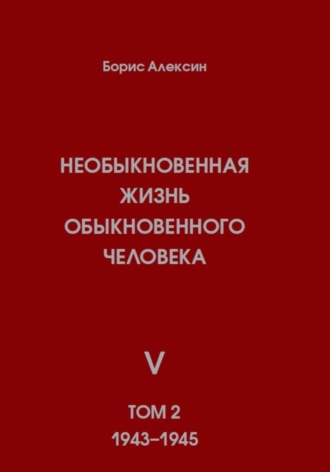
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 2
Глава двенадцатая
Но вернёмся, однако, к Борису.
После отправки медсестёр, дружинниц, санитаров и шофёров, а ещё спустя день и работников штаба во главе с начальником Добиным, в госпитале осталось совсем немного народа и собака. В первых числах декабря Павловский заявил, что политуправление фронта его демобилизует, и он уезжает в Ленинград. В большом доме, где размещался двадцать седьмой хирургический полевой госпиталь, теперь жили всего пятеро: Алёшкин, Захаров, два их ординарца – молодые солдаты и Лагунцов. В их распоряжении была грузовая машина и малолитражка DKW, на которой приходилось ездить по складам для окончательного оформления сдачи имущества. Борис с Захаровым ещё не знали своей судьбы. Нужно было подписать все сдаточные документы, и тут неожиданно возникло затруднение.
Начальник отдела материального снабжения Северной группы войск, полковник интендантской службы Семёнов, как и его ближайшие помощники, прослужил всю войну интендантом где-то в тылу, в запасной части. Выдвинутые на новые высокие и ответственные должности, эти люди держались строго официально, изучали документы чрезвычайно придирчиво, точно хотели разоблачить жуликов. Они уже успели сделать крупные начёты на многих руководителей расформированных частей, в том числе и на начальников госпиталей.
Борис и Захаров с некоторым беспокойством ждали встречи с Семёновым. Они заранее отправили Лагунцова на трофейной, нигде не зарегистрированной машине BMW во Львов, загрузив её тем, что хотели взять с собой на родину. Там были радиоприёмники, велосипеды, разнообразные консервы, мануфактура, бельё, гражданская одежда и много разных мелочей. Как мы знаем, перемещаясь по Германии и делая остановки в различных её городах, работники госпиталя находили полуразрушенные склады и магазины без хозяев. Многое из того, что было брошено, подбирали и сдавали на склад госпиталя. Большую часть этого имущества раздали всем демобилизованным из личного состава госпиталя, но и оставалось ещё немало, даже после того, как Алёшкин, Захаров и Лагунцов отложили то, что им хотелось.
Захаров сдал на трофейный склад группы войск две автомашины и множество вещей по ведомости, они были оценены в 20 000 рублей.
Нужно объяснить, почему Лагунцов на BMW поехал во Львов. В сануправлении штаба Борис как-то встретил майора медицинской службы Романовского – бывшего начальника полевого госпиталя, с которым был хорошо знаком и несколько раз стоял и работал в одних и тех же пунктах. Его госпиталь уже расформировался, а сам Романовский, ещё совсем молодой человек, был назначен начальником гарнизонного госпиталя во Львов. В случае демобилизации Борис и Захаров решили ехать на родину через этот город. Дорога через Брест требовала нескольких пересадок, а до Львова из Лигница шёл прямой поезд. Но даже и в этом случае везти с собой всё, что им хотелось взять, по железным дорогам Германии и Польши не удалось бы: в поездах отсутствовали багажные вагоны, а таскать все вещи с собой было попросту невозможно. Вот Алёшкин и договорился с Романовским, чтобы отправить к нему большую часть своих вещей на автомашине BMW. Он заранее предупредил, что машина эта трофейная, пока нигде не зарегистрированная, Романовский может записать её на себя или на свой госпиталь, но за это он должен сохранить всё привезённое до их приезда. Тот согласился, и Лагунцов повёз все эти вещи во Львов. Там он их передал на хранение заведующему складом и отправился домой.
Конечно, привезённые вещи были старательно упакованы в фанерные ящики, коробки или в зашитые брезентовые мешки.
Между тем подошла очередь на приём к полковнику Семёнову. Он довольно приветливо принял руководство хирургического госпиталя № 27, внимательно просмотрел все ведомости, выслушал доклад своего помощника, немного удивлённо поднял брови, увидев список трофейного имущества и сумму, затем с иронией заметил:
– Похоже, что, разъезжая по Германии, вы не столько раненых лечили, сколько трофеи собирали…
Борис и Захаров промолчали, им особенно возражать было нечего. Ведь действительно, в Германии они по-настоящему работали только в Штольпе, где обслужили около пяти тысяч раненых и больных, и в Варене, где приняли около трёхсот человек, да подготовили помещения для двух санаториев. Во всех остальных городках они не развёртывались, находились сутки-двое, и личный состав, действительно, на улицах и в полуразрушенных складах собирал брошенные вещи.
Полковник Семёнов принял и утвердил все ведомости, кроме одной. Эта последняя являлась актом списания инвентаря, когда-то зачисленного в вещевое имущество госпиталя и за ненадобностью или порчей брошенного в дороге. Всё крупное и более ценное имущество – палатки, носилки, медицинский инвентарь, который госпиталю был не нужен – в своё время сдавался различным фронтовым учреждениям и складам, на него имелись соответствующие квитанции. Когда же Алёшкин и Захаров приступили к окончательной разборке склада госпиталя, то выяснилось, что необходимо было заменить разную мелочь трофейной: например, жестяные вёдра, тазы, умывальники, кастрюли, нательное бязевое бельё, бязевые простыни и тому подобное. Ведомость на списание вещей и замену их трофейными была подписана кладовщиками, Захаровым и утверждена Алёшкиным.
Полковник Семёнов заявил, что все эти предметы, в каком бы состоянии они ни находились, следовало сдавать на склады сануправления фронта и каждый раз оформлять соответствующий акт или квитанцию. Никаких возражений, что это было просто физически невозможно, так как склады сануправления иногда находились от госпиталя за несколько сотен километров, и не имело смысла отправлять туда транспорт с малоценными вещами (часть из них была сделана из старых консервных банок или подобранного в сгоревших деревнях железа), Семёнов во внимание не принял. Он объявил:
– Хорошо, я поручу своим счётным работникам оценить перечисленное в этом акте, и уж как там хотите, мы с вас за него взыщем в пятикратном размере. Зайдите завтра.
Борис и Захаров решили, что подобные мелочи стоят от силы несколько сотен рублей, и готовы были пожертвовать тысячей, чтобы поскорее развязаться с этим въедливым интендантом.
На следующий день, когда они у знакомого бухгалтера узнали итоговую сумму, то пришли в ужас. Оказалось, что всё барахло пересчитали по коммерческим ценам – около трёх с половиной тысяч рублей, а если это увеличить в пять раз, значит, с них удержат более 15 000 рублей! Таким образом, когда их демобилизуют (оба решили во что бы то ни стало добиваться демобилизации), они вернутся домой совсем без денег.
К счастью, бухгалтер, приятель Захарова, дал дельный совет:
– Я вам дам эту оценочную ведомость на руки как бы для передачи полковнику Семёнову. Вы её пока не сдавайте ему, потому что, если он напишет на ней свою резолюцию «удержать в пятикратном размере», тогда уж ничего не поделаешь. Вы с этой бумагой обратитесь к кому-либо из Военного совета фронта.
Все штабные Северной группы войск по привычке себя и руководство ещё называли «фронтом». Борис взял ведомость и решил добиться приёма у члена Военного совета генерала Рузского, которого он знал лучше других и с которым у него были хорошие отношения. К его удивлению, попасть к генералу оказалось нетрудно. Алёшкин чистосердечно рассказал о своём деле, признался, что всё это барахло они действительно побросали в разных местах, так как смогли заменить его гораздо более качественными трофейными вещами.
Рузский прочитал ведомость и даже улыбнулся, когда увидел, что вёдра, сделанные из консервных банок из-под сгущённого молока, педантичными бухгалтерами оценивались в семь рублей за штуку. Ни слова не говоря, он взял ручку и своим размашистым почерком написал в углу ведомости: «Начальнику интендантской службы полковнику Семёнову. Полагаю необходимым данное вещевое довольствие списать, как утраченное в период боевых действий». И подписался.
Не помня себя от радости, Борис выскочил из кабинета Рузского, едва успев пробормотать несколько слов благодарности. В коридоре штаба его ожидал Захаров. Прочитав резолюцию, он обрадовался не менее Алёшкина.
Когда они пришли к Семёнову и представили ему ведомость с резолюцией генерала Рузского, тот недовольно нахмурил брови и сердито сказал:
– А кто вам разрешил лезть с такими пустяками к члену Военного совета? Может быть, я и сам так же решил бы этот вопрос? А если бы и удержали с вас что-нибудь, так другим была бы наука!
Борис нашёлся:
– Товарищ полковник, мы не обращались! Генерал Рузский встретил меня на улице, сам спросил, нет ли у нас каких-нибудь затруднений, ведь мы с ним давно знакомы. А увидев ведомость, сделал на ней вот эту надпись....
– Вы знакомы с генералом Рузским?
– Да, он несколько раз бывал у нас в госпитале.
– Это меняет дело.
Полковник вызвал секретаря и приказал ему подготовить справку, что интендантская служба Северной группы войск к бывшему начальнику госпиталя № 27, майору Алёшкину и его заместителю по хозчасти, капитану Захарову никаких претензий не имеет.
Взяв справку, Захаров направился в управление кадров. Там он предъявил её вместе с заключением ВКК о перенесённом тяжёлом ранении и беспрепятственно получил документы о демобилизации.
На следующий день Борис направился на приём к начальнику сануправления генералу Жукову. Тот дружески поздоровался с ним и сразу «обрадовал»:
– Вот хорошо, что ты уже разделался со своим двадцать седьмым, у меня тут для тебя место хорошее есть! Будешь начальником одного из гарнизонных госпиталей, это в 15 километрах от Лигница. Там начальник – старик, его надо демобилизовать.
– Василий Константинович, – генерал давно уже разрешил Алёшкину называть его по имени-отчеству, – а у меня совсем другие планы.
И Борис возможно короче рассказал об ухудшении своего здоровья, а также о своей большой семье, которая давно ждёт его, что жена ни в коем случае не согласилась бы отдать детей в интернат, а с ними въезд на территорию Германии пока был запрещён. Да честно говоря, ему уж очень надоела эта Германия.
Жуков не знал о семейном положении Алёшкина, да и на здоровье Борис ему никогда не жаловался, поэтому он исходил только из интересов службы. Выяснив, что семья Алёшкина состоит из пяти человек и что за последний год у него было несколько приступов гипертонической болезни, генерал своё решение отменил и дал распоряжение начальнику орготдела направить Бориса в отдел кадров.
Прибыв в управление кадров к начальнику отдела, Алёшкин не сомневался, что его рапорт о демобилизации будет удовлетворён, ведь ещё в 1943 году у него обнаружились признаки гипертонической болезни, а ВКК фронта, которую он по собственной инициативе прошёл в конце октября 1945 года, признала его ограниченно годным первой степени из-за гипертонии, осложнённой приступами стенокардии. Борис надеялся, что эта справка даст ему возможность быстрее демобилизоваться, почти так и получилось. Ознакомившись со справкой ВКК, а также документами из ЦУ, начальник отдела сказал:
– Ну что же, товарищ майор, демобилизуем вас, но с одним условием. Пришёл запрос из НКВД на демобилизуемых медиков, членов ВКП(б), имеющих опыт организаторской работы. Вы, как коммунист и бывший начальник госпиталя, подходите. Дадим вам рекомендацию, и вас примут в НКВД.
Борис так хотел домой, что ему было всё равно, с какой рекомендацией ехать, лишь бы поскорее увидеть ребятишек и свою Катю, узнать, что она простила всё, что он натворил во время войны, включая то позорное письмо, если она его получила. Поэтому, когда все формальности были закончены, и он получил на руки документы и причитающиеся ему деньги, Алёшкин чуть не бегом помчался в свою квартиру.
Кстати, о деньгах. Весь последний год половину заработной платы им выплачивали польскими злотыми и немецкими оккупационными марками. Кажется, мы уже писали, что эти деньги практически не имели никакой ценности. К ним относились, как к ничего не стоящим бумажкам. Но перед демобилизацией было объявлено, что их можно обменять на советские деньги: 50 копеек за один злотый и 30 копеек за одну марку. Полученная при обмене сумма составила основательную прибавку к тому, что у Бориса уже было отложено.
На квартире его ждал не менее счастливый Захаров, оформивший свою демобилизацию и все связанные с ней дела сутками раньше. Конечно, ждал его и всегда радовавшийся возвращению хозяина Джек.
Ехать решили на следующий день. У них были литеры на получение железнодорожных билетов от станции Львов: у Захарова до Рязани, откуда он был призван, а у Бориса до станции Котляревская. По германским железным дорогам демобилизуемые ехали бесплатно.
Глава тринадцатая
Во Львове при помощи своих ординарцев, которых они с разрешения управления кадров задержали и взяли с собой, Борис и Захаров сложили привезённые вещи, а их набралось тоже порядочно, в углу огромного зала, забитого народом, и отправились разыскивать госпиталь Романовского, чтобы забрать остальной багаж.
На площади около вокзала они увидели настоящий цыганский табор из демобилизованных офицеров и лиц младшего командного состава, пожелавших возвращаться на Родину не в общих воинских эшелонах, а самостоятельно, в надежде добраться до дому быстрее. Из разговоров с одним из них Захаров выяснил, что некоторые ожидают посадку на поезд уже около двух недель.
Это сообщение заставило задуматься обоих друзей – будем называть их теперь так, ведь с момента расформирования госпиталя всякие служебные взаимоотношения между ними прекратились, и они стали просто товарищами, демобилизованными офицерами, едущими в одном направлении.
Добравшись, наконец, до госпиталя и найдя там Романовского, Борис и Захаров были встречены им очень радушно. Начальник госпиталя угостил их вкусным обедом и сказал, что они могут забрать свои вещи немедленно. Романовский был очень доволен, что ему досталась легковая машина, теперь в городе только у него имелся подобный автомобиль. Разумеется, он оформил BMW на себя.
Закусив, Алёшкин и Захаров отправились на склад, осмотрели свои вещи, хранившиеся там, и стали думать, как всё это доставить на вокзал. Дело было непростое. Нечего было надеяться, что они смогут всё унести сами. Людей в их распоряжении не было, транспорта тоже, просить Романовского не хотелось. Захаров успел познакомиться с начхозом госпиталя и предложил ему следующую комбинацию. В числе привезённых Лагунцовым вещей находился целый ящик туалетного мыла. Захаров слышал, что с мылом в Советском Союзе тогда было трудно, а у госпиталя на складе трофейного мыла было с десяток ящиков, поэтому он решил один забрать с собой. Каждому демобилизованному разрешалось брать мыла сколько хочешь. Посоветовавшись с Алёшкиным, Захаров решил предложить большую часть ящика госпиталю, оставив себе по нескольку кусков. Об этом Захаров и сказал начхозу.
Тот очень обрадовался. Во Львове, а, следовательно, и в госпитале, с мылом, тем более туалетным, дело обстояло очень плохо. Захаров за мыло выторговал помощь санитаров госпиталя, чтобы они погрузили их вещи в машину, доставили на вокзал и там выгрузили. Так и было сделано.
Когда весь багаж объединили, то образовалась такая огромная куча чемоданов, узлов и свёртков, что наши друзья даже испугались, представив себе, как это всё им придётся перегружать. Кроме того, рядом с этой кучей стояли два мотоцикла, которые Борис и Захаров тоже забирали с собой. Тут же сидел взятый на поводок Джек.
Оформление билетов по литерам заняло немного времени, но выдавший билеты кассир сказал, что он пока их не компостирует, не ставит на них ни номера вагона, ни номера места, ни номера поезда, так как не знает, когда товарищи офицеры смогут уехать: нужно было встать на очередь у военного коменданта и с его запиской за день до отправки закомпостировать билеты.
Борис и Захаров отправились к коменданту, замотанному и задёрганному капитану, сидевшему в маленькой комнатушке. Его окружали демобилизованные офицеры, громко и настойчиво требовавшие немедленной отправки. Встретив вновь прибывших сердитым взглядом, он приказал сидевшему за небольшим столиком сержанту вписать их в очередной список и сразу предупредил:
– Товарищи, раньше, чем через 12–15 дней, ничего не обещаю!
Друзья вышли, довольно удручённые этим заявлением. Их пугала не перспектива двухнедельного пребывания на вокзале или в его окрестностях. По заявлению Романовского, они могли питаться у него хоть месяц, а спать за время войны они привыкли где и как придётся. Беспокоило другое: самостоятельно перетаскать свои вещи и погрузить их в вагон им было просто не под силу. Конечно, никаких носильщиков на львовском вокзале не было и в помине. Они надеялись на помощь ординарцев, которых решили откомандировать в назначенные им части лишь после своей погрузки в поезд, задержав этих солдат на один-два дня. Задержка их на двадцать и более дней грозила большими неприятностями. По вокзалу в течение суток не менее двух раз проходили патрули и проверяли документы у всех находившихся там. Билеты или литеры, предъявляемые сержантами, старшинами и офицерами принимались во внимание, но если проездных документов у человека не было, то его задерживали и отправляли в военную комендатуру города. То же самое грозило и ординарцам, ведь у них, кроме предписания о явке в определённую воинскую часть на территории Германии, не было ничего.
Первый патруль Борису удалось уговорить, объяснив, что это их ординарцы, помогающие им при погрузке в поезд, что они находятся с разрешения управления кадров Северной группы войск и будут направлены через день-два в части, к которым теперь приписаны. Второй патруль обоих солдат не захватил, так как они вместе с санитарами госпиталя Романовского уехали туда, чтобы пообедать (об этом Захаров с начхозом тоже договорился). На следующее утро следовало ожидать нового патруля, и удастся ли договориться с ним, Борис не знал. Да и ребята начали нервничать. Каждый из них ещё в Лигнице выбрал себе часть, в которой хотел бы служить, а тут после задержания комендатурой всё может поломаться. Они уже не чувствовали себя подчинёнными этих офицеров, а считались как бы товарищами, помогавшими старшим, и хоть ещё и робко, но начали высказывать своё недовольство.
Алёшкин и Захаров оказалась в очень затруднительном положении. После довольно длительного раздумья Захаров сказал:
– Вот что, товарищ майор, если ждать отправки у этого коменданта, то тут и три недели просидеть можно, а ведь вы, да и я тоже, к Новому году дома хотели бы быть. Пойду, пошарюсь тут между железнодорожниками. Может быть, что-нибудь выйдет.
Он пропадал часа два, наконец, вернулся с высоким усатым дядькой лет сорока пяти, который взглянув на людей, кучу вещей и Джека, спросил:
– Что-о-о?!! Всех этих и собаку?
– Нет-нет, нас с майором двое! Ну, и собаку, – заискивающе сказал Захаров.
– Нет, не пойдёт! О, а это что у вас? – спросил железнодорожник, показывая на мотоциклы. – Вот добавите одну такую штуку, тогда помогу.
Захаров поморщился немного, потом махнул рукой и сказал:
– Согласен.
– Ну а кусок – само собой.
Захаров взорвался:
– Не жирно ли будет?!!
– Как хотите! Пока здесь сидеть будете, по два проедите и машины спустите. Как хотите, – и железнодорожник направился к двери.
Захаров удержал его за рукав:
– Да постой ты! Ну, может, полкуска?
– А собака? Знаешь, сколько из-за неё может быть канители? Нет, меньше, чем кусок и эта машина, не согласен.
– Ну ладно, чёрт с тобой, наживайся, – пробурчал Захаров.
– Ругаться не надо, я ведь и других найду!
– Да я не ругаюсь, это просто так…
– Тогда сидите здесь, после 12 ночи я к вам подойду, возьму билеты, закомпостирую их у кассира, выправлю билет на собаку, после этого можете сдавать багаж. Остальное возьмёте с собой. Пока.
Железнодорожник ушёл. Борис и оба солдата, присутствующие при этом разговоре, смотрели на Захарова с ошеломлённым и недоумевающим видом. Он рассмеялся:
– Ага, ничего не поняли? А я среди гражданских тут немного пообтёрся, их язык и способы действия выучил. Это проводник вагона поезда, который формируется на завтра. Он оформит нам всё с билетами и посадит в свой вагон заблаговременно. Завтра, когда с шести часов утра начнут компостировать билеты, тут чёрт знает что начнётся, ведь не только очередники к кассе бросятся, но и все, кто торопится уехать. Такая давка будет! Да и не только тут, а потом и около вагонов.
– Ну а что это за «кусок» такой? – прервал Захарова Борис.
Тот засмеялся:
– Учитесь, товарищ майор: кусок – это по-теперешнему тысяча рублей.
– Так, значит, за эту услугу придётся заплатить тысячу?
– Да, по полтысячи с человека, да ещё отдать ему мой мотоцикл в придачу, вот как.
– Но это же грабёж!
– Грабёж! А если здесь сидеть, так ещё больше ограбят. Мало того, что проешь чёрт знает сколько, так ещё и обворовать могут. Здесь между офицерами столько жулья шатается…
– А как же ты без мотоцикла? Тогда и я свой не возьму.
Эти слова, видно, услыхал старший лейтенант, лётчик, стоявший от них в нескольких шагах. Он быстро подошёл к разговаривающим и представился:
– Старший лейтенант Петров, из лётной части, что здесь неподалеку стоит. Я, товарищ майор, давно мечтал такую машину приобрести. Если она вам не нужна, я с удовольствием возьму!
В тот период времени между военнослужащими, в том числе и офицерами, был широко распространён обычай обмена: одному досталась какая-то трофейная вещь, которая ему была не очень нужна, другому другая, вот они и менялись баш на баш, не глядя. Так и этот лейтенант достал из кармана маленькие золотые женские часики и предложил:
– Ну, майор, баш на баш? Я тебе часы золотые для жены, а ты мне мотоцикл.
Борис не колебался, и через несколько минут счастливый лейтенант катил к выходу с вокзала машину Бориса, а тот прятал в карман часики с блестящим браслетом. Оба остались довольны, особенно Алёшкин, ведь в его вещах чего-нибудь особенно ценного специально для Кати не было. Все вещи, с его точки зрения, или особенной ценности не представляли, или предназначались для всей семьи. Теперь у него была действительно ценная вещь – золотые часы, о которых ранее ни он, ни его жена не могли даже и мечтать.
Ровно в 12 часов ночи к нашим дремавшим спутникам подошёл усатый железнодорожник:
– Ну, ребята, давайте билеты и полкуска.
– А это ещё зачем? – спросил Захаров.
– Билеты сейчас оформлю, закомпостирую, договорюсь с багажным кассиром, а это тоже даром не делается. Ну, давайте.
Борис и Захаров отдали свои билеты, хотя и чувствовали при этом некоторую неуверенность. Во-первых, они побаивались, как бы этот дядька не исчез с их билетами вообще, а во-вторых, им обоим было как-то неловко друг перед другом, ведь, что ни говори, они участвовали в некоей мошеннической операции. Но, с другой стороны, они понимали, что уехать им необходимо как можно скорее. Ездить в госпиталь ради питания было не на чем, ходить – далеко, а есть всем четверым приходилось не менее трёх раз в день.
На вокзале была коммерческая столовая, ужин в ней на четверых обошёлся в 250 рублей, хотя после него все чувствовали себя голодными. А тут ещё и Джека кормить нужно. Они понимали, что если просидят тут две недели, то останутся и без денег, и без большей части вещей. Друзья уже видели, как местные спекулянты перекупали у ожидавших отъезда офицеров вещи за бесценок. А этот усач обещал их вывезти сегодня.
Поделившись друг с другом своими сомнениями, они стали терпеливо ждать возвращения железнодорожника. Наконец, тот появился:
– Задержался маленько, там комендант сидел, ну а при нём такие разговоры вести нельзя. Вот ваши билеты и отдельный билет на собаку. Он 30 рублей стоит, это уж вам оплатить нужно отдельно.
Борис, ни слова не говоря, вытащил из кармана тридцатку и протянул деньги усачу.
– Добро. Теперь идите к багажному отделению и всё, что сумеете, сдайте в багаж, а я через полчаса за вами приду.
У окошка багажного кассира народу не было. Когда Борис и Захаров протянули свои закомпостированные билеты, он мельком взглянул на них и сказал:
– Несите багаж.
Дважды наших путников просить об этом не пришлось. Оставив охранять оставшиеся вещи одного из ординарцев и Джека, Борис и Захаров вместе с другим нагрузились до предела и через несколько минут вновь вошли в багажное отделение. Вещей было много, упакованы они были хорошо – обшиты старыми плащ-палатками или одеялами. С этой стороны принимающий багаж никаких замечаний не сделал. На один билет полагалось провезти не более 50 кг багажа. У Захарова почти так и получилось.
У Алёшкина дело обстояло хуже, его вещи весили более ста килограммов. После долгих уговоров и сотни рублей, сунутых кассиру Захаровым, тот согласился принять весь багаж Алёшкина, но с условием, что он будет отправлен в разные пункты назначения. Борис подумал-подумал и указал две станции – Котляревскую и Нальчик.
Освободившись от груза, наши друзья стали ждать своего усача, как они прозвали железнодорожника, и толковать между собой, какова будет судьба их вещей. В тот первый послевоенный год многие говорили, что сдать что-то в багаж – это всё равно что выбросить на ветер, мол, до места дойдёт едва ли десятая часть. Алёшкин с Захаровым были к этому готовы, но за время поездки по железным дорогам Германии и Польши все эти вещи им так надоели, переноска отнимала столько сил, что они были очень рады наконец-то от них избавиться. Это ещё им помогали ординарцы, а если б они были вдвоём? Да кроме того, у них оставалось столько же, сколько сдали, и всё это предстояло не раз перегружать.
Около двух часов ночи железнодорожник вернулся, в руках он нёс фонарь. Обходя лежавших на полу, спящих, ожидавших посадки людей, он приблизился к нашим друзьям и негромко сказал:
– Ну, собирайтесь, пойдём.
Борис не спал, он разбудил Захарова и обоих ординарцев. Они взвалили на себя оставшиеся вещи. Один чемодан взял проводник и пошёл вперёд, остальные двинулись вслед за ним. Через какую-то небольшую дверь они вышли на перрон и шли сперва по нему, а затем по железнодорожным путям около получаса. Наконец, подошли к длинному тёмному составу из пассажирских вагонов. Возле одного из них проводник остановился, открыл дверь вагона ключом, залез по лестнице в тамбур и позвал остальных. В вагоне этим же ключом он открыл дверь одного из купе и сказал:
– Вот здесь и поедете. Занимайте одну верхнюю и одну нижнюю полки, собаку под лавку поместите. Она у вас на людей не бросается?
– Нет-нет, главное, её не трогать.
– Ладно, я предупрежу ваших соседей… Устраивайтесь. Дверь купе никому не открывайте, пока я не подойду. Понятно? А сейчас спите, состав будут подавать в 10 утра, так что выспитесь. Машину, значит, я беру, остальные деньги отдадите, когда приедем в Москву.
Он вышел, взялся за руль мотоцикла, который до этого вместе с положенным на него чемоданом вёл Захаров, и, провожаемый взглядами, направился куда-то к голове поезда. Борис и Захаров попрощались с солдатами, дали им немного денег и посоветовали как можно скорее отправляться в свои части. Затем они вернулись в вагон, рассортировали и разложили свои вещи, уложили Джека под столиком в углу, заперлись на замок, легли и через каких-нибудь четверть часа спали крепким сном.
***
Проснулись они от шума и криков, раздававшихся и снаружи, и внутри вагона, и сразу обнаружили, что, кроме них, в купе уже поселились два каких-то офицера, старший лейтенант и капитан. Они так же, как и наши друзья, проснулись от шума извне и со сна непонимающе смотрели друг на друга. Проснулся Джек и тихонько заворчал.
– Ой, да тут ещё и собака! – воскликнул один из новых пассажиров. – Она не укусит? – спросил он, поглядывая на Бориса с некоторым уважением.
Как-никак это был майор – старший офицер, а в то время к старшему по званию относились с большим уважением, чем теперь.
– Нет-нет, – успокоил его Борис, – только гладить и вообще трогать его нельзя, иначе я за него не ручаюсь. А в чём дело, что это за шум?
– Выгляните в окно, – сказал Захаров, свесившийся со своей верхней полки и глядевший сквозь стекло плотно закрытого окна на перрон.
По его совету все сгрудились вокруг маленького столика. Они увидели на перроне множество офицеров – старшин и сержантов, толпившихся у вагонов. В дверях каждого вагона стояли проводники и пропускали по одному человеку, тщательно проверяя предъявляемые документы. Кроме того, у дверей стояли по два пожилых солдата, чтобы сдерживать напиравших. Среди толпы от вагона к вагону метался невысокий, тоже уже немолодой, старший лейтенант, за которым бегали несколько человек, что-то ему доказывавших и потрясавших какими-то бумажками. Наконец, он подбежал и к тому вагону, где разместились Алёшкин и его спутники. Как раз перед этим проводник пропустил последнего человека, закрыл и запер на ключ входную дверь.
Старший лейтенант, помощник коменданта станции, открыл дверь своим ключом и в сопровождении двух солдат вошёл в вагон. Двери, перед которыми толпилось десятка два ожидавших посадки, он за собой запер. В вагоне он начал что-то горячо доказывать проводнику, на что тот довольно спокойно отвечал. Затем из коридора донеслось требование показать каждое купе.
Признаться, Борис немного струхнул, когда проводник отпер дверь и показал коменданту, что всё их купе заполнено. Тот только покачал головой, вполголоса выругался, потребовал у всех билеты и, убедившись, что они закомпостированы на этот поезд, сердито заявил:
– Нет, с этой железной дорогой дело иметь нельзя! Билеты продают кому захотят, а очередники у нас сидят на вокзале. Вон они какой крик поднимают, что я им скажу, когда выйду? Вот чёртова работа! Подсуропил мне её полковник…
Захаров, уже слезший со своей полки, сочувственно произнёс:
– Да уж, работа… Наверно, хуже, чем на передовой. На-ка, старшой, трофейных сигареток, покури, легче станет. А от железной дороги требуй дополнительный поезд, нельзя же людей так мариновать, ведь все домой торопятся.
Старший лейтенант взял протянутую пачку, достал из неё сигарету, закурил и протянул пачку обратно Захарову. Тот улыбнулся, отвёл его руку и сказал:
– Оставь себе, старший лейтенант. Кури на здоровье! Да брось надрываться-то, ведь всё равно всех, кто в вагоне сейчас сидит, никаким каком не высадишь.
Старший лейтенант махнул рукой и вместе со своими солдатами направился к выходу. В это время прозвенел звонок, раздался свисток кондуктора, гукнул паровоз, и перрон с заполнявшей его толпой поплыл назад.
Один из спутников Бориса и Захарова не выдержал:
– Чёрт-те что! Вы много дали?
Борис и Захаров промолчали.







