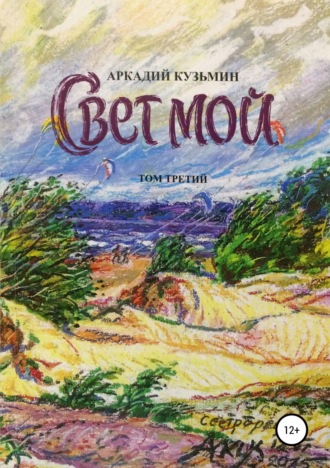
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Правда, над этим я мало еще задумывался – не было причин; я не начал еще жить вполне самостоятельно, своей семьей, – о том, если думал, то думал будто вскользь, невзначай и как о совершенно непохожем на все виденное или узнанное мной.
Вероятно, все объяснялось прежде всего моей молодостью и свободой. И точно воодушевленная моим неравнодушием к ней Лида поддерживала меня тоже весельем, как единомышленница или заговорщица. Поддаваясь нашему буйному нетерпению, хоть и сдержанно, но все-таки смеялись с нами заодно за чаем и хозяева.
Неместная Лида, приехав в наш колхоз, за неимением квартиры пока жила у агронома, в просторном его доме находилось и управление опытного хозяйства, хранились пробы выводимых сортов зерновых культур. От своей сестры, работавшей на опытном звеньевой, я хорошо уже узнал, каково же Лиде приходилось быть под началом несносного, привередливо-капризного и вдобавок еще ревнивого начальника. А я почему-то считал до этого, что у них родственные отношения, и тот пользовался как бы правом старшего. Теперь я с удивлением наблюдал за ним, не веря глазам своим: этот старый, беззубый и смешной хрыч, еще чего-то хотел от нее! И скалился, показывая вставные зубы. Возможно ли? Лида, точно забавляясь, прямо не отвергала его ухаживаний, а только румянилась и косила игривые глаза свои. И в этот раз я только ради нее вышучивал его подобные слабости. Смехом отомщал ему за все оскорбления и уничижения, которые она испытывала, будучи невольно меж огней: с одной стороны – приставания этого старого безумца (он ревниво-пылко опекал ее и в то же время выбранивал, что заботливый отец, в особенности за гулянье допоздна), с другой – постоянно настороженный взгляд надменной и пресной Зинаиды Андреевны, а еще вот Валентины, недоброй и холодной, что мрамор…
А когда сад за террасой расплылся в сумерках (уже зажгли керосиновую лампу) и на небе стали слабо вспыхивать отдаленные зарницы, и послышались затем легкие толчки грома – в деревне заиграл баян «страдание». Под звуки его наперебой в два голоса заливисто запели девушки. Пелись неизменные частушки, начинавшиеся в куплетах с припева: «Ой!» или «Ах!» или «Ох!». Для меня уже странен стал этот мир, хоть я и вышел из него: я уже воспринимал его как-то не так, что все; я мысленно жил уже иными интересами. Но стоило мне тут поймать глаза Лиды, косившие на меня из-под ее разлетных бровей, благодарные и просящие о чем-то еще, как я понял все и, вставая из-за стола, предложил: «Может, мы сходим туда – прогуляемся?» – «Ведь утром рано вставать, Лидия Петровна», – пытался возразить агроном. «А как же, Фома Кузьмич: ведь мы молодые», – точно сказал я. «Уж лучше бы ты не говорила этого вслух, моя милая. – Вера также встала из-за стола. – Вот как сразу скажешь – сразу бунт. Так жду тебя – будем спать на сеновале».
И я еще раз подивился сложности ее положения здесь: со всех сторон глаза.
Незаметно Лида разоткровенничалась со мной, пока мы шли, и я узнал, что в ее родной деревне, откуда она приехала, жила ее мать с малым сыном, второклассником, и что еще один – старший брат – скитается где-то по стране. Он что-то строит и пишет стихи, сообщила она мне по большому секрету. Вот он-то полезный член общества, знает это. А она нисколько не чувствует себя такой. Смеется сама, а на душе все неспокойно… Как ей все же поступить: то ли остаться здесь, в колхозе, где нет для нее никакой перспективы, или уехать в какой-нибудь город, подобно Вере, и родительскую избу продать, и увезти с собой мать – изменить всю жизнь?
Что же мог я посоветовать? В ту пору идеалом для меня служила типичная сельская патриархальная жизнь со всеми связанными с нею заботами и интересами; в такой жизни, облагороженной природой, мне виделись тысячи преимуществ и удобств. Я говорил ей именно об этом – горячо и страстно, что проповедник; говорил, хотя и понимал отлично, что она просто хотела избавиться от покровительственного ухаживания своего начальника, а может быть и еще от чего-то попутно…
Гуляющая молодежь собралась у штабелей бревен, навезенных для стройки избы. Бревна служили вместо скамеек. Подойдя сюда, мы остановились чуть в сторонке от танцующих и продолжали разговаривать; мне чудилось, что она с большим вниманием слушала меня, ибо я видел в темноте ее задумчиво завороженные глаза, она точно ждала еще что-то очень важное, существенное.
На баяне залихватски играл высокий узколицый и чернявый заезжий щеголь. Красавин, кто знал себе цену и с особым шиком носил модные хромовые сапожки. Вот он сыграл очередной вальс – и передал баян другому парню на колено, а сам решительно поднялся и вместе с тем нерешительно как-то, к моему удивлению, подошел к стоявшей со мной девушке. И несмело позвал: «Идем-ка, Лида, потанцуем».
В ответ она отрицательно помотала головой. «Идем!» – попросил Красавин вновь.
Она вежливо, но твердо опять отказала – сказала, что не хочет. Тем самым явно дала ему понять, что не хочет именно с ним.
Робко он переминался перед ней: «Ну, почему же, Лида?» «Видишь, с человеком разговариваю…» – она не принимала его явного ухаживания и, более того, старалась как-то наказать его за эту надоедливость. Даже отвернулась от него, непреклонная.
Только после этого он покорно отошел прочь от нее, опять сел и взялся за баян.
Она лишь со мной потом потанцевала дважды.
Глубокой уже ночью, кляня себя в душе за то, что вроде б ненароком оказался на пути преданно влюбленного парня, я вел Лиду с гулянки, неловко прикасаясь к ней, за ее мягкую, податливую руку. До меня дошло, что я, наверное, своим отношением сегодняшним, дал ей, Лиде, повод, вот что. Повод подумать обо мне бог знает что. А когда я выходил уже из агрономовского палисадника, то и увидал возле калитки подпиравшего оградку – черной молчаливой тенью – этого баяниста Красавина. Значит, он следил за Лидой! Он еще надеялся на что-то…
«Ах, черт!» – проговорил я, поравнявшись с ним. – Сандалетка свалилась с ноги». Нащупал тут же ногой ее и снова надел. И зябко передернул плечами с накинутым пиджаком, который только что грел Лидины плечи. Было дивное состояние у меня, и хотелось мне заговорить с Красавиным, чтобы подбодрить его по-дружески, сказать, может быть, что я ему не враг.
Но только он мучительно молчал, раскуривая папироску. Будто бы не замечал меня.
IX
– На другой же день, – рассказывал Вилкин, – неожиданно приехал откуда-то отыскавшийся старший Лидин брат, поэт, – с пышными, что у гусара, вьющимися бакенбардами и с какой-то провинциальной молодцеватостью во внешнем облике.
Спустя два дня и он вместе с радостно сиявшей Лидой провожали меня на действительную службу.
Из военной части, стало быть, из-под Москвы, я написал Лиде для приличия несколько веселых, забавных писем, и больше ничего; никакого намека на любовь к ней либо на какое-нибудь сильное мое влечение к ней не было в них, хотя она в своих письмах, адресованных мне, жаловалась на девичью судьбу, но не навязчиво, с достоинством и тактом. Раз прислала она мне фотографию, с которой она, стоя среди моей сестры Маши и брата своего на фоне плакучих деревенских берез, снова косила на меня глазами и загадочно полуулыбкой улыбалась мне. А однажды Лида сообщила мне о том, что вся ее семья, купив дом вместо проданного в ее глухой деревне, перебралась на житье под Москву. То есть ближе ко мне. Представляешь!.. Теперь она работала на московской фабрике ткачихой.
Только не помчался я к ней тотчас. Вяло шедшая между нами от случая к случаю переписка сама собой прекратилась: никто из нас не поддерживал ее. Она уже знала, что у меня появилось серьезное чувство к одной девушке, на которой я и намеревался жениться. Но, демобилизовавшись, я, еще не женатый, вольный парень, все же вспомнил о славной Лиде и летним солнечным днем навестил ее.
Сидя со мной на простой скамейке, стоявшей возле избы, Лида тихо и мило ворковала со мной. И не отнимала свои дрожащие руки, вложенные ею в мои ладони. Обрадовано улыбалась.
Она, по-видимому, снова обрела надежду на нечто невозможное, что я не мог дать ей, о чем и не мог сказать. Дурацкое положение! Из-за этого я вновь клянул себя в душе: зря приехал к ней – этим самым ее обнадежил… На ее девичью долю и так много забот выпало… Она ежедневно ездила за сорок километров на электричке в город и еще в автобусе и выстаивала столько за ткацкими станками, среди оглушительного их грохота, помимо непрестанной черной работы по домашнему хозяйству. Оттого на лице ее – со знакомым добрым лисичьим выражением – и на шее заметней обозначились морщинки, а руки ее точно уменьшились.
Успокоило меня лишь одно: я тут же узнал от нее, что тот баянист Красавин, что ухаживал за ней надоедливо, приезжал к ней сюда, но что она окончательно отвергла его – и вовсе не из-за меня.
– Что же ты? – спросил я сочувственно, как будто отступнически – ради нее же самой. Ее счастья.
– За его пристрастие к водке, – сказала она, вздыхая. – Всем он хорош. И услужлив. Знаю: любил меня. Но закладывать любит. Ругается тогда матом. Нехорош… Боюсь!
– А может, остепенился бы, если бы был с тобой?
– Нет, я его уже не раз испытывала. Это бесполезно. Да и что говорить! Он уже женился, как мне написал. И сын родился у жены.
– Вот как скоро, нетрудно, – я усмехнулся. – Легкая жизнь!
– Нет, у тебя, я вижу, легкая жизнь, если все воспринимаешь весело, – кольнула она меня с обидой. Заслужил…
Так ли? По сравнению с ее жизнью – может быть…
И вот я, разговаривая с ней, мучительно думал: «Зачем же жизнь дает нам мнимые обязанности, от которых нельзя освободиться просто так?» Четыре года назад я не думал ни о любви, ни о женитьбе, еще меньше, хоть и любил, – что я мог бы славно подойти для этой роли. Я считал, что только-только начинаю свою жизнь. Что ж ругать себя за то, что так начинают жить?
В обычной чистенькой избе, стоявшей на краю села в тени деревьев, приветливо, из-за Лиды радуясь нежданному гостю, суетилась ее согбенная, как и все деревенские женщины, и мудроглазая, все понимающая, мать; исподлобья, настороженно, не понимая и не признавая ничьей радости и суеты, следил за всем упрямый лобастый мальчик лет двенадцати, ее младший брат. А в это время ее любимый старший брат с бакенбардами, Саша, умом и обаянием которого она так гордилась, неотвратимо умирал, прикованный уже второй год к постели. Весь посеревший и высохший до неузнаваемости, он, не шевелясь, лежал в одном положении – до тех пор, покуда его не переворачивали – в темном углу на кровати и никого уже не узнавал почти, бредил; за время болезни руки его (лежавшие поверх одеяла) исхудали столь, что стали тонки, как палки.
Мне, живому, ходящему, рассуждающему и что-то еще желающему для себя человеку, стало очень неудобно за себя, когда я увидел перед собой умирающего так – казалось бы, ни от чего. Но Лида чего-то хотела, ждала от меня, раз я приехал к ней; она воспряла от этого ожидания, я видел. В своем доме она мной руководила. И я ей подчинялся. Чуть только остановившись на месте, словно запнувшись при мысли о том, не будет ли это корыстным, оскорбляющим для брата, она тихо, осторожно подвела меня к больному – как видно, с одной-единственной целью: чтобы тот все понял и в своей душе большой простил ее. Она представила ему меня, напомнила, кто я есть, – брат ее и даже не моргнул при этом. Он, пожалуй, уж не узнал меня; он лишь издавал какие-то гортанные звуки и выкатывая глаза, явно бредя и еще борясь всеми силами с подступившей к нему вплотную смертью, подступившей на глазах всех родных – здоровых, озабоченных, бессильных тут.
Жил ли вообще этот человек, о чем-то думавший когда-то, любивший что-то и кого-то и делавший что-то человеческое?
В небольшой кухне, отгороженной переборкой от светелки, куда Лида принесла несколько тетрадей, мелко и довольно аккуратно исписанных стихами, я их читал. И был в смятении. Пронзительная грусть и сила воображения в основном о неразделенной любви, любви настоящего поэта жила в его строках, лившихся рекой; он, вероятно, предчувствовал свой скорый конец и торопился довысказать все, чтоб не унести с собой какую-то таинственность. В любом из нас живет, наверное, своя таинственность.
«Вот и еще один безвестный и истинно русский, чистый и честный и горячий поэт гибнет, – подумал я. – Сколько ж их – бескорыстных, добрых и ясных? Как не похож я на них». – В минуты, когда я копался, что говорится, в себе, я стыдился и этого. Это не давало мне покоя так же, как и то, что вроде бы дал повод увериться в чем-то очень милой, неплохой девушке, у которой неудачно складывалась жизнь.
– И я опять исчез с горизонта, – признался сержант тоскливо, был как раз период моего отчаяния, когда становилось нужным жить в городе и устраивать заново свою жизнь. Но тот самый трудный для меня период прошел – и я все равно уже не показывался больше перед Лидой. Все внушал себе: потом съезжу; внушал больше затем, чтоб отогнать навязчивые мысли. Но потом показалось, что объяснить такое Лиде еще стыдней, бесчеловечней. И так я не смог уже поехать к ней, чтобы поклониться ей и объяснить причину этого.
Все закончилось у нас. То, чего, собственно, и не было. И быть-то не могло, я отчетливо все понимал.
Да, уже я встретил и полюбил другую, женился на ней. Но думал с грустью иногда: в самом деле, а могла бы стать для меня хорошим, близким другом Лида, та, перед которой мне в душе вроде бы было стыдно? И снова видел ясно ее лисичью полуулыбку и устремленный в небо изумленный взгляд ее брата. А еще мне представлялось, как где-то, затаившись, торжествующе оскалялся Фома Кузьмич, – от него-то я недалеко ушел со своим рационализмом – все делал словно нарочно, так, чтобы меня меньше беспокоило что-нибудь. Но что больше всего мне теперь хотелось бы – это еще раз (внимательней) прочитать стихи о любви того неизвестного никому поэта. Сбудется ли? – И сам себе Вилкин ответил: – Не знаю, не знаю… Ведь мы не всегда находим то, что нам нужно – одно могу уверенно сказать теперь. Себе самому. Многое теряем необдуманно.
И встал с травы примятой.
– А сколько же святых поэтов и вообще святых людей пожирает это чудовище – война? И подумать страшно. Ну, пошли! Слышишь, фронт рычит, оскаляется? На ночь глядя…
Вскорости сержанта Вилкина перевели куда-то.
X
По обыкновению военная часть устроилась в лесу.
– Антоша, проводи меня, пожалуйста, к палатке. В этом диком олешнике боюсь… и заблудиться можно… – ласково зашептала ему, мальчишке, в полутьме припозднившаяся в столовой смугловатая сержант Катя Горелова, очень милое существо, явно паникуя, зашептала в присутствии мужчин.
Он кивнул, удивленный несколько.
Уже при сумерках густых, августовских внезапно погас в палатках электрический свет, что бывало нередко, – перестал тарахтеть движок. И зажженная спичкой плошка не спасала положение.
Пройти-то лесом – прямиком – до семейного палаточного строения Кати – сущий пустяк! Она преувеличивала страх – было главное открытие для Антона; нет, не бомбежки или обстрелы пугали ее, а именно окружающая тьма и то, что немного расшумелась листва; больше от этого волновалась, вздрагивая. Разговаривая с Антоном и при зажженной свечке, она не отпускала его даже из двухместной, особо поднятой – до роста человеческого – палатки, до тех пор, покуда вновь не засветилась лампочка при заработавшем слышно движке. Тогда и отпустила:
– Ну, спасибо тебе, иди. Сейчас Гриша мой придет. Усталый…
Мягкая и приветливая ко всем без различия, Катя простушкой не была; она не выходила за пределы простого поведения, и в представлении Антона ее образ почему-то ассоциировался с образом Катюши из знаменитой песни. Хотя, однако, тут противоречило одно существенное обстоятельство: Катя Горелова была служившей женой при старшине Горелове, немногословном и даже насупленном вечно, скуластом, мощном механике. Каким-то образом в нашем Управлении ужились три такие семейные пары. Горелов был, судя по всему, отменный мастеровой. Всегда со сбитыми, в ссадинах и ожогах, либо испачканных в смазке и мазуте огромными ручищами, в комбинезоне, он без конца в своей подвижной кузне-мастерской что-то ковал, паял, сверлил, собирал и ремонтировал до седьмого пота, до редкого самозабвения. Безусловно, привычная жизнь рядом с ним страховала Катю от лишних напастей, не то, что было у наших женщин, матерей. Тем не менее Антону все-таки непонятно было, что могло объединить ее и его – они такие были разные…
Когда Антон вошел в спальную палатку, лежавший на самодельном березовом топчане ефрейтор Аистов (ему присвоили звание) читал потрепанную желтую книжку. Отвлекшись от ее страниц, он спросил с интересом:
– И как ты прогулялся, друг?
– Обыкновенно. По кустам, кочкам.
– Но, позволь, я мельком видел: ты ведь некую дамочку провожал..
– Разве она дамочка – Катя Горелова? По-моему…
– Ах, ее!… У нее же муж… – Он привстал с изумлением будто… Или это он так шутил натурально?
– Что ж такого? – не понял Антон его озадаченности. – Она побоялась…
– Нет, я-то о чем, – заговорил миролюбивей ефрейтор. – Если он, Горелов, узнает, чего доброго, – он шею тебе свернет за такие проводы, не потерпит, пойми! Страсть ревнучий. Я б не согласился.
Что, может быть, Аистов сам испытывал подобное и поэтому предупреждал так?
– Ну, кого ж тут ревновать? Меня-то? Не свернет.
– Смотри!
На следующий день Антон проходил мимо кузни старшины Горелова, где тот возился с металлом, и старшина закоптелый, распрямившись, хмуро позвал Антона.
– Вот возьми, приятель, – тебя угощает моя жинка. – Протянул он Антону бумажный кулек. – Папироской бы охотнее угостил тебя, да ты – пацан и еще не куришь.
– А это-то мне зачем?
– Так Катю мою провожал? Не испугался? – Он улыбнулся.
– А чего ж бояться? Это только некоторые женщины трусят – пугаются темноты.
– Вот и благодарю тебя. Бери.
– Ну, что вы, право! Не стоит…
Глядь, из-за его широкой спины, из-за кустов, сама Катя выплыла – улыбчивая, излучавшая один лад, покой. И Антону кстати подумалось, как же они оба ухитряются в таких условиях, на виду всех, любить и доверять друг другу. Видна была нежность обоих. И он уже не удивлялся тому, что они были рядом друг с другом, коли была такая возможность.
Кстати, увидав вновь Аистова на лесной тропинке, Антон показал ему кулек:
– Хочешь? Меня угостили.
– Кто? – удивился ефрейтор.
– Гореловы.
– А что?
– Конфеты, кажется. Карамельки.
– О, конфеты я люблю. Давай.
– А я не очень – не сластена, видно. – И Антон на радостях отдал ему почти весь кулек.
– Ну-ну! Удивительно! – Аистов подмигнул ему и рассмеялся – белозубый, вихрастый, тонкий, что жердь.
– Не веришь – пойди, спроси.
Все запуталось у Антона с ним насчет того, кто кого разыгрывал.
– А съем все – еще принесешь?
– Если мне удастся в следующий раз.
Да, Антону становилось легче жить. Вследствие простой случайности его кругозор сразу расширился, будто он прикоснулся к какой-то заветной тайне, открывшейся ему отчасти, – прикоснулся к чужой судьбе с совершенно неожиданной стороны. Очень многое значило для него то, что взрослые доверялись ему просто и говорили с ним доверительно, ровно, уважительно.
Это был признак того, что он уже принят, как свой, в этой армейской семье, и ему было так приятно и лестно знать такое.
ХI
Вскоре поближе придвинулись к гудевшему фронту, стали обживаться в белоствольном березовом урочище; восточней к нему примыкала поляна, на ней базировались наши боевые истребители – мотались, звеня, над головами. Зато заметно усилились немецкие обстрелы и бомбежки, причем доставалось иногда и от наших ошибочных бомбежек, проводимых У-2. До 11 раз в ночь выбегали из палаток, чтобы залезть в какую-нибудь земляную щель и переждать налет очередной. Чтобы спастись от обстрелов, сержант Хоменко порой, даже по ночам, когда безопасней, ползком доставлял в часть почту. И так изо дня в день.
Но были и приятные просветы.
Анна Андреевна из Ахтубы, неизменный шеф-повар в белом фартуке и косынке, словно признанный командир, вдруг возгласила в нетерпении:
– Что ж вы, родненькие, не спешите?!… Я просила ж вас пойти – пособирать грибков к обеду… а вы… вы забыли об этом, что ли? Сделаю деликатес для ребят… Очень хочется мне накормить всех повкусней – свежей домашней едой.
Ее призыв в равной степени касался основательного солдата Стасюка, крепко сбитого и с красновато обожженным солнцем лицом, а также Антона.
– Мы уже идем, – сказал Антон.
– Да, Андреевна, сейчас топаем, – виновато подтвердил и несуетливый Стасик. И тоже взялся за душку ведра. – Только маленько затянусь махорочкой.
– Только, смотрите, съедобных наберите, – наказала Анна Андреевна.
Ребята для нее были бойцы, кого она, хоть и молодая еще женщина, баловала, можно сказать, с любовной нежностью, словно собственных детей, – она пеклась о них по призванию сердечному, готовя пищу, не иначе. Все прекрасно видели это.
Стасюк жадно докуривал окурок:
– Сейчас… Ножичек возьму… Чтоб по-настоящему… Подрезать… И вот курево притушу. А то никак нельзя с ним туда, в пущу… Сушь…
– Позвольте, что вы всерьез поищите грибов? – изумилась, замедлив шаги, военврач капитан Суренкова, такая явно невоенная женщина, хоть и была к гимнастерке.
– Да, взаправду пойдем по грибы, – подтвердил Антон, будучи в каком-то приподнятом настроении оттого, что находился здесь и путешествовал так с военными по прекраснейшим местам России, о чем с малых лет мечтал, – приходите пробовать жаркое.
– О, обязательно приду, – ответила весело капитан.
– А куда пойдем, парень? – спросил Стасюк.
– Наверно, лучше углубиться к западу. Куда ж еще? – прикинул для себя Антон.
– Так считаешь?
– Там вроде бы почище и грибнее, сдается мне, лес. А туда, северней, куда мы ездили на колодец за водой, – бесполезно, сами знаете: там – былая стоянка немецко-фашистской части. Доты, ходы сообщения, колючая проволока, покореженные деревья… Могут быть и мины.
– Ну, пошли сюда! Согласен… Веди… Как разведчик… Доверяюсь.
Было тепло. И благоуханно, терпко-смолисто, тенисто в пуще. С хрустом ломались под ногами сухие веточки. Но уже опять разом взорвана тишина: поднялся артиллерийский тарарам. И странен был разговор у грибников под это буханье снарядов.
Сначала им маслята попались – они не стали их собирать. Потом волнушки пошли.
– Волнушки… Все серые. Сразу их надо вымочить как следует… – говорил Стасюк. – Холодной водичкой залить. Так… Два-три дня постоять дать. Потом, значит, варить, обязательно посолить. Хорошо прокипятить, потом, значит, холодной водой промыть через ситце, дуршлаг. Сюда укропчик, чесночек заправить. Потом опять слой грибков…
– И водой уже не заливать? – спросил Антон.
– Не надо. В них, грибках, хватит собственной воды, – сказал Стасюк. – И хорошо еще, значит, – добавить листочков с кустов черной смородины, для душистости…
– Знаю, Игнат Стасович: мой отец, бывало, – и Антон вздохнул, – так огурцы засаливал. Любил повозиться с ними…
– Сверху заложить тяжелым чем-нибудь: груз! И – готово!
Затем им рыжики попались. Дальше больше. Так что далеко идти им не пришлось.
Антон не хотел брать маленький боровик – решил: пусть подрастет.
Его напарник засмеялся:
– Дело в том, что никто не видел и не знает, как грибы фактически растут. Когда я жил в панской Польше, я знал хорошие грибные места и ходил туда и приносил одни белые, хотя не очень люблю есть грибы в любом виде – они для меня, значит, ничто. Я очень люблю их собирать. Такое это удовольствие. Вот идешь ты, а он стоит, играет с тобой в прятки… Так вот было как-то и со мной, значит, вижу, небольшенненький белый грибочек, думаю: «Нет, не стоит рвать, погожу до завтра – вырастет». Назавтра прихожу на старое место – он опять такой же. Ничуть не прибавил. Послезавтра – опять: не прибавился в величине. Говорят, не любят грибы человеческий глаз: если посмотришь, то перестают расти. Как они растут? Это ж химия… Когда влага. Газом вмиг надуется, выскочит из под земли. И какой гриб надулся за раз, такой и будет – больше уже не прибавится. Больше, значит, запаса газов нет.
Но Антон все же не сорвал этот маленький боровичок: Стасюк его не убедил.
На диво здесь лес, росший не скученно, был еще более чист, подборист, трава негуста, низка (мешали грибникам ходить разве что только сухие, веерообразно отходившие от стволов сосняка веточки – можно было напороться на них) и надутые в основном мраморно-коричневые шляпки боровиков с желтоватой как бы подкладкой и упругой белой ножкой весело торчали из нее повсюду, группками. И все-то они являлись, как на подбор, – сочные, нечервивые, точно кто нарочно наставил их столько, чтобы изумить. И Антон изумлялся (такого количества их еще нигде не видывал). Он даже испытывал в душе уже и некоторое разочарование от небывалой простоты их сбора: не пришлось буквально ползать под кустами, ветками и разгребать лесную подстилку из травы и опавшей листвы, порой похожей на грибные шляпки. Но, главное, хотелось брать грибы больше и больше, сколько могли руки унести, – общая болезнь всех грибников.
Быстро ведра были полны добычей…
– Молодчина, ты шустро грибки собираешь, видишь! – похвалил Антона бывалый Стасюк, когда их уже некуда было больше класть.
– А они и не прячутся тут – все на виду, – нашелся Антон.
– Много, значит, что ты молод – скор на ногу; скачешь, что вьюнок, туда-сюда. Зырк-зырк. За тобою не угонишься. Ты много грибничал, скажи?
– Нет, только до войны… И все…
– Да, стало всем не до грибов: собирать-то некому…
В небе нарастал неровный самолетный гул. Он заставил Антона вскинуть голову. На его глазах шедший на посадку истребитель «Як» вдруг, чихнув мотором и неловко клюнув носом, и перевернувшись, начал падать; комочком выбросился из него пилот, плеснув шлейфом парашюта. Вот и раскрылся парашют – белый, легкий, грациозно закачался он, снижаясь, в просторной синеве, над зелеными макушками деревьев, почти в тот же самый момент, как содрогнул землю тупой удар упавшего истребителя.
– Может, помощь там нужна? – спохватился Антон после некоторого оцепенения. – Сбегаю туда?
– Давай тогда свое ведро, – сразу предложил, посумрачнев, Стасюк. – Мои-то кочелды уже не так быстры – не угоняться, не обессудь.
– Ну, что ты, что ты! – И Антон помчался в направлении падения истребителя и вероятного приземления летчика, куда его сносило упругим ветром.
Да, сколько раз особенно прошлым летом подо Ржевом Кашин наблюдал падение сбитых, объятых пламенем немецких и наших самолетов, в том числе и прекрасных бесстрашных «Илов», и видел их, упавшие, вблизи; но он еще не видел очень близко спасшихся летчиков, так что каждая связанная с этим человеческая трагедия представлялась ему неполной, как бы несколько обезличенной, что ли.
Что это так он почувствовал тотчас же, когда в конце-концов, разгоряченный, выскочив из лесных зарослей на этот край солнечной поляны, увидал прямо и непосредственно в лицо уже спустившегося на парашюте героя – живого, невредимого. Заметный сразу среди сбежавшихся людей, товарищей своих, у островка кустарника и берез, в высокой спелой траве, он, в темном шлеме и комбинезоне, стоял в их окружении мрачный и чумазый.
Все его мысли, должно, еще кипели внутри борьбой, только что происходившей там, в воздухе, и его словно какое-то пристыженное в то же время состояние поразили Антона больше всего из того, что он уже привычно видел прежде; несмотря на вроде бы застыло-отрешенный вид летчика, его дрогнувшее скуластое лицо выражало скорей всего отчаяние от случившегося и невыразимую боль и досаду на себя, как будто он один был виноват во всем, кругом один, – что не сумел-таки дотянуть до аэродрома и спасти подбитую боевую машину – истребитель. Ведь почти уж дотянул! И в этом ему сейчас никто не мог помочь ничем, понимали все.
Набежавшая в основном с аэродрома толпа, бессильно обсуждая случай, волновалась, жила. А летчик внешне неподвижно и бесстрастно уставился только прямо туда в кромку леса, куда – среди трех сосен – рухнул носом его истребитель и вовсю горел, треща, сжигая и деревья в заполыхавшем жирном факеле – в некотором отдалении отсюда. И, казалось, даже и при ясном дне жаркий и черный отсвет отражался в глазах летчика, на его лице. Там слышно уже рвались неизрасходованные боеприпасы, мог взорваться и сам самолет. Поэтому ближе никто не подходил. Лишь один смельчак, на которого поначалу шикали, приблизился зачем-то…
Точно не замечая никого и ничего, и никакой природной благодати, летчик, видно, действительно еще был весь там, наверху, в небе, где только что, пронзая, подобно огненно-красной стреле, облака, разил проклятого врага, нагло покусившегося на чужое. Понятно, для таких бойцов, падающих с неба, хуже нет того, чтобы в самый разгар боев остаться без боевого друга – машины, послушной, не подводившей никогда; хуже нет похоронить ее неожиданно и почувствовать себя, хоть и временно, не у настоящего дела. В этой потере горе было невозместимым – он на какое-то время выбывал из общенародной борьбы.
Только через состояние летчика, которое Антон увидал, он увидал трагедию по-новому: что говорится, вживь – такой, какой она бывала для всех летчиков, для всех смелых настоящих воинов.
Возвращаясь, Кашин не сразу заметил на опушке капитана Суренкову, затихшую в каком-то ожидании. Она тоже, значит, прибежала сюда!
– Догорает, ничего не сделаешь, – по-взрослому рассудительно проговорил Антон, подходя. – А мы-то все-таки грибов насобирали – много, товарищ капитан…
И осекся. Невзначай сорвавшиеся нелепые, глупейшие слова, никак неуместные здесь теперь, в такой момент, замерли на его губах. Какие тут грибы? Причем они? До них ли?.. Опять он невпопад? Чувство возникло такое, будто опять он был в стороне от чего-то главного, большого. Благо то, что она его не слышала и, больше того, не видела, кажется. Отсюда, из-под свесившейся густой, тенистой кроны раздвоенной сосны, она наблюдала, а вернее, созерцала, затихнув, все происходившее перед ней широко открытыми грустными глазами.
Говорил кто-то, что ее родной брат служил то ли моряком, то ли морским летчиком на Балтике. Она не получала от него никаких вестей уже с осени 1941 года. Как и Кашины – от отца. Из-под Ленинграда.
В послеобеденный же час приехали на конной повозке с квадратными цинковыми баками за водой в северный край урочища. Где, казалось, глохла тесно, хмуро – угрюмо лесная чаща, мало пропускавшая солнечный свет; здесь никакая птичка не порхала, не свиристела – царила настороженность во всем, хотя и близко отсюда снаряды рвались. В этой части леса гитлеровцы долго пребывали и обстоятельно, с неким комфортом для себя оборудовали целый земляной укрепленный городок с вырытым колодцем на окраине. Рядом с местоположением служак – управленцев никакой реки не протекало, не было никакого водоема. Так что управленцы стали пользоваться водой из этого колодца, который открыли; медики, взяв пробы, проверили и убедились в том, что вода в нем не была отравлена. Немцы поспешно убрались отсюда под натиском советских войск.





