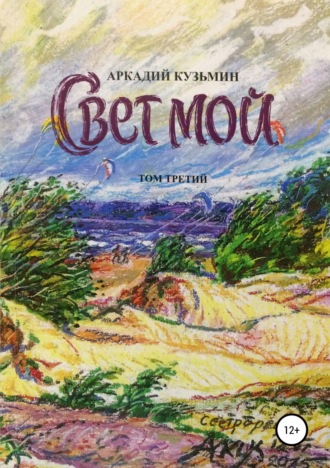
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Раз зимой он на плоту (на Истре) занимался любовью с зазнобой. Она упала с плота в ледяную воду. Он нырнул за ней, сумел вытащить ее, почти мертвую. Та работала прорабом на стройке. Они, обледенелые, замерзшие проникли в сарай на стройке, сдирали со стены обои, жгли их и обсушивались так.
– Ужасно, Константин! – воскликнула Люба.
– А проучить баб-сплетниц он нашел такой способ: стал смачивать по вечерам скамейку, на которой они обычно посиживали, кислотой, которой промывают карбюратор. И его мать любила посидеть на скамеечке. Но поначалу он ей ничего не говорил. Вот проходит неделя-другая. Стали бабы жаловаться друг другу на то, какую плохую ткань выпускают теперь ткацкие фабрики: мало того, что платья на задницах разваливаются вдруг, но и также трусы, комбинашки. Тогда-то он и сказал матери, чтобы она не ходила сиживать на скамейку.
Мало того, будучи как-то у Маруськи он с балкона пятого этажа облил водой сплетниц, а они, задрав головы и разинув рты, так и не поняли, откуда на них полился дождик.
– Ну, Костя, весело вы живете! – воскликнула Люба.
– Приезжайте, – сказал Костя. – У нас, в Мизинове, дачка – люкс. Река Воря – быстроводная, песочком шелестит, играет. Местами на ней мелко. Мы ставили раскладушку на середину, и тетя, лежа на ней, читала нам сказки. А потом приплыло и кресло вольтеровское. И его приспособили для игр и отдыха, ловили ракушков, ягод много. Грибочки всякие – рядом. Не пожалеете.
– Любочка, действительно, – сказала и Таня. – Приглашаем… летом…
Х
В это воскресенье, летом, еще крепкий, не пенсионерующий, Павел Игнатьевич, да тощая чернявая его жена Янина Максимовна обедали на сезонной лахтинской даче вместе с подоспевшим к ним из города зятем Антоном Кашиным. Антон, производственник, был уже довольно уравновешенным и устоявшемся во всех отношениях мужчиной (только не толстел), а кроме того – хорошим собеседником. Поэтому Павел Игнатьевич (он был в рубашке в голубоватую полоску) очень довольный плотным и своевременным обедом, сразу, едва покончил с клубникой, отсел от стола на худенько-продавленный диван и начал оживленно:
– Ну, а теперь послушайте меня. Я вам расскажу о том, как сегодня ездил в Ольгино покупать себе домик с садом… все-таки на пенсию иду… Съездил замечательно! – И при этом его светло-серые глаза проблестели особенно: он, вернувшись всего полчаса назад с дачных смотрин, явно предвкушал удовольствие рассказать другим нечто свеженькое, интересное, что приберег, разумеется, на сытый желудок. При пустом, известно, у него отказывал разум, опускались руки; голодный, он, как признавался иногда с подкупающей (и вроде бы освобождающей его совести) откровенностью, мало что соображал и, более того, даже не ручался за себя – в порыве гнева мог сотворить любое преступление. Мол, что поделаешь: в нем такая вот физиология заложена! У каждого из нас какие-то свои считалки. И нужно их учитывать.
– Что, решились наконец? – спросил Антон, испытывая внутреннее облегчение. – Лиха беда начало. Можно вас поздравить?
– Нет, вы послушайте все по порядку, – сказал в настроении Павел Игнатьевич, умалчивая о чем-то. – Итак…
За окном второго этажа, в голубых промоинах неба, полоскались, веселя, играя, пронизанные полным солнечным светом, пряди старых усадебных берез. Все покамест было славно, а главное – отлажено в этой жизни. Сбоев не было.
Но – словно в противовес избытку хорошего сегодняшнего мужниного настроения – уже исчезло такое пасхальное (при постороннем – зяте) выражение с земляничного лица Янины Максимовны. И вовсе не потому, что она, домохозяйка, стала собирать со стола грязную посуду (а готовить по дому и на кухне так не любила, не приученная сызмальства к черной домашней работе). Она насунулась и схмурилась, потому что понимала лишь одно – что для нее-то плохо будет все сделанное и продуманное мужем вопреки ее неясным ей самой до сих пор желаниям. Она расходилась с ним во всем, что касалось совместных планов, или, проще, видов на жизнь дальнейшую. И различные сомнения у ней со временем никак не отпадали и не разрешались само собой.
Весь ее заметно уже нахохлившийся вид как будто говорил ему: «Что б ты ни придумывал опять, я-то знаю, знаю верно, что давно ты хочешь уморить меня»…
– Итак, это находится недалеко отсюда, всего в двух автобусных остановках… – И тотчас же Павел Игнатьевич вспыхнул, хоть и был накормлен: – Да помилуй, Яна, сядь и посиди спокойно пять минут, не мельтеши; пойми: суетой мешаешь мне сосредоточиться – маячишь тут перед глазами… – Он тем самым давал ей понять, что есть предел его супружескому терпению, которого у него, по правде говоря, и не было в помине никогда.
– Ой, так близко, Паша – удивилась Янина Максимовна самым искренним образом. – Да, послушно оставив в покое грязную посуду и прилежно, ровно провинившаяся на уроке школьница, с неудобством – бочком, села рядом, на старенький, весь облупленный – подстать даче – скрипящий венский стул (он сразу заскрипел под ней), мяла свои ручки. – Что ж тогда ты долго там пробыл? С самого утра… – И обиженно поджала тонкие губы. Натянулась теперь, значит, по конкретному поводу.
– Да, голубушка, с налету-то ничего серьезного не выяснишь – не сделаешь. Как сама ты думаешь?.. Вот пришел, повернулся – и все уже сделано? Как же!..
– Ну! – Даже строго-повелительно, что совсем некстати было, произнесла она. У нее бывали столь не характерные перепады-всплески в поведении перед мужем: то держит себя по-лисьи, хвост поджав и почти угодничая, то, как гейзер, не вулкан, всплеснет, казалось, ни с того ни с сего, бурля. И успела затем обеспокоенно спросить у зятя: – Скажите, Антон, не надует вам из раскрытого окна? Вы ведь легко одеты: в безрукавке… Может, все же лучше прикрыть его? Мы-то за лето привыкли здесь к чистому, свежему воздуху…
– Нет, нет, – дважды повторил тот с твердостью и даже с явным неудовольствием.
Но она не унималась – и опять к нему обернулась:
– Скажите же на милость! Август месяц, а какой студеный день! Нынче утром даже мороз лежал на крышах… Очень хорошо, что вы, Антон, едете на Кавказ, к морю, туда, где отдыхают наши дети, Толя и Люба; поезжайте же скорей – Люба, вероятно, так соскучилась; приглядите там, прошу я вас, за ними, а особенно-то за Толей: ему тридцать лет всего, хотя он и отец уже… Вы постарше, посерьезней… Обещаете? – И после того, как Антон уже трижды или четырежды поспешил сказал ей слово «да», она к мужу снова повернулась, спохватившись, но с некоторой досадой, что ей не дают наговориться вдоволь: – Ну, я всё, молчу, молчу; рассказывай, что ты хотел!
Павел Степин на это только покрутил светловолосой головой, вроде б сердцем отходя, улыбаясь: вот женщина! – она больше всего беспокоилась, точно о маленьком, о женатом сыне. Выбрала для этого момент! Ничего себе, подходящий…
Собравшись снова с мыслями, заговорил:
– Когда-то по роду своей работы я курировал машиностроительный завод, на нем близко познакомился с главным инженером Киселевым, знающим, сдержанным товарищем. – Во все эти подробности, Антон знал, тесть посвящал именно его, зятя, – он, Павел Игнатьевич, со своей околослужебной и всякой деятельной стороны был совсем непонимаем и непризнаваем женой, натура которой возвышенно склонялась к каким-то иным, пока еще неведомым ему интересам, хотя они и прожили вместе уже треть века. – И так как я часто наведывался на этот завод – подгонял с заказами на экспорт, все заводские уж стали считать меня за своего работника. Бывало, как заявишься сюда, – каждый между делом остановится потолковать с тобой накоротке; да и сам ты не прочь обменяться с людьми приветливостью: оттого, знаете, и настроение подымается. А на той неделе, в пятницу, я опять по доброй памяти оказался там. Случайно разговорился с одним близким другом Киселева. И высказал ему полушутя свое желание – на старости лет приобрести себе какую-нибудь дачку. Я все грежу этим земледелием, – виноватясь, но не стыдясь нисколько, говорил Павел Степин, явно вновь для Антона, могущего то понять в силу своего логичного суждения и практичности. – Вот выйду на пенсию, куплю клочок земли и буду ее потихоньку (никто не будет гнать меня взашей) обрабатывать, как некогда обрабатывал и мой отец, – все отрада для души, успокоение. Своя земля и в горсти мила. Много ль надо старику? И, ну, тот знакомый возьми и шепни мне, что Киселев, как пайщик, состоящий при заводском садово-огородном кооперативе, продает свой домик вместе с садом. Просит он две тысячи за все, но наверное, уступит и за тысячу восемьсот. Поезжай, говорит, к нему, да хорошенько посмотри, прикинь, что к чему, – может, это и подойдет тебе. Будет какой-то интерес. Я согласился с его предложением: «Чем черт не шутит!» И даже – поверите ли? – какой-то хороший зуд вдруг появился в моих руках, едва я подумал о родной землице. Это ж надо!.. Ведь сорок лет с лишним уже прошло с тех пор, как я сорвался с нее. Поистине оглянуться не успел…
Тут Янина Максимовна как-то дернулась нетерпеливо, стулом заскрипела. И сказав вроде б с легким осуждением легкомыслия мужа:
– Это в вас, Степиных, уже неизлечимое, наследственное что-то – хотите обязательно крестьянствовать, копаться в земле. И твой отец, ставший напоследок тоже горожанином, маялся без нее. Умирал, а все скорбел…
– Успокойся, ради бога, Яна; я ведь не прошу тебя возиться в огороде: он не терпит белоручек, купеческих дочек, – кольнул ее в свою очередь Павел Игнатьевич, однако был великодушен к жениным вечным слабостям, необоснованным поздним страхам.
– Он же прямо волком выл оттого, что умрет в чужом городе, не на своей земле, – добавила она тоже для Антона, не знавшего отца тестя. – А такой могучий был старик. С пышной бородой. Дожил до восьмидесяти лет.
– Вот, Яна, и я также хочу тихо пожить еще лет пятнадцать-двадцать, если, разумеется, будет все спокойно в мире. Ибо нынче всюду тьма горючего материала скопилось для войны: так небезопасно жить. В городах больших – особенно. Потому-то и цепляюсь я за дачку, садик…
– Что я? – поджала она губы. – Сам смотри… Но обсыпь кругом золотом – не буду усадебной хозяйкой. Своя воля всего дороже.
– Ты больно щеката и разборчива, матушка, – сказал ей муж. – Терпение лопается.
– Как хочешь…
XI
На сторонний взгляд Павел Степин, ведущий инженер управленческого городского учреждения, жил вполне размеренно, прилично; при всех обстоятельствах он всегда, помнил, главное, об удобствах, исключениях для себя – в лепешку нигде и ни ради чего-нибудь не расшибался, но был знающим работником. Надо было знать его. Похоже живали прежде в меру состоятельные – и при небольшом-то капитальце – главы семейств, обращавшие даже дурной характер свой в капитальный с их точки зрения семейный уклад для того, чтобы завсегда властвовать над вольнолюбивыми домочадцами – властвовать и в новые, изменчивые времена. Удивительно, но время, несмотря ни на что, щадило в нем подобную закваску, живуче-неизменчивую смолоду, с тех самых пор, как он подался из псковской деревни в Ленинград – захотел учиться, чем сильно обидел отца, – как старший сын, не наследовал от него крестьянский труд, его знания. Соответственно этому он и привык потом все делать (но крайне редко) внешне по-крестьянски, капитально, с излишним обдумыванием и передумыванием, но чаще в пользу ничегонеделанья. Завсегда ведь находилось много – сколько ни пожелай себе – основательных предлогов для этого; город от этого нисколько не страдал, разве что – и то относительно – семья.
Исподволь Антон открыл эту особенность тестя. И теперь, зная его склонность к преувеличению всяких сложностей, все же с интересом слушал его исповедь и, по-человечески надеясь, гадал: неужели он взаправду образумился настолько, что решился-таки на нечто серьезное? Такое следует лишь приветствовать, радуясь за поумнение человека. Тем более Антон ждал от тестя результата (лучше положительного), что сегодня приехал сюда к нему не без тени корысти также: с одним противным денежным разговором, который и мог состояться после – в зависимости от тестиного рассказа. И мог ли еще вообще?..
Павел Игнатьевич продолжал обстоятельно:
– Значит, связался я с Киселевым, – звать его Николай Николаевич. Стало быть, созвонился; сразу, что говорится, взял быка за рога: стал торопить его. Мне невтерпеж: я завелся… Только он почему-то очень неохотно назначил время нашей встречи на сегодняшний день; может быть, другие планы были у него. Но нынче, когда я заявился к нему на участок, он к удивлению моему очень любезно встретил меня, готовый к серьезному разговору о продаже усадьбы. И жена его, Ксения Зиновьевна, полная, светлая дама, была тоже на участке, Видать, могучая и пробивная баба. Здоровенная… Но я потом о ней расскажу…
Сначала их хозяйство осмотрел. Что же: аккуратненький домик в две комнатки, обнесенный тесом; выкрашен голубенькой краской, стоит на фундаменте. Две комнатки – удобные, чистенькие. Во всяком случае, они мне понравились. В одной, что побольше, они сами живут; в другой же приезжающих гостей принимают: служит им гостиной. Или дочь со своим семейством прикатит, чтобы погостить; или сын внезапно явится, прибыв из плавания. Ну, а в небольшом-таки садике у них, все как во всяком садике везде у нас. Еще когда подошел я к их домику, то отметил про себя: на фасаде его помечена цифра: тысяча девятьсот пятьдесят шестой год. Значит, полных одиннадцать лет прошло их хозяйствование здесь. А яблоньки очень-очень чахлые. Да и что может дать крестьянину эта северная земля, наша нечерноземная зона? Очень же мало что. Я думал перед этим: вот войду к ним в дом – и они угостят меня отменными наливными яблоками… Куда там! Их просто нет, не вырастают они, хотя все ухожено в саду – каждое деревце и каждый кустик. И все поприлажено вокруг – столько положено трудов, не счесть, что, знаете, полцены будут эти тысяча восемьсот рублей за дачку. Видимо, уже настолько надоело это им, что они решили разом избавиться от обузы. Я-то мыслил как: куплю, мол, себе хозяйство такое, и если вдруг захочется повозиться с ним (припрет) – выйду в собственный сад, и, пожалуйста, повожусь на здоровье. Однако тут так не будет, точно. Убедился. Землица северная наша не через месяц или даже год, а только через многолетие свой результат покажет. И то – не лучший. Сколько ж, спрашивается, нужно вложить в нее, ухлопать средств на все?.. И на месяц-то не оставишь ее без присмотра. Нельзя. Никак нельзя. Все тогда заглохнет.
Снова заскрипел под Яниной Максимовной стул – она снова, шевельнувшись в нетерпении, подчеркнула знающе, хотя никогда не делала того и мало что в этом смыслила:
– Какое! Ведь нужно, вижу по нашим хозяевам, постоянно все поливать, полоть и унавоживать; нужно столько ухаживать за хлипкими посадками, что себе дороже… – Смешно и глупо, наверное, но у нее, как у доброй половины, если не больше, замужних женщин, были постоянные недоразумения и несогласие с вольнодумным мужем, пекущемся только о себе, а она даже перед любым посторонним лицом, стараясь представить их, хотела остаться (и ей удавалось это) самой собой – рассудочно сдержанной, педантичной, ровно классная дама, готовой, если нужно защищать свои нравственные принципы и полную независимость, покой.
– Если же, например, ударят весенние заморозки (они часты), – надо и подсаживать заново, – сказал Антон. – Допустим, огурцы. Надо яблони окучивать и окуривать. Я видел, сколько мой отец возился до войны… Его дело колхозное теперь лишь один мой брат ведет на родине. Из семи нас, детей. Все разбежались – разъехались кто куда.
– Вы о младшем брате говорите, Антон? – оживилась теща.
– Да, – ответил зять.
– А ваша мама с ним живет?
– С ним. Нянчит двоих внуков.
– Славно… Она – старше меня?
– Да, с девятьсот первого.
– Интересно. – Она карие глаза прижмурила.
Дождавшись без строгости, Павел Игнатьевич особенно улыбнулся:
– Ну, слушайте дальше. После осмотра хозяйства мы посидели несколько за столом, и они угостили меня настоечкой.
– То-то вижу, что ты уже навеселе, какой-то не такой обычный. – Втайне Янина Максимовна уже обиделась на мужа – подобрала губы: – Что, не мог сдержаться – не принять?
– Да не ругайся ты, жена: раз в год по капле… – успокаивающе сказал Павел Игнатьевич. – Ты дослушай лучше, пока я весел… Так вот про каждую яблоньку он, Николай Николаевич, поведал мне трогательные истории, точно про живые какие существа, родные ему. Настолько, видимо, сроднился с ними. Помнит все: эту-то привез из-под Пскова, этот-то саженец за полцены выторговал в Луге, эту купил у соседа, а эту столько времени выхаживал все равно, что больную… Я поинтересовался, сколько ж им обходится все за год. Оказалось, пятьдесят рублей да плюс еще на сторожа, которого нанимают. Все решают сообща – постановляют всем кооперативом: колодец чистить, чтобы брать воду на полив, дорогу расчищать и тому подобное. Для этого каждому пайщику необходимо отработать десять часов в год; если не отработаешь, – платить кооперативу по десять рублей за час – такой установлен общий порядок. Понимаете? Значит, уходит в таком случае еще сто рублей. А сторож, понятно, почти не караулит, только значится. Раньше колодец (колонку) регулярно чистили, но теперь уже проводят новую оросительную систему. Так порассуждали мы обо всем. Я сказал им, кто ты у меня, Яна, – что принципиальная, воспитанная женщина, бывшая учительница…
– Ну и что они? – Она не утерпела – не могла не спросить. И точно крылья сразу распустила.
– … и что если я покупаю себе усадьбу, то покупаю больше для себя одного: она-то ни за что не будет копаться в огороде, пачкать ручки. Калачом не заманишь. Так что я за двоих тут должен думать. Она ведь не будет и не может психологически возиться со всевозможным домашним хозяйством. Да и здоровье у нее не лошадиное. Все мы в жизни намыкались, поизмотались… – Павел Игнатьевич, сделав паузу, поглядел на плескавшиеся привольно на окном свисавшие березовые веточки.
XII
– Да, да! Ну, и что же? – Стул скрипел, выдавая радостное нетерпение Янины Максимовны. Она елозила и порывалась вся куда-то. Воспряла духом.
– Значит, открываю им все свои карты, – говорил рассказчик снова по порядку. – Вчистую. Что скрывать? И вдруг Ксения Зиновьевна, слушая меня, говорит мне напрямик, всерьез: «Нет, Павел Игнатьевич, не приобретайте вы это трудное хозяйство; не впрягайте себя в ненужное ярмо – не отдохнете тогда ни утром, ни днем, ни вечером. Никак. Оно вам будет не по силам». Я возразил: «По вам не очень-то видно, чтобы вы вымотались крепко: очень свежо и здорово – тьфу, тьфу! – выглядите или не так?» Напрямую говорю, как любят люди. Она: «Да. Но и это здоровье такое… И то, что на воздухе день-деньской находишься»…
– Да тебе-то это нужно… как собаке пятая нога, – повторила Янина Максимовна свое любимое выражение.
– А она, Ксения Зиновьевна, действительно здоровая, пробивная, видать женщина, – не сбивался в рассказе Павел Игнатьевич. – Рождена для этих дел – большим хозяйством ворочать. Ее сын на рыбодобывающем флоте работает, и нельзя послать к нему посылку. Так она пошла куда-то, показала, что эти огурцы собрала с грядок своих, и ей разрешили восемь килограммов их послать ему, моряку. За одну пересылку она заплатила девятнадцать рублей. Вот такая это пробивная женщина. Характерен для нее и сегодняшний пример: вдруг рамы для дома привезла, где-то их купила мимоходом, наняла тут же извозчика – и приволокла. Проявила расторопность. «Зачем же?» – спрашивает муж. – Ведь у нас рамы есть: они вставлены». «Ну, эти, – говорит она, – уже прохудились; погляди, все почти истлели. И если придется вскоре их заменить, но новая замена всегда будет у нас под рукой». До чего настырная, хозяйственная баба! Она меня поразила. По улице идет – и уже заранее прикидывает, что им сгодится и потребуется. Не всякому дано такое качество.
Знать, несладкой была жизнь у нее. Да и у Николая Николаевича тоже. Из его разговора я почувствовал, что оба они – не ленинградцы. Он был в свое время и двадцатипятитысячником. Она мыкалась с ним везде, возилась в земле, чтобы было подспорье семье, – отсюда страсть-то к ней и привилась в натуре со временем. А нынче он решил отвязаться от пут: выходит, совсем несвободен с землей. И теперь он не прямо говорит, что продает усадебку. Говорит: все это надоело ему. Набрался духу – два раза уже подавал в заводской кооператив заявление о выходе из него. И дважды передумывал – забирал обратно заявления свои. Все же жаль, что ни говори, с таким трудом созданного, нажитого, – ведь завсегда этим жил, маялся: как же дальше без него? Все равно что корни обрубить. А тут уж подал окончательно – в третий раз. И он, Николай Николаевич, стал тоже жаловаться мне. Понятное дело… Ноша тяжка…
И когда я, вконец распропагандированный ими обоими, вышел на улицу и пошел вдоль домов, а знакомый – Петр Федоров, которого здесь тоже увидал (вместе с ним еще перед войной работал на заводе), закричал мне через улицу: «Что, облюбовываешь? Покупай! Покупай! Не пожалеешь! Моим соседом будешь!» – я лишь отшутился покамест. Чтобы, знаете, не было после разговоров никаких. Они также могут выбить из колеи преждевременно, повлиять неверно…
– Нет, Паша, постой, пока не перескакивай ты на другое, – построжав, но с обидой остановила его жена. – О главном не сказал ты. Спросил у них, почему ж они решили продать домик после одиннадцатилетнего проживания в нем? – Она била в одну точку, поскольку напрочь никак не соглашалась на такую покупку; ей только любопытно было знать, что теперь не устраивало дачных владельцев в их собственности.
Павел Игнатьевич улыбаясь, простодушно ответил:
– Он-то, Николай Николаевич, сказал, что жизни нет.
Она поразилась с воодушевлением:
– Жизни нет?! Так и сказал?
– Да, прямо так и сказал.
– Вот, вот! – Она все же сильно обрадовалась услышанному: это был лишний аргумент в пользу ее сопротивлению мужниным намерениям. Она, выходит, дельно упрямилась перед ним. И несдержанно заерзала опять на противно скрипучем стуле.
– С этим садом своим он, как признавался мне, только одну дорогу в Советском Союзе и знает – до города и обратно.
– Все понятно, если так…
– За десяток с лишним лет лишь один раз отдыхал по путевке в санатории. И то: вернулся на дачу свою спустя месяц – а здесь сущие джунгли, все заросло. Пришлось ему снова засучить рукава по-настоящему. Без присмотра ее невозможно оставить ни на день.
– А то как же… нельзя…
– Я поинтересовался: «А книги-то Вы хоть читаете?» «Какие книги! – отмахнулся он. – Я газет-то не читаю: некогда; только то, что в электричке успею, и все чтиво мое. Зато зимой полное блаженство. Все снегом занесет-заметет – никуда тебе не нужно и не нужно ничего расчищать. Никакой мороки. Лежу себе в удовольствие».
– В общем, зимний курорт? – вставил зять.
– Да, – почти обрадовалась Янина Максимовна.
– Да и что этот садик дает? – говорил Павел Игнатьевич, словно разубеждая самого себя. – Яблоньки все чахлые. Видно, навоза, удобрений мало, не хватает. Я надеялся увидеть там какие-нибудь плоды. Но их нет. У хозяев еще дочь замужняя. С детьми. Как приедет к ним из города – ну, ягоды созрели. Шасть в огород. Все пооборвут, поедят – и уедут восвояси; еще с собой что-нибудь прихватят – не без этого. Кому надо ломаться? Поэтому старики и решили наконец пожить свободно. Захотели раскрепоститься. Только жалко расставаться с нажитым: все ухоженное, притертое. Я критически прикинул: две тысячи – дешево берет, почти даром. Но, видимо, ему уже так осточертело все, если он идет и на это, приносит явную жертву.
Я до конца исследую этот важный для меня вопрос (потому что, если я не знаю, а думаю, что все знаю, тогда может быть просчет). Говорю: «Когда шел сюда к вам, видел, что молодая женщина увлеченно возится в своем саду»… «А как же ей не возиться? – возражает хозяин. – У ней это одно и осталось: мужа нет. И ребенок при ней. Это ей необходимо». «А вот этот работяга?» – показываю на соседа. «Он тоже вынужден», – и перечисляет разного рода веские обстоятельства, причины, которые не скинешь запросто со счета. Добавляет: «Еще плохо то, что хочется, чтобы у тебя было не хуже, чем у соседей; если будет на грядках хуже, то и сама жена еще изведет, испилит всего». «Ну, а где ж навоз вы берете?» – спрашиваю. – Без него ж наша земля ничего не даст»… «Здесь коровы проходят – после них навоз собираем, – говорит. – Семидесятипятилетняя мать жены помогает. Только и вижу в любое время дня ее согнувшуюся на дороге».
И вот, Янушка, я решил, что пока еще работаю и не вышел на пенсию – не буду одевать себе хомут на шею. Деньги за домик требуются немалые, если покупать его; я лучше катану на них под Псков – с радостью поживу там в куриной избе, похожу по лесу и нетронутой траве…
– О, это было б так замечательно! – Янина Максимовна всплеснула ручками и заскрипела предательски стулом. – Ты вон стул не сколотишь молотком – какая ж может быть покупка дома?… Ведь такая у нас натура человеческая – хочется объездить, посмотреть… Пока живы… – Она засуетилась.
Муж, однако, грозно глянул на нее:
– Ох, сколько ж, Яннушка, скрипишь! Ей-богу…
– Не я, а стул, который ты не можешь сколотить, я говорю, – оправдывалась она. – Так, Паша, решено?… А то – что? – впадешь в их ошибку, – будут дети с внуками ездить в сад, обрывать кусты ягодные, а тебе самому и не останется ничего, чтобы попробовать. – Что характерно, в этом ее высказывании проскользнуло откровенное нежелание возиться с детьми и внуками, жить во имя их радостей. Вздохнув мечтательно, она перевела свой взгляд на неубранный стол и захлопотала уже вокруг него, посудой загремела. Спросила:
– Ты где купил сегодня ягоду?
– Подумай, где, – сказал Павел Игнатьевич.
– Я не думаю. – Она поджала губы.
– А ты думай!
– Тебе проще ответить мне, чем мне думать. Мне некогда тут растарабаривать – нужно мыть посуду. – Обрадованная столь удачным исходом дела, она теперь держалась уверенней в обществе деспотичного мужа. И ушла за дверь.
– У моей жены, извините, какая-то замкнутая, непонятная для нас, система образа действий, – рассуждал Павел Игнатьевич перед зятем, словно давал понять ему, что еще мысленно не отказался от поиска для себя чего-то близкого к задуманному, несмотря на препятствия, вызывающие в нем досаду. – И она придерживается его точно. Ей наплевать на практику, она сильна в теории – и точка. Не хочу – и баста; хоть лопни – не сдвинешь ее с места. А есть и иного склада бабы, такие, которые обязательно хотят переварить нормальное сырье в какое-нибудь ни на что не похожее дерьмо. Рвутся к этому. Это ж надо – с ведрами пузыниться, когда можно на базаре нужное купить и сварить спокойно дома. Дешевле обойдется.
В общем, как хочешь, понимай его.
XIII
Антон, слыша, на первый взгляд, будто вполне объективные откровения тестя, со своей стороны не мог (и не хотел) ни убеждать и ни разубеждать его в чем-то существенном; не мог, главное, потому, что в точности знал: это было б совершенно бесполезно, просто пустая трата времени. Опыт показывал, что для Павла Игнатьевича как раз важнее всего был сам публичный процесс осмысления им чего-то под углом неучастия, как некая игра, заменяющая в его глазах основу всамделишной жизни. Если он толковал о серьезных, проблемных вещах, – значит, этим вроде б жил. И он, и еще как-то порхающая на седьмом десятке лет Янина Максимовна (она на пять лет была старше мужа), которая говорила не столько о делах, сколько о всяких пустяках, и жила тоже своими разговорами, относились к типу людей, не умевших и не хотевших никогда не только помочь другим, поняв их нужды, оценив их неизмеримо большие заботы, но и помочь себе реальномыслием. Они нисколько не хотели перетрудиться ни в чем или чем-то обеспокоиться вдруг. Ставили заслон всем, и все. И ведь с каждым прожитым годом такая мораль костенела в них все больше, вследствие чего становилось все очевиднее, насколько же они, оторвавшись от детей своих, мало жили их интересами, а свои похоронили в верную. Считали равнодушно, что дети, обзаведшись сами семьями, теперь полностью благоустроились, или если нет – пусть мыкаются и ломаются сами; их дети полнокровно вошли в жизнь, и довольно этого, обойдутся теперь без родительского присмотра.
Между прочим, Антон приехал нынче к ним, Степиным, не просто ради загородной прогулки и тещиного обеда, а нарочно, с тем, чтобы, возможно, занять у них деньжат. Это было поручением жены, советовавшей ему в письме сейчас обратиться за тем к своим родителям: она-то знала хорошо, что деньги имелись у них. Вышло так, что Кашины вступали в жилищный кооператив, – в коммуналке жили без удобств: без горячей воды и ванны… Так что Антон, как проситель, был, что говориться, не в своей тарелке из-за этого – очень не любил что-либо просить для себя. Он вроде испытывал двойную неловкость: после того, как тесть столь простовато-чистосердечно изложил свою историю о несостоявшейся дачной купли-продажи и еще оттого, что не испытывал особых отношений к нему. У него даже явилось ощущение словно он невзначай подслушал чужой разговор, не предназначавшийся для его ушей, и поэтому чувствовал себя неловко.
Однако Антон и не был бы сами собой, если бы впал тут в благородные эмоции и дело отложил до удобных времен. Он вынужденно находил контакт с тестем и тещей, потому что они ни во что не ставили дочь, а к нему все-таки прислушивались и считались с ним, как с равным.
Едва Павел Игнатьевич излился и успокоился, Антон сказал:
– Что ж, пожелаю вам терпения и настойчивости; чтоб посчастливилось, дерзайте на этом попроще. А иначе будет шах и мат.
Тот заулыбался:
– Да, только бы не нахомутать. Тогда себе будет дороже. Главное, я наладил сейчас контакт со своим организмом. Спокоен. Понимаю лучше его. У меня с желудком как, стоит простокваша, компот – не тянет на еду. Вдруг среди ночи чувствую: сосет! Вскакиваю – все подряд мету, только сначала обязательно стакан простокваши выпью (а простокваша своя, натуральная), и творог такой хороший – совхозный (базарный тоже никуда не годен, так как с молока прежде сливки снимут, чем дать ему скиснуть). А тут, значит, все проверенное, качественное. Как мне объяснили медики, это действует грибок, который в желудке заводится. Так что, поверьте, если мне не поесть вовремя, прямо зверею на жену, обругать могу за то, что меня не понимает. С этой точки зрения мне понятны и мучения пьяниц законченных. У них же алкоголь сразу впитывается в кровь. В нем сахар есть, идет напрямую, и организм того требует. Я как-то слышал – говорят: «Мужик-дояр». Он, значит, нашел себе свое место. Хорошо. А у другого ничего не получается. Сплошные неудачи. Оттого запил. Заполняет пустоту в душе. Придет пьяный домой, а тут где бы понять его трагедию и по-умному поступить, начинают его еще пилить. А нервы у него напряжены он, естественно, срывается, как и я… Не умею контролировать себя и жить по девизу, как одна наша сотрудница продекламировала мне: «Молчи, молись и работай!» – южноамериканское изречение. Хотя я еще не оформозонился совсем.





