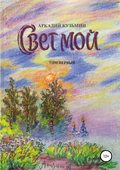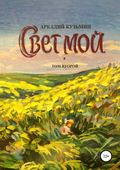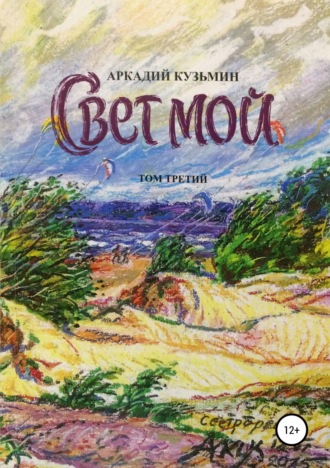
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
– Польщен. Годится. Зайдем в этот дом. – Он так тоже устал и проголодался: они не ели-то полный день. У него уже даже челюсти не разжимались оттого.
Шумели беспокойно деревья, когда налетали порывы ветра. Ветер подымал с дороги пыль и сухую траву, облака редкие белыми рядами неслись над пожелтевшей сухой землей. В кустах шныряли редкие птички.
Как водится в сельской местности вечерней порой заревой в воздухе стрижи, ласточки носились, стрекотали кузнечики. Это теперь увидали, почувствовали Рыжков и Махалов. Они, не выискивая лучшего дома для своего временного пристанища, прошли по дорожке к первой же хате – вдоль свесившихся на газонах разнообразных высоких и низкорослых цветов, виноградных кустов, и такой душистой распустившейся мяты и оказались на пестром порожке избранной ими хаты, из которой им навстречу вышла сама молодая хозяйка в цветастой кофте и юбке. Она была чернявая, как цыганка.
– Здравствуйте! Мы с матросом заночуем у Вас, – сказал властолюбиво лейтенант, заглядываясь на нее, что было не по себе Косте: его при виде ее в этих красочных полосках сразу пронизало такое чувство, что он будто чем-то с нею связан, что будто именно все, что он делал сегодня и привело его несомненно на встречу с ней. В это он легко поверил!
– Хорошо? – сказал мягче лейтенант.
Она не ответила. Лишь смущенно посторонилась, впуская в свою хату чужих воинственных пришельцев, перечить которым было рискованно. Это она очень понимала – было видно по ней.
– Вас как зовут? – спросил опять, входя в хату, Рыжков.
– Оксана, – назвалась она тихо.
– А наши имена – Андрей и вот Костя. Мы только одну ночь пробудем.
В светелке она показала на вторую заправленную кровать, стоявшую, что и другая, вдоль стены. Между ними стояла детская кроватка со спящим в ней ребенком.
– Ничего, ляжем валетами, – сказал Рыжков, – коли места маловато будет: – И явно влюбленными глазами повел на хозяйку, отчего она несомненно смутилась. – Искать чего-то лучшего больше не станем. Точка. Давай, Костя, пока перекусим что-нибудь. Чайку бы нам погреть, а, хозяюшка…
В хате были пробеленные некогда мелом стены, стояли комод, шкафчик, некое подобие трюмо и пара общипанных стульев, а в светелке, Костя успел заметить, на тоже пробеленной лежанке, на ее застеленной спинке, сидела, как живая, протягивая вперед руки, разряженная кукла. Не стенках висела некая картинка, написанная масляными – отсвечивающими красками и несколько фотографий.
Оксана молчаливо зажгла спичкой примус, стоявший на печном поде, перед темной заслонкой, вскипятила в чайнике воду, заварила в фарфоровом чайничке мяту для постояльцев и ушла. А Рыжков и Махалов вскрыли банку мясных консервов, разрезали несколько припасенных огурцов и этим поужинали и попили чай вприкуску с хлебом, оказавшимся у них. Об Оксане они ничего не говорили, как скрытые заговорщики. Но каждый из них чувствовал, что она каждому из них понравилась, что было даже как-то неприлично, верней неразумно. Очень-очень. Ведь кому-то из них она несомненно нравилась больше, чем другому. И он имел большее право любить.
Вне всякого сомнения, наиболее достойным ее внимания Костя почему-то считал себя, как наиболее молодого и также открытого для выражения своих эмоций.
С такой мыслью он и улегся валетом на скрипучую на пружинах постель, не к стене, а с того края, пусть и головой к лежанке, – что было ближе к той кровати, на которой лежала-спала Оксана. Улегся как охраняющий ее покой. Как рулевой, отвечающий за ее спокойствие.
Черная южная ночь смыкала глаза. Слышно скреблась, попискивала где-то мышь. Уж посапывал ровно лейтенант. Где-то вдали стрельнули раз-другой, и все успокоилось вновь. А вскоре все куда-то ухнуло. Погрузилось в беспредельность. И открылся иной мир. Но тоже осязаемый.
И вдруг явилась эта Дуняша. Как ни в чем не бывало.
Костя вчера же, перед началом форсирования лимана, только вышел от лейтенанта из хаты на упругий воздух, после того как перешагнул порог и только поднял перед собой свои зеленоватые нахальные глаза, сразу же с некоторой неожиданностью увидал прямо перед собой мило, даже весело разговаривавших стоя ротного майора Рахимова и новенькую батальонную санинструктора, бывшую в гимнастерке, Дикову, знавшую себе цену. Машу Дикову. Она-то мало кого подпускала близко к себе, хотя не была красавицей, но какой-то особой, стильной. Костя несколько раз пытался, но так и не смог даже заговорить с ней. Лишь критично думал всякий раз о себе: «Рохля такой! Рохля и все!»
А тут какая-то странность в ее поведении: вот он взглянул продолжительным изучающим взглядом в ее веселые глаза – приятно было смотреть! – и они-то глядели на него притягательно, позволяюще, и он удивился сразу, главное, тому, что увидел в них какое-то ее влечение к нему. Очень сему удивился и обрадовался столь, что и вздохнул глубоко, что почувствовал сам, и побоялся, что это услышит спавший лейтенант. Тот посапывал на постели рядом.
Вместе с тем кот пушистый с голубыми глазами лейтенанта пытался ухватить его за ногу раз-другой, только Костя шагнул к Маше, бывшей вроде бы в легком развивающемся на ее теле платье и как бы уклонявшейся от него, словно лишь заигрывая так, говоря несусветное:
– Нет-нет, я не твоя невеста! Не трогай меня! – И еще пальчиком зажимала ему рот для того, чтобы он ничего ей не говорил, либо говорил еще потише, чтобы никто не слышал.
Она убегала по солнечной песчаной дюне, какие бывают в Крыму, от него. А он ее ловил, касался ее тела и произносил какие-то ласковые слова, какие находились у него лишь для нее, чему и тут же удивлялся. А главное: своей такой наглости.
Но вот Костя услыхал совсем непонятные девичьи слова:
– Нельзя, дочка малая у меня. Мой муж – румынский офицер.
– И пускай себе офицер, не бойся меня… – еще говорил он, по-настоящему теперь проснувшись, ласкаясь, однако, к его изумлению, к Оксане среди ночи, сидя у нее в ногах в ее постели, куда он не помнил, как попал. – Ну, что тебе, Ксанушка, стоит дать поцеловать себя, если я люблю тебя действительно, поверь, только увидал тебя. – Его все сильней забирало это желание поцеловать ее, больше ничего. – Это ведь впервые для меня, прошу.
– Нет, не гоже, уйдите, – говорила она.
А в нем какой-то неукротимый бес взыграл с этим желанием, и он еще сильней упрашивал ее (он хотел это сделать лишь с ее согласия, умерял в себе мужскую силу). Подавлял в себе неудержимость, страсть. Он просил ее об этом, как о хлебе насущном. Как будто этого у него уже никогда не будет. Она же неуклонно отклоняла его просьбу.
И это его сумасшествие забирало его, подчиняло властно, колотило в душе.
Тут-то и Рыжков, вздохнув, тоже сел в постели, как приговоренный. Ждал.
– Ты извини, командир, – только сказал ему Махалов. – Ты покамест полежи. Не мешай, не о тебе пока речь у нас. Извини.
– Изволь, парень, ты живой, – толковал некто в голове Махалова. – Домогался любви прекрасной девушки, отказавшей тебе. А сколько твоих товарищей только что погибло – ты не считал, забыл про это?.. Как нехорошо… Отцепляйся от своей настырности…
И Костя в потемках скользнул в постель и снова лег. Как в обморочном сне.
– Я десяток лет с женою жил и только теперь понял, как надо женщину любить, – говорил Ванов, шагая с Махаловым вдоль села утром. Прихрамывая. – Да надо ей ноги целовать. Это я потому так говорю, что я уже старик по сравнению с вами, молодежью.
– Ну, старик, – возразил Костя, – да самый возраст Христа: тридцать три года. Правда, выглядишь ты хуже, чем Христос после распятья. – Он всегда много читал и знал – мог цитировать по памяти отрывки из Генри, Швейка и других писателей. – Между прочим даже рыцари в пятнадцатом веке на душках шпор делали – выбивали надпись: «помни обо мне, моя дорогая, моя верная жена!». А твою-то ногу подлечили?
– Малость. Дикова дала растирание… А надпись та пречудесная…
Костя же сам с собою рассуждал, покидая это село:
«Удивительно, что недоволен тем, чем невозможно не быть недовольным; волнуешься за что-то, борешься с самим с собой, страдаешь; а потом вдруг через это твоему сознанию сообщается какое-то упрямо радостное движение куда-то, и ты на мгновение успокаиваешься, оглядываешься с некоторым самозазнайством на предыдущее переживание. И затем опять и опять возникает противоположное чувство. И людские утраты сердце жгут».
Настроенный теперь на такой рассудительно-философский лад, Костя не сразу расслышал, а главное понял, что его окликнул раз, другой мелодичный женский голос: действительно кто-то догонял именно его, запыхавшись, мягко шлепая в обувке по сельской улице. Еще не смея верить, он оглянулся и остановился, удивленный: к нему спешила молодайка, раскрасневшаяся и оживленная. В белом расписном тканом платье, украшавшем ее прямо-таки божественно. Это была Оксана.
– Что? – проговорил он почти с неудовольствием, но малость стесняясь; поскольку это происходило на виду всего села и солдатни, но она увидела, как озарился его взгляд при виде ее. – Ну что? – сказал он уже нежнее, тоном совсем повзрослевшего мужчины.
Она минуточку помедлила молча, глядя изучающе ему в глаза, точно стараясь запомнить их выражение в этот миг. Потом протянула нежно к нему загорелую маленькую ручку и разжала живые розоватые пальцы:
– Вот ты забыл. Возьми. – На ее ладошке лежал знакомо черный немецкий браунинг, подаренный ему Рыжковым, спина которого маячила впереди.
Костя проверил себя: да, автомат был при нем, а браунинга не было (он вчера положил его в спальне на подоконник, рядом с двумя розовевшими двумя цветками вьющейся петуньи в горшках), – ему было еще непривычно его хранить в сохранности. Только этим можно было объяснить случившуюся с ним промашку.
– Если хочешь, приходи сегодня вечером, – сказала, дрожа голосом, Оксана.
– Я никогда уже не смогу зайти к тебе, – ответил ей Костя. – Фронт, бои – я должен дальше шагать… – Он быстро взглянул на удалявшихся лейтенанта и Вихова. – Ты понимаешь?
– Я понимаю все… – Она теребила платье.
– Да не тужи. Я словно переродился, увидав тебя…
Она повела головой:
– Да, солнышко опять нам светит.
Сейчас при дневном свете он разглядел ее внимательней и увидел, насколько она хороша, мила, молода и что-то похожее в ней было с той, которую он знал несколько лет назад, но так и не успел поговорить с ней, как хотел.
– Я родился… – Он даже взял ее за руку. И вдруг почти вскрикнул с недоумением: – Послушай, а какой нынче день?
– Как какой? Обычный…
– Нет, число. – У него изменился голос.
– Какое? Двадцать второе августа… А что? – поинтересовалась она.
– Да у меня сегодня ведь день рождения! Вот что! Ну дурак! Счастливо тебе! – И он стал догонять своих ребят.
И так он с нею разошелся.
Это событие впоследствии всегда волновало Махалова, как нечто чистое, возвышенное, к чему он прикоснулся в своей юности, и осталось у него чудное воспоминание об этой молодой женщине. Как молитва.
IX
Позже попросту и Генка Ивашев, молоденький фронтовик однорукий, поведал ему и Антону Кашину, ставшими его друзьями, о своем участии в сражениях под родным Ленинградом. Они упросили его об этом, компанействуя с ним за столом; о чем они, к стыду своему, ничего толком еще не знали.
– У-у, гады настырные! – тотчас же возроптал он. – Зайка, они интервью у меня берут! Ты, Зайка, только дай мне папироску, – попросил он у жены, курящей особы. – Я-то все равно не закурю… Обещаю… Лишь подержу сигарету в зубах: бывалость изображу…
– Ты, Генка, просто расскажи нам – хотим знать – о твоей юношеской одиссеи военной, – сказал Махалов. И Антон послушает, что-нибудь запишет, коли хочет все узнать.
– Ну, лихо начало… – сказал Ивашев. – Валяйте…
– А недавно Иван Адамов, армейский связист, рассказал нам о том, как он на фронте под Ленинградом обеспечивал связь.
– Вы, други, и его уже достали? Ну, компашка заядлая!..
– Есть лишь взаимный интерес к истории. У нас она сходная все-таки.
– Салаги, таки жизнь происходит следующим – вам отчасти знакомым – но непонятным образом. Все проще простого, старина.
– Ты попал в армию в сорок первом году, хотя был помоложе меня?
– Нет. Мой братишка был призван в начале… Сорок первый год…
– Он, что, был старше тебя? – уточнил Махалов.
– Да, он попал из Астрахани. В ноябре сорок первого. Он как раз оказался в Ленинграде. Не навру никак. Тогда был, помню, первый снег. Побелели улицы.
– Ну, дальше.
– Я работал на заводе. Это – в переулке Фокина.
– Там раньше был военкомат?
– Не наблюдал, однако. Почему я там, старина, очутился – на этом заводишке? Между прочим, старина, там делали мины и снаряды. Я чему удивляюсь: эти дурачки почему-то бомбили мост, а бомбы попадали в этот берег.
Между прочим тут я за прогул получил первый выговор. Вот запомнилось что.
– Похожее было и у нас, – сказал Махалов.
– Буквально в начале декабря сорок первого света на Петроградской стороне не было, ты, наверное, знаешь. Нет, пардон, был. Что-то ползало по Кировскому проспекту. В декабре же на Ленфронте застрял наш знаменитый кавалеристский корпус. Чем-то нужно было кормить лошадей. Прорву их. И бросили населению клич: нужен срочно фураж! Нас, мальчишескую мелюзгу, послали под Ленинград на торфоразработки. Мы торф мололи и делали на дуранде комбикорм. Тогда-то я увидел наглядно, что блокадные люди рядом уже начинают умирать.
Оттуда, мы с торфоразработок, когда нас отпустили, вышли к Новой Деревне.
– В Новой Деревне базировались наши тяжелые бомбардировщики, которые бомбили Берлин, – знающе вставил Костя.
– Тогда, в сорок первом я еще ходил на кинокартину – не помню какую, – сказал Костя мрачно.
– Наверное, «Свинарка и пастух». Еще все смеялись на ней…
– Да, ходил в семь тридцать, когда немцы начали бомбить. Так вот, понимаешь, я вышел в Новой Деревне влево на Строгов мост. Споткнулся – и упал до того был слаб. Кто-то близко от меня шел. И слышу, помню, женский голос:
– Вот мужчина умер. – Спокойный голос был.
Думаю: «ничего себе! Уже мужчиной стал!» Все-таки поднялся. Сумел. Пошел по Кировскому. Дома, окна забиты фанерой. Мать тут потеряла продовольственные карточки…
Так вот скажу, ребята: отец наш умер двадцать пятого января сорок второго. У нас – мамы и меня – с ним были странные отношения. Он пил по-черному. Как его в тридцать седьмом не замели, не знаю. Ведь он пришел тогда в райком партии и спокойно положил партбилет на стол, и все.
А встал я на ноги лишь третьего мая, помню.
– Что ж ты ел?
– Не знаю. Но я чудом встал. Первым делом на работу пришел.
– Тогда тебе было шестнадцать – семнадцать?
– Нет, восемнадцать. Я, значит, выбрел помаленьку к Савушке – саду Дзержинского. Затем побрел к стадиону. И здесь встретил Юрку Строгова – он уже в сорок первом вернулся с фронта инвалидом. И вот на этот завод, знакомый Юрке, я загудел в качестве слесаря – водопроводчика, да.
– Черт, возьми! – неподдельно воскликнула тут с некоторым возмущением Зоя. – А у нас в доме некому починить краны…
– Ну, голубушка, какой я теперь слесарь-токарь! – возразил только Ивашев. – Не суди!
Месяца три я там прокрутился – тут-то мы очухались немножко, но наступил такой период, когда женщины стали чувствовать себя хуже, чем мужчины. Это лето сорок второго года. И вдруг приходит мне повестка. Меня, наконец, призвали. Казармы наши были на проспекте Карла Маркса. А отправили нас, ребятишек, большой группой на Военно-Морской музей. Каждый день там проходила муштра нас. Нас обтесывали. Мы ходили ежедневно на Охту. И там мне выдавали пулемет, и вот под песню «Плыли три дощечки…» мы вышагивали строем доходяг туда-сюда. Многие километры. Прошло три месяца. Я начал уже двигать сносно ногами. По команде. И тут такая вышла хохма: нас выстраивают на плацу, возглашают: «Кто может общаться с лошадьми? Выйти из строя!» Я сделал два шага вперед, вышел из строя. Сам не знаю, почему. Буквально через десять дней я был уже в самом корпусе у знаменитого Доватора. Как и другие ребята-храбрецы. Был октябрь сорок второго. Юго-западный фронт. Ростов.
– Ничего себе! Как ты попал туда?
– Во-первых, дорожка из Питера уже была открыта. Мимо Мги. Москва-Бутырская. Ночью прорывались под бомбежкой, под обстрелом. В одном километре от полотна дороги немцы сидели. Ты из теплушки видел что-нибудь? Первые наши прошли, но забыли в тылу одну армию немецкую (33 тысячи человек). Под Красным селом. Когда наши отрапортовали, что взяли Красное село, так вот эти немцы попытались взять эти пушки и палить в спину нам. Как я выбрался здесь – ума не приложу.
Каждый взвод имел 8 станковых и 4 ручных пулеметов. Взвод противотанковых ружей. Каждая рота имела батарею. И минометный взвод – и все это на плечах бойцов. Так называемые батальоны прорыва.
– Ты знаешь, что такое станковый пулемет?
– Знаю: четыре человека.
– Там я что обнаружил?
– Бабу?
– Нет, немецкие дзоты, чтобы остановить нас, атакующих. Потом я нашел картошку – доты. Просидели дней пять. Вдруг: надо брать! Нас выстроили и начинают смотреть как на карикатуры Кукрыниксов. Вся Кубань кочует. Все на колесах. Абсолютно умрешь: нас осматривал Доватор. В бурке. Сотня за ним. Герцы, сейчас не соврать: плисовые красные штаны…
– Откуда взяли таких доходяг? – вопросил строго Доватор.
И нас пустили ухаживать за лошадью сзади. Хохот стоял раскатистый. Лошадь нас не слушается. Через три дня после прибытия нас туда Доватора на куски разорвало.
Были сибиряки на лошадках. Маленьких, черненьких, хорошеньких, послушных. Все прилажено, как следует.
А мы новобранцы, новоиспеченные казаки смотрелись как динозавры какие – даже разведка однажды было приняла нас на одном хуторе за недобитых немцев.
Да, значит, видит командование, что из нас не получились казаки. И вскоре в их числе я оказался в декабре сорок второго участником прорыва блокады Ленинграда.
– Как ты оказался опять здесь?
– Не помню. Нас везли в Ленинград дней пятнадцать. Да, пятнадцать. Поезд наш немцы бомбили нещадно. И вот оказался я под Невской Дубровкой. На нашем хорошем берегу. Потом прошел переформирование. Нас готовили к лету сорок третьего года на Синявинские высоты.
– Они действительно высокие?
– Сорок шесть метров. Потому что вокруг болота. Гать. Мы вылезли от Дубровки – зольная сопка. Зола сделала сопку. Ну, взяли мы все эти поселки. Но это не самое интересное. Для того, чтобы взять высотки, надо пройти пять километров или – по гати. Там любое дерьмо уходило в болото и рвало со страшной силой. Двадцать третьего пришла техника – два танка. Немцы их подбили. И они загородили нам дорогу. Тогда мы применили ствольные минометы. Подошли к сопкам. Без поддержки артиллерии. Немцы катали на нас гранаты. Итак, стало быть, время для атаки было выбрано не подходящее: ведь болота вернуть – не шутка…
И взяли-таки их, синявинские, – ходили по трупам. Они всплыли летом. Вот там – не могу себе простить – там мы обстреляли штрафную роту… ночью сидим – не укрепиться, ничего…
– А как они, немцы, сидели?
– На них же ничего мокрого не было. Ночью сплошные ракеты пускали. И вот видим: какой-то народ шевелится, и мы палили, благо патроны были. Немцы в тот момент испугались прорыва в Пулково. Стали отсюда снимать туда военные силы.
До Пулково отсюда примерно восемьдесят километров.
Немцы уже почти не стреляли по нам. Их мало здесь осталось. По одному стрелку у пулемета в дзоте.
Вот тогда при плюс пяти градусах я отморозил ноги и попал в полковой госпиталь. Когда я пришел в часть (в конце января), мне и говорят, что я пришел в валенках. У этой Вороньей горы…
Вдруг поступает приказ: надо брать Кингисепп. И все это время мы в валенках. Ноги в них не просыхали.
Да, Антон, подожди, старина, попутно в борьбе с немецкой группировкой спасли штаб маршала Говорова – буквально на руках спасали штабистов. Брали Вермарн – станцию под Кингисеппом, где сходились две важных дороги. Немцы спешно уходили – боялись окружения. А поскольку мы действовали без начальства, то били немцев повсюду и отовсюду, и они, немцы, считали, что их окружают.
Представляете: в Кингисеппе у немцев бал идет: полный свет в большом доме, танцы-шманцы, и мы с автоматами сюда входили… А меж тем в это время под Лугой опять немцы брали то, что мы только что освобождали. В марте же сорок третьего. Ну, мы – снова сюда. С месяц здесь поболтались. К этому времени у меня была полная голова вшей и я во всем немецком был. Встретил нас наш генерал. Изругался. Думал, что мы немцы. А у каждого через плечо автомат или винтовка.
Потом начались самые страшные времена. Наступаем на Нарву. Влево и вправо – болота. А просека немцами пристреляна. И аккуратно кидаются мины. Никто ничего сделать не может. Бойцы – соседи встречают: «Здрасьте! Кто вы? А присоединяйтесь!..» Дальше – завал. За ним немцы. Дней пятнадцать так скитались. Потом походная кухня. Выходим к Нарве наконец. Нас осталось в роте человек тридцать. Нарва – река шириной с Малую Невку. Забрана она льдом. Мы, бойцы, все, как полагается, окопались, зарылись. Сидим. Я прислонился спиной, как начальник, к сосне. Вдруг шум.
Два «тигра» на меня прямиком ползут. Слепят взрывы, падают деревья, ветки. И что-то еще. Не очень-то страшно. Но едва высунулся в видимое пространство знакомый боец – армянин – и нет его. Наповал убит. Нарва-река слева от нашего расположения. Каждый вечер начинается иллюминация над городом: продолжается бомбежка. Понавешены ракеты. В свете хорошо видны всякие постройки, хрупкие церквушки. И к нам относит осветительные ракеты, и нас же периодически бомбят наши бомбовозы. Случается, всю ночь. Наше пристанище все в воронках поизрыто. И сосны поиссечены.
Город, значит, правее. Кстати, и я, наступая, все время норовил правее взять. Когда форсирование Нарвы началось, я был удивлен тем, что нас никто не обстрелял сразу; оказалось, смысл отражения нашей атаки у немцев был такой: нас не трогать в передних линиях, а отсечь (у них все было пристреляно) от нашего берега фланговым огнем. Вот когда мы вошли в первые траншеи, они стали нас резать с флангов. Мы не могли находиться в траншеях, вскакивали на брустверы; они крыли, садили по нам из минометов – устроили нам Варфоломеевскую ночь. В буквальном смысле. Тут-то и автомат оказался (было такое ощущение) бесполезной, голой игрушкой.
Мы гранатами отбивались. Я только хотел подорвать дот – меня взрывом оглушило. Это – не моим. Я сообразил. И меня легонько перебросило через всю эту бандуру дота: сюда попал снаряд. Валяюсь и вижу небо, славян, которые болтаются туда-сюда. И вдруг откуда-то сандружинница явилась, примотала на мне все, что нужно, сделала куклу и перетащила меня на наш берег. Подвиг совершила. Ведь в течение нескольких дней наши пытались вырваться из окружения, кричали, но никто не смог вырваться. А немцы и лед взрывами покрошили, чтобы уже никто не прошел.
Каким-то чудом потом сюда подошел батальон нашей части. Я пролежал спиной на снегу дней десять. Мне давали спирт, вернее просто вливали в горло. Кто? Сандружинницы и те, кто не пошел на тот берег. Я был нетранспортабелен. Неожиданно обнаруживается здесь ни с того ни с сего появление взвода ПТУ (снабжение). Его начальник, Сашка Михайлов, организовал повозку, меня погрузили на нее; Сашка провожал меня, влил в меня, наверное, пол-литра спирта. Меня уж так кидало в повозке по камням и ухабам дорожным. Когда довезли меня в госпиталь, я был в лучшем виде. Таком, что по моему прибытию сюда, все медсестры побросали всех раненых и – ко мне. Когда я уснул, я досчитал до девяносто восьми в уме, но слышал очень хорошо, как ампутировали мне руку, как с глухим звуком она, точно неживая, упала в таз. Это было в апреле сорок четвертого. И после этого мне делали еще семь операций. Газовая гангрена – самое страшное. И страшное – двадцать восемь единиц гемоглобина. Две недели я все-таки пролежал на снегу без всякой помощи и потом, значит, я оказался в госпитале в Сланцах. А оттуда меня перенаправили транспортом в Александро-Невскую Лавру. Тем временем знакомые мне ребята написали моей матери (чтобы ее успокоить), что меня послали якобы на курсы офицеров.
В Александро-Невской Лавре я быстренько очухался, все пришло в порядок. Вот однажды прихожу я из самоволки, меня встречает укротительный приказ: явиться на комиссию! Мол, давайте бриться. На комиссии был начальник госпиталя, заведующий отделением, главхирург и еще кто-то. Дали мне третью группу, направили в Петроградский райсобес. А в райсобесе я сказал: вот выписали – инвалидную группу не дали. И тут дали мне сходу вторую группу. Можно жить.
– А ты-то, Антон, как попал в армию? – спросил Ивашев. – Как тебя зацепило? Что – тебя призвали по ошибке? – спросил с недоверием некоторым как будто вот его обошли в этом отношении, и было ему обидно.
– Тогда, весной сорок третьего, после оккупации Ржева, я просто оказался на пути славных бойцов, – сказал Кашин. – Некоторые видят в этом как какое-то шутовство – даже с какой-то обидой и неверием, что вот в этом-то я будто обошел до обидного их, – государство вроде бы сплоховало для них.
– Ты о вере полегче высказывайся тут. Вот она – верующая у нас… Очень…
– Да, у меня иконка есть, – подтвердила при сем разговоре присутствовавшая дама, Елена Усачева, знакомая Зои Ивашовой. – От матери. Третьего века. И я молюсь. Мой сын в Афганистане воевал. Так он, мальчишка, писал мне: «Мама, молись за нас. Сидим в земле. Никто нас не спасет…» И они молились. И я. Я все-таки мать… Все чувствовала. Мой внук все метет. Никому и ничему не верит, как верили мы – были патриотами…
– Ну, если первый президент наш, партийный босс, предал Россию, как самый ярый диссидент – это ж такой удручительный пример… А молодые сейчас раскованные – без руля и ветрил. Сын работал в фирме иностранной. Уволили. Она лопнула – теперь без работы и помощи. Никому не нужен.
– Да, молодым сейчас тяжело.
– И в блокадное время были мерзости…
Х
На углу Гороховой и Дзержинской улиц Ленинграда стоял шестиэтажный дом, в котором жила семья – на третьем этаже – Лены Усачевой. При воспоминании ей, трехлетней, ярче всего запомнилось видение из окна страшного наводнения, случившегося в 1924 года, – когда было не видно даже ориентира Фонтанки – просто в небывалом водном разливе среди улиц даже плавали гробы среди всякого хлама. Знающие люди говорили, что это – факт! – размыло Митрофановское кладбище: оттуда они и приплыли. В царское время, в 1904 году, здесь разрушился Египетский мост, перекинутый через Фонтанку, и потом был построен временный деревянный в шашечках (как был вымощен – в деревянных шашечках – одно время и Невский проспект). Вот похожий водоворот, казалось ей, испытывал и ее потом в жизни.
Лена училась в бывшей немецкой школе, имевшей великолепные малый и большой спортивные залы. В первых классах тогда училось по 40 учащихся. В школе кормили ребят обедами. Вторыми блюдами – в обязательном порядке. Бесплатно для малоимущих ребятишек. С учебниками, однако, было накладно: их выдавали ученикам на руки на учебный год, а по окончании его их следовало сдать обратно. Тетрадки тоже выдавали в первых классах. Обучение шло совместное. Математика Лене давалась плохо, а вот русский язык и остальные предметы она усваивала хорошо. На театральные представления они, ребята, чаще всего ходили в ТЮЗ. Билет стоил один рубль десять копеек.
Дирекция школы редко вызывала родителей провинившихся учеников: учителя самостоятельно улаживали возникавшие проблемы – они были достойные, знающие. Половину их составляли мужчины. Например, математика школьники не любили и прозвали его «козлом». А физику преподавал отличнейший учитель, и Лена у него занималась прилежно, с интересом даже. (Куда-то потом ушло, она не знает.)
До революции отец Лены работал подрядчиком строительных работ и по-честному рассчитался со всеми рабочими. Однако кто-то из клеветников показал в органах госбезопасности, что у него наверняка есть золото, и в 1934 году его посадили на полтора месяца в тюрьму и допрашивали по этому поводу, прежде чем снова выпустили. Все обошлось. Только он, как человек предприимчивый и бухгалтер знающий, расчетливый, в 1936 году завербовался на Колыму. В Магадан. (Бухта Нагаева – говорили так) стало быть, пускай, погнался «за длинным рублем» – северным; известно: прибавка к зарплате северянам была приличной. Это многих работающих устраивало. Золотые прииски находились в 500 км от Нагаево. Здесь, среди сопок, фактически одновременно длились лето и зима – почти без сезонных температурных переходов, Лена почувствовала это сразу по приезде сюда; здесь, между сопок, и не было такого злого докучавшего ветра, как вне их.
В Магадане Усачевы втроем – отец и приехавшие жена Елизавета и дочь Лена – пробыли полные два года, тогда как отец дорабатывал еще год по контракту. А доработав его, он завербовался еще на три года. И уже Лена с матерью не успели приехать к нему; а приехав опять в мерзлоту, жили уже в Оротукане еще два года, в течение которых Лена закончила в школе 9 и 10 классы. Она вполне освоилась здесь, на севере. Каталась на санках, на лыжах. На сопках кучилась мелкая растительность. Росла в обилии брусника – созревала крупная, как клюква; если лечь среди ее кустов на живот – возникал перед глазами ярко-красный ковер до небес.
Местные старожилы собирали бруснику в бочку и оставляли на морозе без воды; мороз схватывал всю ягоду – и ее сохранность была предопределена на долгие месяцы.
Безусловно в Оротукане культурных развлечений не водилось. В доме пиликало радио – из черной висевшей на стене тарелки. Имелся патефон с пластинками. С романсами Юрьевой, Сульженко. «Самовар и моя мама», «Дядя Вася – хороший и пригожий» и другие песни. Ходили на танцы в тамошний Дом учителя. Танцевали под рояль. Под оркестр танцевать ходила более культурная публика, как она себя представляла. А гитара в этот момент почему-то попала в немилость властьпредержащим и поэтому мало звучала где-нибудь. Ну, демонстрировались еще кинофильмы… Развлекали…
Мать и дочь Усачевы вернулись в две забронированные комнаты в Ленинграде летом 1939 года. Вскоре Лена вышла замуж и на следующий год она родила дочь Дашу. Стояли лютые морозы. В финскую войну. И было затемнение. Воевать ушли ее знакомые парни, которые были старше ее на 2 года. Было печально ей.
Лена засобиралась поступить в театральный институт: намеревалась продолжать учебу. Перед ней был манящий пример: соседка-сверстница Ирка занималась в Ленфильме – в студии киноактера. Да Лена некстати внезапно заболела, и у нее выявили плеврит. Тогда, когда уже началась эта сверхвойна. Из Ленфильмовской студии прислали ей сообщение: «Заберите Ваши вступительные документы!» «Иди на курсы машинистки», – посоветовала ей мать. Но случайно она наткнулась на вывешенное, видно, наспех на желтом звании главного штаба объявление военторга: «Требуются продавцы!» И она пошла сюда. И ее взяли на службу продавцом. На оклад 225 рублей.