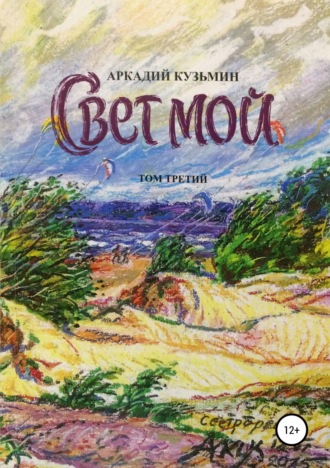
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Настроение было очень гадкое.
XI
С 1 сентября Оля на месяц уехала на педагогическую практику в небольшой городок Новгородской области.
Между ней и Антоном еще не пробегала очередная черная кошка.
Как-то вскоре зазвонил телефон, и ему предложили завтра же прийти по определенному адресу на Литейном проспекте. Нужно взять с собой паспорт и обратиться в бюро пропусков. Поначалу он, было, обрадовался, так как подумал, что позвонил ему некий заинтересованный адресат, поскольку он эти дни названивал повсюду и предлагал свои художнические услуги. Да вдруг сообразил: стоп! стоп! Это же – на Литейном заведение! Черт возьми: ему позвонили из Большого Дома! Туда приглашают! Не хило!
Назавтра утром он, получив пропуск в одном сером укороченном здании и пройдя самолично (без сопровождения милиционеров) в другом сером глыбистом здании, поднялся по лестнице и дошел до кабинета следователя. Постучав, вошел внутрь. Тот, предупрежденный, уже ждал его; стол стоял в углу кабинета – перед окном. За ним и сидел причесанный и приглаженный, в цивильном костюме нормального вида молодой человек, и Антон как-то так сразу почувствовал себя будто наравне с ним и то, что с ним можно просто разговаривать, будто со знакомым товарищем. Никакой вроде бы разницы.
Следователь сообщил ему, что он вызван на допрос.
– По какому поводу? – спросил Антон.
– Итак, Вы Пошутина знали?
– Да, служили мы вместе в Первом Флотском экипаже. В одной роте. Но это же давно было. А что с ним такое? Ведь он в Армавире живет.
– Я потом скажу. Итак, расскажите, какой он был, как человек…
– Да, знаете, если бы все люди были бы такими же честными и порядочными, то много легче было бы всем жить на земле, – сказал Антон с горячностью даже, чему удивился сам.
– Как вел он себя при разговорах, в общении со всеми?..
– Не пьянствовал, не философствовал, не развратничал…
Уже по завершению допроса следователь сообщил Антону, что на Пошутина поступил сигнал и запрос из Днепропетровска: он там, в институте, как-то нелестно отозвался о комсомоле, отказавшись участвовать в субботнике.
«И только-то?! Из-за этого весь сыр-бор?! Отрывают, как меня, всех от дел и допрашивают под гребенку, чтобы поймать малюсенькую рыбку…» – подумал Кашин в удивлении.
И после того как он прочел составленный протокол его дознания и попросил исправить две явные стилистические ошибки в нем и подписал его, спросил:
– Что, и это почитываете? – и показал на лежавшую на тумбе свежевыпущенную книгу Дубинцева «Не хлебом единым?», которую сам уже прочел.
– Ну, приходится.
– Как находите? Интересна?
Следователь лишь пожал плечами.
Пошутин звал Кашина погостить в Армавир. Но он, хотя хотел к тому съездить и собирался, но пока не смог. И сожалел.
Спустя месяц у Антона был обманувший счастьем глупый день: Оля вернулась с практики – здоровая, веселая. Казалось, и любовь к нему вернулась – не было сомнения в том.
Да внезапно – как протрезвление: наступило опять охлаждение между ними. Антон видел ясно, чувствовал: она не хотела ни любви, ни близости его. Была сама по себе. Зашорилась.
По-прежнему он посещал вечерние занятия в институте, слушал лекции, писал контрольные работы и готовился к экзаменам. И приезжал в одну типографию, что находилась в подвалах здания, стоявшего на Фонтанке, – приезжал к одной знакомой – толстушке Тосе, которая давала ему на прочтения некие гранки для правки их и которая никак не знала, как его приручить к себе, это было ему видно. Из-за этого он потом оставил эту затею корректировать здесь. И с писанием у него ничего не клеилось, он все переделывал и переписывал – всякие фразы, их грамотное построение по многу-многу раз; и мало что складывалось стройно, что его не устраивало, раздражало даже.
Оттого настроение у него было прескверное.
Он даже считал, что великие Софоклы и Мольеры потому разочаровывают нас своей величиной, что ныне люди ищут в литературных произведениях полного соответствия себе в описаниях оскудевших характеров. Потому сегодняшние писатели и не могут по мастерству дотянуться до уровня тех мастеров.
– Антон Васильевич, приезжайте, – сказал в рабочий пасмурный день позвонивший голос в трубке. – На Вашу рукопись пришла очень толковая рецензия. Жду.
– Ну, спасибо Олег Матвеевич, что известили меня. – В сердце Антона редакторская бодрость, разумеется, вызвала одну опустошенность: то не обмануло его тонкий слух, обостренный с годами настоящей, можно сказать (не обманной), прозой жизни. Он знал ей цену. Да вот окаянно слетела с его губ вежливость.
– Я ведь сразу Вам обещал, – обиженно – строго заметил голос в трубке.
Так что в среду Антон с чувством некой вины предстал в кабинете перед еще нестарым и ладным собой редактором. Тот уверенно, сидя за столом, писал что-то на листке и тотчас, ясно взглянув на вошедшего, честно признался:
– А-а, Кашин? Вы уже?.. А я вот покамест не успел для Вас…
– Что, отписать?.. – боднулся Антон. – Мне – выйти, подождать?..
– Зачем? Садитесь, коль пришли. Одним духом допишу. А потом вы ознакомитесь с этим… Шесть страниц для вас написал член редколлегии Лешкин, наш талантливый товарищ, хотя он и очень молод. – И протянул севшему на стул Кашину рецензию.
Да, был Олег Матвеевич обезоруживающе открыт, нормален, с чистым, видно, помыслами и расположением – настолько, что хотелось отсюда сбежать без оглядки. Вместе с тем Кашин хотел понять скрытый смысл чего-то непонятно происходящего, особенно после прочтения отзыва.
Признался откровенно, вслух:
– Не знаю, мне смеяться или плакать?.. Почему же не имеющий никакого понятия о событиях военных лет талант да вольно судит о них? Подрабатывает на таких рецензиях? Потому-то у него, рецензента, бесконечные «сомнительно», и только…
– Лешкин – прозаик, не рецензент, – назидательно поправил редактор.
– Тем более. Для него сомнительно, что юный герой воевал, когда была жива мать; сомнительно, что после немецкой оккупации женщины и дети вручную вскапывали землю, чтобы ее засеять рожью. Что большой семье фронтовика построили избу вместо сожженной. Что мальчик не отупел от голода. Что в рассказах – малый процент убитых. Что эйфоричен один пейзажный отрывок – такого еще не читал в книгах о войне. И – как следствие: в прозе нет правдивости. Что за выверты?
– Не обращайте вы внимание, – доверительней, однако, заговорил Олег Матвеевич. – Он попросту еще неопытен, метет все подряд. Теперь же одни говорят одно, другие – другое. И поди, разберись тут… Не гений ведь…
– Но это же именно моя судьба. Через все это я прошел… И как же не обращать внимания, если поэтому и вы написали мне отказ.
– Я иначе все сформулировал.
– А вы сами-то прочли мою рукопись?
– Да, просмотрел сперва. Правда, по диагонали. Большая… – Олег Матвеевич не был нисколько смущен, скорее равнодушен, лишь досадовал маленько: – Свалили, понимаете, на меня этот неплановый «самотек» – ничего не успеваешь… Да болячки еще прихватывают…
– Кстати скажу: на это мне в журнале дали совсем иной отзыв. Хоть и двухстраничный, но по существу. Написал его Н. – Кашин назвал фамилию известного среди писателей писателя.
– Знаю, уважаю его. Он – опытный, умница. Польстил вам, если рукопись вернули…
– Нет, одну часть оставили там в очереди…
– Видите, все равно не проскочили сразу. Я не злорадствую. А мы – не успокоители. Не льстим никому. Правда всякому видна. Если ошибемся нечаянно, – нас поправят. Над нами тоже стоят люди. У нас марка. Сыздавна мы выпускаем книги зрелые. Они на полках будут стоять века, не то, что журнальные и газетные публикации – однодневки. Прочитал – и в макулатуру. Тю-тю!..
– Да разве все плановые рукописи – настоящее, для души? – вырвалось у Кашина, который однажды услышал признание одного редактора о том, что он уж три года гонит лишь серый суррогат вместо чистой, родниковой прозы. И тут по ясным глазам Олега Матвеевича увиделось, что несознательный автор высказал жгучую крамолу, якобы неприличную среди порядочных людей. Тем не менее тот продолжал в миролюбивом тоне:
– Вы не обижайтесь, право. Лично у меня, например, пухлая папка с отрицательными отзывами: задробили листов сто написанного. А пятьдесят опубликовал уже. Такой баланс. То – обычная работа.
Тянуче-нудный (извините, читатель) тек разговор. Однако сюжет и здесь сам повернулся по-новому. Блеснул малость напоследок. В эту минуту озабоченный другой редактор, напарник Олега Матвеевича, сновавший все время туда-сюда, болезненно засокрушался:
– Так что же с всеми рукописями делать? Что же делать? Ведь завтра все помещение будут опрыскивать…
– Что, от нас, варягов? – весело съязвил Кашин.
– Нет, будут тараканов травить, – спокойно разъяснил Олег Матвеевич.
– Выходит, меня вовремя позвали?
– Я потому и позвонил вам. Да вы не обольщайтесь: ваших рукописей тараканы не жуют – они несъедобны.
– Значит, жуют съедобные? Может быть, ваши?
– Наших здесь нет. – Редактор не был склонен шутить. – Нас вон через улицу издательство и журнал печатают.
– А те редакторы у вас издаются?
– Ну, бывает. Кто может. Больше негде.
– Тогда за счет каких же повестей тараканы размножились?
– Наши девочки харчевно развели. В тумбочках – печенье… Впору так и крысам завестись…
– Ну, крыса-то тут вряд ли проскочит… Не гоголевские, чай, времена…
– Ой, а как же быть с цветами? – опять сказал худощавый редактор, воззрясь на цветы, росшие в стоявших на подоконнике горшочках.
– Оставим так, – уверенно сказал Олег Матвеевич. – Что мы можем?.. Да, собственно, они и не окно в природу, а так… какая-то зыбкая недоросль…
Кашин аж простонал от столь кощунственных слов.
– Авось, и выживут, не терзайтесь зря, – смягчился Олег Матвеевич. – Вот вы же, надеюсь, не погибнете от нашей рецензии?.. Так и они…
– Напротив, скажу: вы влили в меня бальзам…
Зазвонил телефон. И утешитель долго-долго, удлиняя скуку, наговаривал в трубку разные разности. В общем, показывал знакомым свою растворимость среди обычных людских забот, а главное, не бездействие и вес. Его умственная машина работала, по-видимому, без сбоев и сомнений, и это-то пугало. Вроде бы совершенно нормально говорил он нормальные вещи. Так отчего же у нормального Кашина, каким он считал себя, было ощущение, что его, как просителя, здесь оболгали и, хуже того, обокрали. Выкрали у него выношенную им под самым сердцем правду и куда-то дели. Хотелось сжаться в маленький комочек и тихо выскользнуть отсюда.
Наконец, наговорившись, редактор вроде бы вспомнил:
– Ах, извини, у меня тут автор еще сидит. Отпущу его. – И, положив телефонную трубку на аппарат, бисерно расписался в низу напечатанной на машинке казенной бумаги. Для какого-то черта пододвинул ее к посетителю, заслонился ею: – Вам! На память. Заберите рукопись.
Вставший с готовностью со стула Кашин не стерпел – вновь боднулся:
– Отчего же все-таки у нас сегодня нет редакторов Некрасовых, Короленко?
– Не волнуйтесь, им было проще, – ответствовал охотней собеседник за столом. – Тогда не было плана. А теперь все писатели пишут одинаково, обстругано, что не отличишь даже на просвет рентгеновский, кто писатель, а кто нет. Крупные-то писатели все сливки сняли в лобовом решении вопроса, а мы теперь копаем и копаем вглубь… Нам – потяжелей. А вы, простите, еще не дотянули до этого уровня… – Он был рад тому, что выпроваживал правдолюбца.
Кашин, усмехнувшись над своим былым заблуждением, даже было вдохновился снова. Он по-человечески почуял свеженькую тему для короткого рассказа. Только ведь это тоже не смешное. И там, через улицу, еще скажут: нетипично для наших устремленных дней. Где вы видели и слышали подобное? Все сомнительно! И тогда опять-тю-тю! – не одолеть с первой же попытки высокую издательскую высоту…
XII
Антон понимал: он, естественно, не осчастливил Олю, отступницу, ни себя тем, что не удержал ее естественных чувств к себе, если только они такие какие-то успели возникнуть у нее к нему в сердце – не являлись никакой загадкой.
Ведь именно она недвусмысленно инициировала их расставание друг с другом и открыто, не таясь, упрямствовала в этом, чему он уже и не воспрепятствовал нисколько. По здравому разумению. Было ни к чему воспрепятствовать. За ней был этот непростой и неприятный выбор. С оговорками. И она шагнула прочь от него, Антона, с уверенностью.
В общем его переживанье, а следственно, и покровительство над ней закончилось, обязанности сняты морально; он как бы лишился прав на опеканье ее, все было понятно и неоспоримо; но изначальная несправедливость – еще одна по отношению к нему, не причинившего никому зла, не позволяло ему в душе смириться с этим. Ведь поклонник обхаживал ее упорно, пользуясь ее зависимостью от него.
Не сразу, но как-то Ольга даже восхищенно призналась:
– Меня так хорошо встречают здесь, в училище. Даже пальто мне завуч подает.
После этого хвасталась удивленно:
– Завуч мне руки целует!
Потом перестала восхищаться. А однажды уже дядя ее, Александр Петрович, спросил прямо:
– Оленька, с каким-то ты полковником прогуливалась? Я видел тебя…
Она фыркнула, не ответила.
Значит, она его, Антона, совсем обманывала, говоря, что сегодня едет с ребятами на экскурсию, а встречалась с делягой-ухажером… Ничего пока ему не говорила об этом, таилась. До поры – до времени. Проявляла природную изворотливость. Не хотела огорчать?
Он не был этим раздавлен, унижен, лишь раздосадован из-за такого ее поступка и бесчестного дельца, и хотелось тому в рожу плюнуть. Был урон чести.
И вот случай такой представился ему.
В ту памятную белую ночь – при последнем свидании с Олей – Антон с болью сердечной почувствовал, что уж никак-никак не вправе ее удерживать своей любовью, ставшей, может быть, просто пресно – надоедливой для нее до ужаса, никакой иной (он и нечто подобное не исключал – не заблуждался в своих мужских чарах, отнюдь), и что ее явная решимость отдалиться от него, совсем отдалиться, была у нее однозначно мотивированной, желанной и, видно, так выношенной ею. Сердцу ведь не закажешь… Хотя на ее челе следов никакого стыдливого раскаяния или смущения внешне и не наблюдалось тут. Была обычная всеобычность. Даже напротив вроде бы: она губки надула, готовая, должно быть, подраться, если что, дать отпор; оттого, что ей приходилось еще, возможно, объясняться в чем-то сокровенно-необъяснимым, невозможном. Каково-то тогда! Однако человека стало совсем-совсем не узнать! Даже не поверилось вдруг тому.
Причем что примечательно: в этом решении Оли проявилась не столько ее хваткая девичья смекалистость, сколько, наверное, пришедшая рассудительная трезвость взрослеющей женщины, в которую она, Оля, осознанно превращалась в завидном нетерпении – к изумлению Антона, лишь сожалеющего теперь о том, но не в силах уже тому воспрепятствовать ничем. Все! Каюк заблуждению!
И вот подобное превращение позволяло Оле быть с ним, с Антоном, неискренной, а значит, испорченной в чем-то натурой в ее метаниях-исканиях основательного мужского покровителя. Что делать, мир таков. Спотыкающийся. И хромающий. Но он безжалостен. По прихоти людской.
Как же мы вольны обманываться в своих ангелах и снах!
Кстати причем Антон даже не завидовал своему сопернику – было нечего завидовать – двухметровому тяжеловесу, видному спортсмену и завучу, как позже выяснилось. Вся ирония измены заключалась в том, что Антон, не зная ничего о таком человеке, направил Олю, только что получившей диплом учителя, в то училище, в котором работал именно тот, ставший вскоре ее новым единственным другом.
Однако Кашин раз в промозглый осенний вечер на глянцевой панели на Петроградской стороне неожиданно столкнулся среди суетной толпы именно с ним и шествующей рядом Олей. Столкнулся и не смог вытерпеть и не сказать чего-то соответствующего сему нелицеприятному случаю. Завелся с оборота, что говорится, и не смог уж мирно обойти их и разойтись.
Он задержал этого супостата тяжеловеса и бесстрашно и страстно втолковывал ему, что тот, вводя в заблуждение малую беззащитную особу, не способную еще защищаться, а способную лишь пасть перед пороком и погасить так свет своих очей и вовлекая в свое негодяйство педагогическое. Вот ведь у нее уже не будет больше гореть истинным светом глаза и жить душа. Кругом были люди, спешившие по своим делам. В то время как Оля суетилась вокруг их, мешая, боясь того, что может возникнуть драка. Супостат защищался на словах. Но Антон видел: смешно! Он воспитывал, значит, педагога. И тот, богатырь почему-то боялся его, как вор, укравший нечто или некое произведение искусства, не имевшего цену.
Значит, если так, он прав в своих справедливых, обоснованных претензиях к ним, обоим. И ему стало их жаль и не так уж интересно все, что может значит их сближение. Все было ясно, просто и глупо; какое-то извращение понятий, по его представлению. В этом как будто сломался сам тон отношений и понимания сути судьбы.
Да, он проиграл завидному сопернику баловню судьбы, у которого в ней все сложилось ладно, устроено.
За Антоном была какая ни на есть правда, было это понятно всем, и это определяло суть его претензий в выговоре к поведению лощеного интеллигента и спортсмена, уже избалованного вниманием публики и устроенного в жизни. И он, Антон, чувствовал себя нравственно выше и поэтому победителем, и мог сражаться за свои идеалы. И его соперники, он видел и чувствовал, понимали это и тушевались перед ним. С таких-то позиций он мог отчитать кого угодно.
Да, фигурально выражаясь, его размолвка с Олей вступила точно в фазу невозврата. И он уже не хотел возврата ее любви. Она не могла быть прежней. Никак.
При этом он вспомнил Пошутина из Армавира, того самого старшину, из-за которого его вызывали в Большой Дом на допрос: тот раз после шумной драки устыжал своего товарища, сидя внизу двухъярусной койки в кублике рядом с ним, в котором силища перла через край:
– Пойми, Паша, у тебя сила огромная, а умишка мало, вот и махаешь кулаками позря. Бестолку. Поступки все решают. И слово.
Антон помнил и жгучие зеленоватые глаза друга Махалова, смотревшие с ненавистью на Олю на Менделеевской линии, когда та пришла и стояла перед Антоном со стопкой книг, которые привезла ему ради встречи, и что-то старалась успеть сказать ему в этом мучительном свидании.
XIII
Июльский понедельник не принес в издательство спокойствия. Просто еще не успели вскипеть страсти. Но затишье подчас обманчиво. И действительно: вскоре дверь в аудиторию – производственный отдел – распахнулась. На пороге появилась седеющая прямая сухощавая исполнительная секретарша в черном костюме и с нарумяненными слегка щеками, недремлющее око директора, как справедливо острил кто-то, и кратко бросила присутствующим:
– К начальству! – и бесстрастно повернулась, чтобы уйти.
То был верный признак явно сгущавшихся туч.
– Кому же, Елена Борисовна? – спросил писавший за столом в глубине комнаты Антон Кашин.
Она обернулась – и задержалась еще. Она никак не могла привыкнуть к нему, к его произносимым в шутливой манере словам и приноровиться: в его мальчишеской внешности была какая-то особая, невзрослая задорность, сбивавшая с толку.
– А сначала – здравствуйте! – добавил он, улыбаясь, опередив ее ответ.
– А я разве не поздоровалась?
– Не слышали.
– Странно. У нас заработаешься так, что забудешь про все, – сказала она на полном серьезе, что тотчас в комнате все прыснули со смеху.
– Так кому же идти, Елена Борисовна?
– Известно: Вам, Антон Васильевич.
– Скажите ему, начальству… Только бронь на бумагу выпишу. Печатные машины стоят… Тираж набирается приличный.
И она, выслушав его, молча-степенно, как классная дама, удалилась. По ее представлениям, все было плохо, и она была сторонницей самых жестких мер (с хлыстом!) по наведению должностного порядка. Например, заведующая редакцией Анна Михайловна уверяла Павла Дмитриевича, директора, что она переработалась и что вверенный ей штат редакторов не сможет выполнять за кого-то что-то; Павел Дмитриевич публично бил себя в грудь и выкрикивал, что он один тут за всех отдувается; Александр Александрович, главный редактор, только составлял проекты приказов на десятках страниц и разбрасывал параграфы; обиженные сотрудники знали, что дело медленно двигалось, искали виновных и находили их среди тех, кто своевременно являлся на работу и добросовестно работал, не сплетничая.
– Ну, на причастие? – ухмыльнулся Махалов.
– А ты, небось, уже испугался, что тебя позовет Душкин – подковырнула того Валя Нефедова, очень полная, хоть и молодая, технический редактор.
– А меня, Валечка, нету здесь, – отпарировал Махалов.
– Как так нету?
– Физически я присутствую, а мысленно нет. Ну, что у тебя? Давай! Давай! Показывай! – подогнал он мявшегося около его стола загроможденного красками, эскизами, бумагами, художника с рыжей бородкой.
– Как же, Махалов (мода была называть по фамилии), пока Душкин ехал на работу, в его светлой голове возникли тысячи проектов – и он хочет, наверное, поделиться со всеми своими планами, а ты такой непутевый, игнорируешь его, – сказала опять Валечка. – Совести нет у тебя.
Тридцатилетняя Нефедова, как пришла сюда работать девочкой, после окончания техникума (ее навязало начальство банковское), и как называли Валечкой, так и звали ее теперь. К этому все привыкли, а она привыкла делать вид, что она такая хорошая Валечка.
– Я подумал: может выделить буквицей «И» из истории индоевропейского словообразования? – говорил, обращаясь в Махалову рыжебородый художник. – И расположить по всей обложке…
– Ни в кое случае, – возразил Махалов. – Не нужно выделять, так как предлог «из» сужает тему. У нас что ни монография – набор бессмысленных названий «К вопросу»… «О вопросе»… «Некоторых»… И так далее. Авторы намеренно сужают тему, а ты вдруг выделишь… Цвет – попробуй нейтральный, но сочный. Обыграй шрифт. У нас красный или другой яркий действует на здешних масон как красная тряпка на быка, учти!
– Он, Душкин, встал не на ту ногу, а мы виноваты, – предположила техред Алла Березова.
– Как быстро он впал в истерию, – сказала калькулятор. – И якать. В роль вошел. Глаза выкатит, затрясется весь, а еще юрист…
– Наверное, опять совещание. Работать некогда, – добавила Евгения Петровна.
– Что ты! – притворно испугалась калькуляторша. – У нас все совещания проводятся во внерабочее время. Как можно так говорить?
– А в остальное что вы делаете? – спросил Махалов.
– А в остальное – ла-ла-ла делаем.
Все засмеялись.
– Но, может, уже Сироткина приехала из Москвы? Привезла оттуда хорошие новости… – сказала Валечка.
– Действительно! И как я не подумала, простофиля.
– Ведь обещали же категорию нам повысить. Ну, все министры были у ее ног. Такой хороший она ходатай.
– Да, а приедет к нам бочонок – с деловым видом нога на ногу закинет и будет дым в глаза пускать, глотая папироску, – рассказывать, как она усердно хлопотала там, в Москве, чтобы дали нам вторую категорию. Артистка, подлинная артистка!
– Все везде артисты, а наше издательство – цирк, – сказала опять калькулятор.
Все вновь засмеялись, и Кашин заметил:
– Я думаю: она за себя хлопотала, чтоб пофестивалить. Ее ждали второго, а сегодня там кинофестиваль открылся. Как же упустить.
– Браво!
– Разве можно так думать! – шутливо воскликнула калькулятор.
– Нет, браво! – Анна захлопала в ладоши.
– Что толку, если и дадут, – сказал Кашин. – Здесь, в райфинотделе, не пропустят, а то сошлются на райфинотдел, как не раз уже бывало. Скажут: сами утрясайте.
– А это, Валечка, от тебя уже зависит, – сделала намек калькулятор.
– Что-то не пойму тебя, дорогая.
– А Знаменский у тебя на столе лежит – первая корректура…
– Ну, я тогда костьми лягу. Добьюсь…
В директорском кабинете уже рассиживал перед Душкиным главный редактор Печенкин, длинный и длинноволосый человек, в очках, возрастом постарше Кашина. Вечно озабоченный, ходивший в наглаженных брюках. Только Кашин вошел, как тот нервно схватил со стола коробок спичек и, закурив, поджал тонкие губы.
Они конфликтовали друг с другом. И только что спорили.
Печенкин был с удивительно неповоротливым умом. Правда, ум его всегда поворачивался, когда дело касалось лично его и защищаемых им перед любым делом его работников, которыми он руководил, – поворачивался для того, чтобы увернуться от всего, что было общее дело, план. И для этой цели, как ширма, служили всяческие словесные выкрутасы, вроде того, что его работники – люди умственного труда, творческие работники номер один. Труд их не может быть учитываем. Это была увертка.
В последнее свое замещение директора, Печенкин, просидев в директорском кабинете четыре дня и всем говоря, что он сильно занят, старался не заниматься руководством по существу, а отредактировать бумаги так, чтобы всем видна была его руководящая и направляющая рука. На каждой бумажке – нужной и ненужной он расписывал крупно резолюции: «Разрешаю», «Такому-то и такому-то», «К исполнению»; он пытался сунуться в каждую щель, чтоб испортить дело, сделанное не им, и сподручно обвинить в злоупотреблениях неугодных ему лиц. А с теми, которые раболепствовали перед ним, сочинил приказ из шестнадцати пунктов. Почему из шестнадцати – никто не знал. Все решили, что, во-первых, он дурак, ученый дурак, хоть и юрист, во-вторых, карьерист и псих, в-третьих, жох, идущий к достижению цели негодными путями.
– Ну, какое у вас причастие? – спросил Антон весело.
– Что? Что? Темплан нужно делать.
– Да. Я с «Союзкнигой» разговаривал. Та просит срочно верстку. Ей уже некоторые издательства прислали. Следует рекламу делать вовремя.
– Естественной редакции часть готова. Может, по ней номинал установим? – Сказал Печенкин. – Вот сядем втроем сейчас и определим.
– Что, с потолка? Нет Вы, Печенкин, садитесь. Да Василий Федорович. – А что с гуманитарной?
– Вам же Сироткина заявила, что она потом сделает – после возвращения из Москвы.
– А что она не является до сих пор на работу? – спросил Кашин.
– Не знаю. Возможно, вчера поздно приехала. Либо сегодня. Задержалась. Она должна, помнится, пятого – выйти…
– Какое – пятого! Второго еще! Второго! – взвился Павел Дмитриевич.
– Ну, ведь не я же ее в командировку послал, – уколол директора Печенкин.
«Да, на фестивале она», – подумал Кашин.
– Так будем делать план?
– Делайте, судари, – Кашин построжал в голосе, – а меня не трогайте. Сколько не доказываю вам, все бестолку: производственный портфель пуст – обсуждать нечего. Было много малотиражных изданий, они быстро прошли, как семечки, а восполненности пока нет никакой. Потом в год листов 50 – 100 редактируется в корзину, это норма одного редактора. Задела нет, и когда отредактированная и вычитанная рукопись поступает в производство, к техредам, она сразу же уходит из-под рук в типографию, потому что набирать нечего. Как же можно планировать ничто? Какое ж качество выпускается к потребителю – читателю?
– Ну, что? – вскинул Душкин глаза и тут же взял трубку зазвонившего белого телефона, стал буквально кричать в нее: – Понимаешь, РИСО мой издательский план еще не утвердило!..
Кашин сел. Пережидал, качая про себя головой на то, как этот холеричный человек, аполепсически краснея, чуть ли не бил себя в грудь и не говорил чуть ли ни через каждое слово: «мой план», «мое издательство», «мои работники» и т.п.
Началась новая серия коридорных утрясок, привившихся в издательстве за время деятельности Душкина. До проходивших мимо лишь долетали обрывки сакраментальных фраз или отдельные жесткие слова (вроде: «недопустимо», «уж теперь-то я соглашусь»), из которых следовало, что здесь втихую кого-то поругивали, кого-то обсуждали и осуждали, и главное, намечали, как действовать дальше. И трогательно было видеть при этом, как Душкин, который не любил Леоничеву, литредактора и профсоюзную настырную деятельницу, и советуясь с нею, глубокомысленно щурил глаза и по-старчески поджимал губы, точно что-то кислое сосал во рту. И слышался ее звеневший от напряжения голос: «Мы их заставим, мы их научим работать и уважать… Я согласна с вами…»
В коридоре и двое неприметных авторов – мужчин вели разговор:
– Ну, подумаешь, важность какая! Любую краску возьмем!
– Нет, не скажи. Ведь главное – это роза.
– Ну и что ж? Растение прекрасное.
– Так и в тоне с нею должно все быть. Ее нужно показывать, оттенять лучше на фоне…
– По-моему, просто придумки от безделья.
– Не говори. И что за мода?
– Мода – обществу по морде. Вот какая мода.
И было еще одно собрание в присутствии седого проректора.
Можно было ужаснуться и все ужаснулись тому, с какой бесцеремонностью и грубостью подготовленные к этому два коммуниста, члены партбюро и даже беспартийный, специально приглашенный на это растиражированное заседание, обливали грязью коммуниста – директора издательства, обвиняя его во всех грехах. Грехов у выступавших было гораздо больше, все это знали. И те знали об этом, но все же бесстыдно выступали, обиженные, крикливые, нездорово, с дрожью в голосе.
Кашин поразился не тому, что высказывались противоречивые мнения по пустякам, а тем стараниям выгородить лишь себя и потопить других, лишь себе пробить дорогу. И не было видно в этих людях ни принципиальности, ни доброты, ни нормального человеческого отношения к делу.
Проректор говорил тихо, по-человечески, и каждое слово его услышали и торопились услышать еще – до того это контрастировало с тем, что только что происходило и так раскраснело всех. Спокойствие выступавшего было приятно, а еще приятнее то, что он сказал, – простое, естественное, единственно-верное: что не нужно накалять страсти…
Больше всего было жаль даже не сил, а времени, которое уходило на разбор этих склок. Людям, видно, нравилось участвовать в них и было интересно. Но сколько бы можно было сделать за это время для людей, насколько полнее жить духовной жизнью. Но время это отрывалось, уносилось сознательно людьми на постоянные склоки, сведения счетов.
XIV
Антон торнулся в дверь – Галины Андреевны, заведующей редакции, не было в кабинете: дверь закрыта на ключ. Увидав, что рядом открыта дверь, зашел в комнату к Юлии Антоновне, редактору. Она сразу стала извиняться за то, что взятую три недели назад у Антона книгу по композиции еще не вернула ему: она еще нужна будущему зятю, армянину – он будет в этом семестре сдавать. И стала охать и говорить о своих проблемах. О работе она теперь мало думает – ни к чему; только – о дочери и о том, что предстоит быть. У армянина же намерения самые серьезные, а дочь, видно, любит пощекотать ему нервы, он ревнив. Ревнует к сокурснику ее, с которым у дочери была любовь, которая прошла. И делается глупо горячлив, хотя бы и здраво рассуждает в общем-то. Ему 29 лет, ей 19. Он уже сложившийся мужчина, несомненно были у него и женщины. Не без этого, положим.





