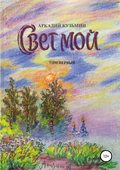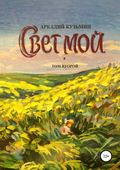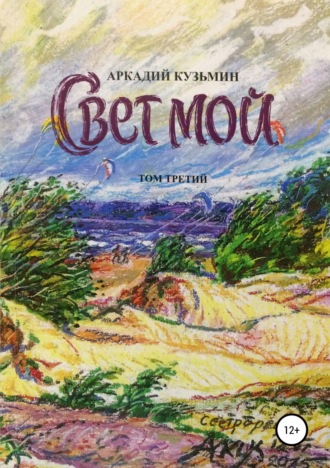
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
– Да? – Но вначале Антон все-таки не понял: какой такой учитель. К чему? Однако ж желтоватые не смеющиеся глаза майора и все его естественные поведение сейчас красноречиво говорили о том, что и ему самому небезынтересна предпринятая им такая акция. – И Антон уж догадался: – Вы, что, художника нашли?
– Вот именно его. Ведь нужно?
– Нужно, нужно… – обрадовался Антон такой приятной неожиданности – и вмиг воскресла в нем надежда на внимательного советчика-портретиста или пейзажиста. Должен же он все-таки оправдать свое призвание и назначение, а также доверие таких благорасположенных к нему людей!
Вследствие доступности и простоты майора Антон давно уже считал его своим старшим другом и не находил ничего предосудительного в его тоже дружеском расположении к нему. Только, сколько ни помнил, не пользовался этим корыстно в военной обстановке; довольствовался тем, что было, – выгод никаких не искал и ничего не выбирал из того, что попроще. Без скидки принимал сложившиеся коллективные обычаи и нормы наравне со взрослыми. Майор же по собственной инициативе приготовил ему сюрприз.
– Так где же этот художник? – спросил Антон в волнении.
– А у меня сидит. Привез его. Идем – познакомлю с ним. – И майор уже засеменил шажками к двери.
Антон последовал за ним.
В тускловатом коридоре худенькая, в годах, полька – единственная из поляков, кто еще обретался в этом бывшем казенном здании, приветствуя, успела сделать приседание – так называемый книксен, отчего майор отшатнулся, разумеется, от неожиданности такой. Сказывали, что это милая полька, делавшая книксен перед всеми, будто бы давным-давно приживала здесь на правах горничной, или прислуги, а нынче она прижилась больше возле шоферов Управления, бойцов, ребят, жалевших и принимавших ее у себя в общежитии, ровно близкого и равного себе товарища. Они давали ей еду, высказывали ей сочувствие, поскольку она сказалась совсем одинокой. И она платила им тем, чем нередко что-нибудь делала для них, стирала. В общем при взаимной симпатии и привязанности (на войне нередко бывало подобное) перевода чувств на язык и не требовалось нисколько – сердце и так все прекрасно понимало. С несколько нарушенной, может быть, психикой полька была покладистой, общительной, услужливой; она явно радовалась при встречах тому, что не одна на свете живет.
В комнате начальника железная раскладушка, заправленная серым байковым одеялом, была отгорожена у самого входа двумя простынями, висящими на шнуре; возле окна стоял стол, на полу постелена матерчатая дорожка в цветную полоску. К этой виденной Кашиным прежде обстановке прибавилось еще нечто незамеченное сразу: на стуле скромно-робко, даже испуганно полусидел, лишь прислонившись слегка к спинке, небольшенненький солдатик с рыжеватыми вислыми усами.
При входе майора и Кашина он суетливо вскочил с места и застыл перед ними в какой-то готовности. Что-то излишнее было в его поведении.
Майор представил Антона ему.
– Солдат Тамонов, Илья Федорович, – чрезвычайно учтиво назвался тот, словно именно его привели к Антону учеником. И с какой-то необычайной неспешностью пожал руку Атону – правда, твердо, обрадовано как-то.
Кашин совсем обескуражен был: видел бог, он ждал чего-то иного.
Назавтра дверь в отдел тихонько приоткрылась, из-за нее протиснулась, спросив с хрипотцой разрешения войти, вчерашняя невесомая солдатская фигурка в длиннополой шинельке и кирзовых сапогах, в которых вошедший, можно сказать, буквально тонул: так незначителен был он на вид или форма на нем несообразно велика.
– А-а-а! Это вы?.. Входите! Входите! – Майор Рисс, на миг оторвавшись от подписываемых бумаг и повернув к посетителю седую, почти безволосую голову, удовлетворенно издал какой-то всегдашний торжественный крик, выражавший нечто среднее между желанным принятием чего-то к сведению или сообщением чего-то. И затем скороговоркою проговорил: – Ну, Антон, держись теперь. Не подкачай!
Солдатик, действительно невеликий и вдобавок смешной в обмундировании, мешком висевшим на нем, костлявом, стеснительно и манерно раскланялся со всеми.
По лицам сослуживцев Антон заметил, что и все они встретили Тамонова без особого энтузиазма.
Но Тамонов пока зашел только с незначительной просьбой к Кашину: помочь ему перенести его вещички, красочки. И Антона немедля отпустили с ним, куда нужно. Только и всего пока.
– Благодарю, идемте, друг, – позвал он. – Мы быстренько все сделаем. Тут недалеко.
Он радовался, вероятно, перемене места, новым предстоявшим знакомствам.
Госпиталь, в котором он лечился после пулевого ранения и впоследствии служил несколько месяцев, находился примерно в километре отсюда, под спуском. Был сухой ветерок, задувавший пыль, прошлогоднюю труху, солому, обрывки бумаги. Тропка была неровной, скользкой. И солдатик этот ведомый всякий раз любезно предупреждал Антона:
– Осторожно! Здесь не прыгайте!
По дороге Кашин вкратце рассказал ему о себе и о желании рисовать, а он сообщил ему, что вел лекции в институте живописи и графики и оформлял различные книги в издательствах. Словом, художничал – не ленился. Ленивых в этом поприще ждет неминуемый крах. Поэтому учиться никогда не поздно ничему – присказал он знающе и подбодряюще.
Когда же за полуразбитым кирпичным зданием с оборванными лестничными пролетами они, переступая куски железа, груды искромсанного кирпича, какие-то торчащие металлические каркасы и перепрыгивая траншеи, подошли к еще одному строению и нырнули в него, две пожилых медсестрички внимательно взглянули прежде на Антона. А затем одна другой сказала:
– Марьюшка, видишь, наш Илья-то Федорыч желанный, убывает, значит, от нас. Наверно, за пожитками пришел?
– Да, списываюсь с корабля, – ответил Тамонов. – А где кладовщик?
– Сейчас, значит, придет, милый. Потерпи малость.
– Потерплю, как же.
– А в какую же часть такую направлен, Илья Федорыч? В хорошую?
– Переводят в Управление госпиталей.
– А-а, если молодец оттуда, то хорошая, – медсестра имела в виду Антона.
– Оттуда. Тоже художник. Поможет мне все сразу донести.
– И, что ж, мою просьбу не успел-таки выполнить, душа-человек? Так ты Петровну изобразил – одно загляденье.
– То ведь недалеко, не тужите – может, еще нарисую Вас. Прискачу… А вот и Афанасий Никитич пришел…
– Ко мне? – внешне сурово спросил тот, всходя на горку свежих стружек и щепок: здесь что-то надстраивали, строгали.
– Отчитаюсь напоследок кое в чем, если это Вас не затруднит, – заторопился Тамонов. – По необходимости убытия…
Кладовщик-сержант значительно помолчал, бренча связкой ключей перед закрытым складом и отыскивая среди них нужный ключ.
– Продался, выходит? Мы чем-то не понравились?
– Ну как можно меня обвинять, Афанасий Никитич! Грешно…
– Пошутил, конечно, я. Чур не забывать.
– Постараюсь, безусловно.
Чувствовалось, что Тамонов составлял с этими простыми людьми нечто единое целое. Был среди них как любимый ребенок, право, – возраст его не являлся помехой для этого.
Очень скоро Тамонов освоился на новом месте. По первости Антон помог ему лучше сориентироваться в местонахождении управленческих служб: рассказал – показал ему все. А что он – настоящий художник, чрезвычайно общительный, любезный, приветливый – стало сразу ясно всем.
Тамонову отвели пустовавшую комнату. И для начала он сделал с натуры два карандашных портрета, уловив удивительное сходство с натурой. Это стало для всех как-то ново, необычно, интересно. И поэтому вскоре к нему началось своеобразное паломничество: всем хотелось увидеть, насколько удачно он запечатлел кого-либо, как это выходит у него, – ведь прямо на глазах свершалось таинство – под его рукой возникал набросок, удивительно схожий с оригиналом; другим хотелось просто поговорить о том – о сем, что было связано с искусством, доступной не для всех в силу разных причин, но таким заманчивым. Оттого он, как Антон заметил, как-то расцвел, был всегда одухотворен, подвижен.
Тамонов, работая, что-нибудь рассказывал из того, что было связано с профессией художника, и всем нравилось бывать у него; отбоя не стало от тех, кто хотел его послушать, поговорить с ним или хотел быть срисованным на портрете. И обычно он, такой безотказно-предупредительный, не мог никого обидеть и срисовывал всех подряд. Бумагой он был обеспечен вследствие предприимчивости завскладом.
На каждый натурный рисунок у Тамонова уходило поболее часа.
Конечно же, для Антона, впервые видевшего подобное как бы изнутри, присутствие на его натурных сеансах рисования, когда это получалось, давало ему неоценимую пользу: наглядно виден был желаемый принцип работы над моделью – выбор поворота или наклона головы, освещения, компоновка на бумажном листе, построение и соразмерность частей лица, сочетание света и тени, постепенное выявление деталей, углубление и обобщение рисунка. Такая школа была несравненна, представляла откровение для него. Тем более, что художник, имея большой практический опыт, не испытывал, видно, никаких неудобств при наблюдателях, никогда не нервничал, не волновался, не пыжился и не изображал час драматических мук творчества, а лишь терпеливо, последовательно наносил карандашом рисунок, что дано, Антон знал, не каждому. Несомненно, это качество он воспитывал в себе.
Антон лишь удивляло его настороженное отношение ко всему.
Все он делал с какой-то оглядкой, как-то опасливо и с оговорками; сам с собой советовался по пустякам и часто передумывал то, что только что надумал. Он себя контролировал так ежеминутно, и невольно окружающие становились свидетелями его колебаний и раздумий; он даже как бы преохотно делился этим со всеми – смотрите, дескать, ничего особенного, все по-человечески! С кем не бывает? Но сходился с людьми довольно быстро и в проявлении своих чувств был очень искренен.
XI
– Вот что, Антоша, я вам скажу: вам нужно обязательно начать, если хотите настоящим образом работать карандашом, углем, сангиной, пером, кистью, – стал с воодушевлением Илья Федорович перечислять, беря над ним шефство – начать с самого простого. Хотя бы вот с этого. – Он коснулся пальцем пресс-папье. – Поставить перед собой, изучать – и вдумчиво рисовать; сначала, разумеется, верно построить (я буду показывать, как следует); найти направление штриха, не стараться отделывать набросок сразу, в один присест, и все обозначить в полную силу. Главное – увидеть объем вещей в пространстве и точно изобразить их на плоскости листа, вписать в него, чтобы они не выпадали. Потом постепенно перейдешь к вещам посложнее. Ну, хотя бы к рисованию посуды, такой бутылки. Это самое трудное – нарисовать просто предмет. Должна быть основа рисунка. Только тогда будет толк.
– А разве можно в точности срисовать, например, эту заляпанную бутылку из-под чернил? – засомневался Антон.
– О, для художника нет ничего невозможного, – подивился Тамонов его наивности. Тут же взял лист писчей бумаги, простой карандаш, присел на краешек табуретки и стал набрасывать линии.
Через четверть часа Антон уже видел, как им вырисовывалась точно эта, стоящая перед ними однобокая бутылка, как шло необыкновенное превращение линий и штриха в нечто осязаемо-предметное.
Тамонов схематично ему показал, как нужно последовательно строить весь рисунок, определять его границы, проводить основные и вспомогательные линии; он советовал – чтобы не грубить его свежесть, сочность, строгость – не прибегать к помощи резинки и не растушевывать тени пальцем – не вырабатывать в себе дурной вкус. И с этих пор, ежели выдавались свободные минуты, Антон ставил перед собой самые неожиданные предметы: кружку, миску, кирпич – рисовал все, хотя это ему отчасти, если признаться, и не нравилось, было скучновато выполнять, так как хотелось создавать что-нибудь необычное, большое, заметное. Хотя бы те же портреты. Все объяснялось, конечно же, нетерпеливостью Антона, присущей юному возрасту.
Безусловно, по молодости и наклонностям, а также обстоятельствам Антон уже привык к подвижной, деятельной жизни. Иного и не мыслил. Однако прямо заставлял себя отныне, когда понял, что нужно так, – заставлял приноровиться, или приспособиться, к усидчивости над работой первоначальной, незаметной, черновой, однообразной, не дающей вроде б сердцу ничего существенного, кроме навыков. Почему-то знал определенно: лишь освободи себя от таких забот, прикрой хоть маленькую щелочку подмывающим тебя желаниям – и уж распахнется вовсю дверь свободе ложной, и тогда уплывут куда-то все твои лучшие намерения.
То, что Тамонов, как рассказывал, имел уже своих учеников, взрослых художников, что он рисовал мастерски и что вместе с тем держался с людьми без всякого высокомерия, душевно-просто – это успокаивающе действовало на Антона, вселяло в него уверенность. С каждым днем у Тамонова увеличивалась галерея нарисованных портретов, хотя он раздаривал их и нередко бывал недоволен получившихся рисунком. Без всякого позерства. Среди новых позирующих друзей у него уже объявились молодые женщины, в том числе из комсостава, но выявились тоже и противники, подмечавшие в нем мало-помалу непростительные с их точки зрения слабости. Что и говорить, ведь в себе лично человек редко когда видит их.
Да, вначале его вежливость, пожалуй, нравилась всем. Однако же неисправимая черта в нем – вроде бы желание заискивать перед всеми и преувеличенно кланяться в почтительности – в дальнейшем стала претить сослуживцам; это выглядело нарочито, вызывало и во Антоне какую-то досаду. Он старался отгородиться от всех рождавшихся о нем людских пересудов, тем более, что окружающие соответственно (из благих, безусловно, побуждений) уже донимали и его вопросами:
– Но ты-то, Антон, не станешь же, наверное, таким угодливым?
– Постараюсь быть самим собой, – Антон не понимал и не принимал никакого иронизирования по поводу привычек своего негласного учителя.
«По-особенному он воспитан, только и всего, – думал он о нем, – не допустит хамства по отношению к другому. Все, что ни делается им, делается очень естественно, привычно, и не может задеть чье-то самолюбие». И нужно принимать его таким. Уж более искренне-теплого и любовно-честного отношения ко всем и ко всему, чем проявлялось у него, Антон еще ни у кого не встречал. Один раз даже застал у него эту польку, любительницу книксена; она сидела – позировала – на стуле, и Илья Федорович, разговаривая с ней, срисовывал ее. Оттого она буквально вся расцвела, сияла, как какой дикий, полузабытый цветок, – поразительно! – Он, стало быть, не чурался водить знакомства ни с кем, что говорило о широте его души. С ним можно было толковать на равных – и не почувствовать никакого превосходства над собой. Иногда Антону хотелось даже оберегать его от злых языков.
Но людское мнение влиятельно и может сбить, что говориться, с толку. Так случилось и с Антоном. Хотя он нередко поступал вопреки чужому мнению, и никому не подражал, но сам не сдержался как-то. Правда, ничего не наговаривал; только взял не тот тон – вышел грех с ним. Непростительный.
Нацисты еще повсеместно огрызались до последнего, но уж отчетливо ощущалось приближение победного часа.
Тамонов, освоившись с ролью волшебника, по приказу начальства подготовил эскизы предполагаемого оформления клуба – просто большого помещения, где теперь иногда проводились политинформации, и на оклеенных бумагой панно, условно раскрашенных под мраморные доски, красной гуашью выписал известные цитаты. Шрифт для них выбрал строгий, классический. Их развесили по простенкам. Все было нормально, уместно. Однако дотошное начальство в лице суховатого майора Голубцова, замполита, нашло, что, во-первых, в цитатах встречались прописные и строчные буквы и, во-вторых, у некоторых букв – перемычки и хвостики несколько игривые; Антону тоже показалось, что Илья Федорович кое-где не соблюдал расстояние между буквами, а иные из них были широки по сравнению с другими, не так стройны. И об этом он ему сказал. Он спокойно согласился с его мнением: что делать? Нет времени, удобства далеки от совершенства, и приходится шить шубу из ситца. Понимаете? Антон понял его.
После состоявшегося здесь концерта грузинских артистов, выступивших дивно, виртуозно, в компании, расходясь, почему-то упомянули имя Тамонова, и Антон заметил друзьям, что, кажется панно не совсем удачно выполнены им.
– А может, ты, голубок, того: заелся чуток, что тоже критикуешь зря? – резко ополчился вдруг на него, отчитывая, его хороший друг шофер Маслов. – Чужое-то ведь не свое. Со стороны всегда видней. Это, брат, пусть пенкосниматели треплются, а тебе-то не пристало…
– А я разве против? Только сказал… – Не ожидал Антон подобного.
– По-моему, великолепно, что человек своими руками может сделать то, что другой (и завистник!) ни в жизнь не сделает.
Антон уже хмуро смолчал. Словно ушат холодной воды обдал его. И поделом: не треплись понапрасну; и впрямь – еще молод, зелен.
Другое событие, увы, имело более важное последствие.
Нужно сказать, что Тамонов не был женат. Очевидно, поэтому он так церемонно и обращался с дамами, – сказывал, что жил главным образом в обществе тети, весьма любившей оперу, филармонию, книги. Его откровения на этот счет были признанием достоинства в его самоотдаче целиком искусству. Но подобное лишь заинтриговывало все: вопрос спорный – всем хотелось докопаться тут до полной истины. Ведь весь мир человеческий делился на две неравные половины: большая – были семейные люди, не осуждаемые обществом нисколько, а меньшая, незначительная часть, – были почему-либо закоренелые холостяки, осуждаемые всеми публично, потому как не совсем ясны и убедительны были мотивы и доводы в пользу их холостячества.
Илья Федорович откровенно признавался сослуживцем, что он дал себе зарок не любить женщину; любовь к ней, по его понятию, могла пагубно повлиять на судьбу художника в творческом плане – затормозить его рост; он был всегда уверен, что женатому в наше время почти невозможно достичь каких-то вершин в искусстве: поглотят семейные заботы, добывание денег и пр.
– Так зачем же тогда жить? – искренне удивился кто-то.
– А возможно, я уже и привык к такому положению, – понесло его на большую откровенность. – Рисуя частенько обнаженых натурщиц, которые запросто стояли перед нами на возвышении, я ничуть уж не стыдился их обнаженности, их тела, того, что часами глядел на них – глядел, как… на гипсовые статуи. Одно время, еще в дни молодости, мы заядлые рисовальщики, постоянно ходили на такое рисование. Кто-нибудь из нас, рисующих, вздохнет над планшетом оттого, что не получается нужно, и с треском порвет лист бумаги, берет новые, приспосабливает, и натурщица, не шелохнувшись, не меняя позы, называет по имени вздыхателя и говорит: «Ты, Борис, чего вздыхаешь? Брось! Я сегодня утром тоже повздыхала напрасно, а потом перестала». Заговорит о том, что ей очень нужно завести для себя альбом поз натурщиц – будто б есть такой альбом знаменитых натурщиц; о том, что она это дело – позировать – очень любит и что натурщицкий стаж у нее уже десять лет. Вот повстречался ей вчера известный художник и просил ее уважить их клуб. Но не могла же она разорваться… И тут же натурщица уточняет: «Ну, говорите, как вам встать еще для набросков? Какую позу изобразить? Этак, что ли?» «Нет, так вы уже стояли, – говорим мы. – Так сидели тоже. Что-нибудь экстравагантное, новенькое, но чтобы было движение. Да и в движении вся прелесть». И послышался снова шелест бумаги и вздохи-муки творческого преодоления себя.
– Нет, что, прямо голая, или как, она позировала перед вами? – изумленно спросил у Ильи Федоровича сержант Волков.
– Именно разденется догола, выйдет к нам в халате, чтобы напрасно не мерзнуть. Влезет на помост, снимет халат и пожалуйста – традиционный вопрос: «Ну, как вам встать? Скажите».
– Для чего же это нужно, Илья Федорыч?
– Для того, чтобы суметь точней нарисовать женскую фигуру и чтобы полней ощущался объем тела под складками одежды.
– А, как в скульптуре?
– Похожая задача. Мы же пишем бесконечные этюды. И каждый раз природа новая. Надо успеть схватить и передать ее состояние, характер, пластичность, что и в портрете. Так же. А художники – народ интересный, надо сказать. Был, например, у меня один знакомый, Колесов. Умный собеседник, помимо всего прочего. Болтали с ним при встречах о судьбах человеческих, различных веяниях, модах, вкусах, литературе, различных случаях. Образованнейшая была личность. Жив ли он? Так смерть косила ленинградцев в блокаду!.. Ну, так вот он десять лет примерно писал пьесу.
– Что, сам по себе? Никто не просил его об этом?
– Разумеется. Труд художника, писателя таков. Никто не заставляет. Кто ж станет просить, если еще неизвестно никому, в том числе и самому творцу, что из задуманного выйдет, будет ли толк? Нечто стоящее или сплошь глупость? Ведь многие пробуют… Да не у всех получаются шедевры. Бывало, увидимся – спрошу: «Как идет у Вас?» (он был порядком старше меня). – «А что?» – уточнит он. – Но мы-то, посвященные, об этом его увлечения уж знали – он сам хвалился, без радости, правда. – «Ну, конечно, самое главное». – «Ах, пьеса! Да это уже выходит драма. На нее повернуло отражение эпохи. Я хотел бы дать тебе на прочтение немного – картины две, узнать твое мнение». – «Принесите, буду рад». – «Начало у меня еще не сделано. Самое трудное в произведение – начало и конец; их надо потом делать, когда все написано. Воистину они должны стрелять. Это кто-то Чехова обвинил в том, что у него в каждой пьесе герои стреляют. Однажды даже Лев Толстой сказал ему – наклонился к уху и сказал: «Зачет Вы пишете пьесы? Ведь даже Шекспир не всегда писал их хорошо» – старик не любил Шекспира. Вот у Шоу, я считаю, очень интересные пьесы – крутит, крутит вокруг какого-нибудь одного события; у Шоу трагедия и смешное рядом, как в жизни переплетены». Но я уже перевожу разговор на иное: «Сегодня погодка ладная, день красивый». – «А вчера как чудно было», – не отстает Колесов. – «Нет, – говорю, – превосходен день для этюдов». – «Вчера так мотало тополи, еще зеленые (они не хотят сдаваться), – ветер с первым снегом, уф! Я люблю такую забубенную погоду. Помнишь, это как у Достоевского, когда Сдвиригайлов шел стреляться – было точно такое ж светопреставление, – понесло опять по кочкам Колесова. – А ты все-таки пишешь этюды?» «Не бросаю. И сегодня поехал бы – написал бы с удовольствием первый снежок». – «Как же, надо, сразу свет прибавляется. В бездну осени. А ты не пробовал записывать, какие видишь краски?» – «Да, иногда записываю на полях своих акварелей. Когда не успеваю, скажем, передать небо, насколько оно изменилось, – посинело или полиловело»… – «И я вот в молодости записывал. Для памяти великой. Знать, от того и пошла у меня страсть к писанине, изложению чего-то словами. Но и помню: наш педагог Таршанский говорил нам, студентам: «Мне, ребятки, не обязательно писать этюды. Я всегда держу при себе маленький блокнотик; взгляну на пейзаж, на натуру и записываю, где какие краски и, конечно же, крохотный рисуночек карандашом накидаю. А дома спокойно пишу пейзаж. Так некоторые художники ухитряются писать, быть на уровне». – Я говорю: «Но это же профанация творчества. Природа-то подсказывает почти все: не только ритм, краски. Важно и состояние твоей души. Сейчас дерево стоит царственно, но подул ветер – и оно упруго взогнулось, листья блестят, повернулись другой стороной, трепещат, рябь по траве бежит…» – «А, все дело, Федорыч, в том, что есть художники, которые раскрашивают холст красками, и есть художники, которые пишут своей кровью. Их следует различать. Я не о себе, конечно, говорю; я-то давно конченый человек, потерявший свою жизненную стезю». Начну разубеждать его: «Ну что вы, дорогой…» Перебивает: – «Да, да, не говори, пожалуйста…» Этак переговорим с ним где-нибудь на ходу, в коридоре того же издательства, где зарабатывали хлеб насущный, – и разойдемся. До новой встречи. Уйдет он, сгорбленный, побитый жизнью, с кожаной папкой под мышкой – несет к себе домой фотографии для ретуширования, чем был вынужден тоже заниматься, чтоб кормить свою семью. Идет и попыхивает папироской.
XII
– В общем, жизнь сложна, – разговорился Илья Федорович. – Каждый день приносит что-то новое. Трудно с ходу ухватить все. Как же художнику не практиковаться в своем ремесле – да я не представляю! Это все равно что велосипедисту, не учась, сесть за руль автомашины. Но не в этом еще суть. Все нужно испытать самому. На меня, например, в осенние дни находило какое-то смятение, я испытывал небывалый внутренний подъем. Мокро ли, не мокро ли, но какие краски вокруг – одно загляденье! Делая этюды, я становился как бы богаче и счастливее. Был у меня как раз такой период жизни, когда чувствовал все на подъеме; как будто предчувствовал, что больше уж не будет подобного времени и нужно им дорожить. Хотелось послать ко всем чертям все жизненные мелочи. Я видел, понимал как никогда, знал, как сделать что, – позволяло мастерство. И с каждым разом, работая лучше и уверенней, наблюдал краски земли все особенней – и хотел нарисовать ее попроще и родней… Измокнешь весь под дождем, устанешь, закоченеешь на холоде; зато несешь с собой (и в душе) нечто выдающееся для себя и только ждешь другого раза, чтобы написать все уж так, как никогда еще до этого. Бог знает, для чего.
Видимо, у нас, живописцев, душа такая неуемная. Мы все равно что завещаем людям красоту увиденную…
Нередко с этюдником проходил мимо прелестных уголков на Каменном острове с кирпичными кладками еще петровского времени (Петр Первый обязывал каждого, кто ехал в строившийся Санкт-Петербург везти камни), какими-то построечками, крохотными забытыми улочками, аллейками, тонувшими в листопаде.
Как-то я залез поближе к проточной воде, по которой лениво гоняли лодочки (от праздношатаек иногда спасаешься ровно от дикого нашествия). До меня-то никому не добраться, и можно только посмотреть на то, что я делаю, через кусты, с берега. И все равно пришло чувство, к сожалению, что потерял в работе какой-то стержень, нет в ней желаемой свежести – пора сворачивать всё. А вечереет уж. В этюдник укладываю кисти, тюбики, разбавитель, тряпки, вытираю руки. И вот слышу из-за спины отчаянно-озорное:
– Непохоже!
Оглянулся – это хрупенькая девушка сказала. Она добавила:
– Ведь в натуре все слабее, не так ярко.
Я захлопнул этюдник и – наверх, на тропку. Только девчушечка смутилась вдруг – была, по всей вероятности, разочарована моей внешностью – и быстро пошла прочь. Но я поспел за ней. Сказал: позвольте, мол, не то, что возражу на ваши замечания, а кое-что объясню вам. Великий Леонардо да Винчи в своем трактате по искусству писал, что нельзя войти дважды в одну реку – вода окажется в ней разной по ряду признаков. Так и с состоянием природы. Пишешь-то этюд не секунду, а минимум час – обобщаешь увиденное; да и важно передать красочное сочетание в небольшом формате, исходя из своих настроений. Это ж не фотография. Слово за слово – мы познакомились. Звали ее Оленькой. Потом я даже брал ее с собой на этюды. Давайте, я в другой раз доскажу. А то увлекся и сам сбил себя – что-то рисунок мне не нравится. Я переделаю завтра-послезавтра, хорошо? – спросил он у позировавшего ему сержанта Волкова.
Тот согласился вновь позировать.
Снова Антон заскочил в комнату Тамонова тогда, когда тот сосредоточенно молча уже почти заканчивал набросок с сидевшего перед ним на стуле полнолицего Волкова. И тут он то ли под влиянием того, что рисунок сейчас удался, то ли на него дунула стихия, или почему-то – опять разговорился. Предложил:
– Так, если вы возражаете, я доскажу ту историю, помните?
– С интересом послушаем, – сказал сержант.
– У меня ведь тоже был свой профессор живописи, – начал Илья Федорович, дорисовывая портрет. – О, я думал, что заберусь к нему на чердак – и мне откроются тотчас все таинства искусства живописи. Ничего похожего! Пришел к нему в мастерскую, где он и жил, а у него почище, чем у меня, – все в папках, навалом завалено, пыль несусветная… вытереть, убрать некому… Холостяцкая жизнь… Во всю стену – книги. Стол – не стол… Завален… Корректура книжки на краешке. Тут… На полу чайник – зазвенел, покатился… Я не замечал – зацепил его ногой. На краю же стола – бутерброды… И это как-то неприятно бросилось мне в глаза. Сжалось сердце. Я спросил: «Василий Васильевич, вы когда-нибудь любили?» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, только и сказал: «Было дело». Так и я скажу: было дело – мы с Оленькой встречались.
Однажды я почистил ножом морковку, как картошку (при возвращении откуда-нибудь домой всегда заходил попутно на Кузнечный рынок, чтобы купить себе всякую снедь), и стал хрустеть морковкой. Хрустел – приходилось доедать ее, правда, еще повкусневшую от того, что полежала она день-два на столе, и ходил взад-вперед по большой пятиугольной комнате, рассуждая о чем-то с собой. Окна у нас выходили во двор-колодец с преотличной слышимостью. Думаю, что когда у меня колотилось сердце сильней, – там оно отчетливо слышалось; только не до этого было всем жильцам, чтобы устраивать театр. Было кое-что поинтересней где-то в доме. Пьяный буйствовал – и звенели, сыпались вниз разбитые стекла. И вот под этот знакомый житейский аккомпанемент, расхаживая, я внезапно решил, что жил до сих пор не так. Захотел понежней поболтать с Оленькой.. Обязательно…
Но фокус, как говориться, не удался. Мой знакомый Нефедов, видный, симпатичный, говорун, заморочил ей голову… И ему-то все не нужно, а другим вред… Как собака на сене. Он литографией занимался. Офортами. Вы знаете, у Рембрандта что такое офорты? Симфония! Каждая веточка дерева есть именно веточка, непохожая на другие. А тут – он показывал мне работы – смотрю: все сплошь дохленькие штришки, штришок на штришок – и отобрать-то нечего для заставок к книге. Хотя все это в художественном беспорядке, с претензией на значительность. Кому такое-то эстетство нужно? Это – выламывание наизнанку. Прав был Колесов. – И Тамонов вынужденно опять прервал рассказ: вошли дамы – офицеры медицинской службы Цветкова и Суренкова, и он, отдав портрет Волкову, усаживая и занимая их разговором, засуетился около них.
Даже об Антоне он мгновенно забыл.
XIII
Был на исходе 1944 год.
Снег усыпал все белым-бело, шапками навис на скученных пышных темно-зеленых елях, и старинный седой особняк, который они неизменно сторожили, был таинствен, загадочен; казалось, он молчаливо хранил свой гордый дух, недоступный еще мальчишескому пониманию Антона Кашина. В этом обезлюженном польском имении теперь, с ноября, находились одни они, военные. После долгих лет гитлеровской оккупации и хозяйничанья в нем нацистов его законные владельцы канули неизвестно куда. Восточнее усадьбы – поле кочковатое; стыли, темнели амбразуры куполообразных вражьих дотов. Пахло печалью.