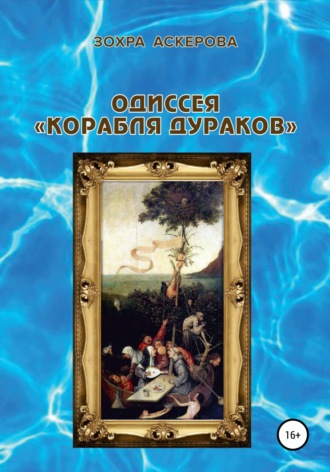
Зохра Аскерова
Одиссея «корабля дураков»
Я также хочу отметить еще одного одаренного человека – поэта, эссеиста и диссидента сирийского происхождения. Несмотря на жизненные сложности и неурядицы, он никогда не падал духом и всегда служил проявлению человеческих эмоций. Сначала отмечу, что его настоящее имя Али Ахмед Саид. Он родился в Сирии в 1930 году. Подростком он начал сочинять стихи и посылать их в разные издания, но их никто не печатал. Обладающий глубоким мышлением, Али Ахмед Саид берет себе псевдоним «Адонис» для донесения до читателей бурлящие в нем мысли и чувства. Адонис был богом плодородия в древнегреческой мифологии. Таким образом, рождается новый поэт – Адонис, и наконец, его стихи начинают печатать. В статье «Сирийская литература и ее история» Э. А. Ализаде отмечает, что на творчество Адониса оказали влияние французская поэзия и европейский сюрреализм. Сам поэт пишет об этом: «По-моему, лучший эксперимент тот, что позволяет выйти за рамки привычного, традиционного. Нужно влиться в динамику современного мира, поймать ритм жизни… Главное в поэзии не содержание, а способ выражения». «Суфизм и сюрреализм», «Музыка голубого кита» – лишь часть его творений. Елена Негода в статье «Адонис – Ницше ислама» так характеризует творческие способности Адониса: «…Либерал, космополит, модернист. Суфизм – французский символизм – европейский сюрреализм…Еще много иностранных словхарактеристик из энциклопедий и биографических очерков».
В Википедии про Адониса пишут: «Стихи Адониса кажутся как мистическими, испытавшим влияние суфизма, так и революционными, анархическими. Поэтика Адониса сложна, оригинальна и изощренна, его образы почти всегда удивляют читателя. Создавая необычную и неожиданную атмосферу, его метафоры нередко отчуждены от точной реальности и образуют собственный мир…В глазах многих читателей сборник 1961 года до сих пор считается лучшим, его самая сложная книга, 400 страничная «Единственное в форме множественного» осталось «закрытым миром» для большинства читателей».
Поэт, арабист Хедар Яафар преподает арабский язык в исламском центре в Праге. Он говорит об Адонисе: «Это Сальвадор Дали в поэзии. Он просто делает то, никому ещё не приходило в голову. «Я полон печали, как яйцо»– ну разве не прекрасно? До него так никто не сказал».
Я хотела бы преподнести вашему вниманию интервью Катерины Прокофьевой с поэтом Адонисом в эфире Пражского радио от 17 июня 2009 года.
–Вы живете в Европе. Не сталкивались ли вы с проблемой того, как западный человек понимает арабскую культуру? Я хочу сказать – не пытаетесь ли вы, чтобы ваше творчество было удобоваримее для человека другой литературной традиции, как-то специально подавать ваши стихи? Под специальным арабским соусом?
–Я никогда не пытался использовать поэзию как средство, способ что-то пропагандировать. Будь то политика или идеология. Поэт просто должен делать красиво.
–Что бы вы выбрали – справедливость, гармонию или истину?
– Если есть справедливость и истина, то никакого противоречия не будет, будет гармония.
Слова поэта о поэзии: «Поэзия не имеет начала и конца. У поэзии нет границ. Наша задача по этому состоит не в том, чтобы размышлять над её горизонтами. Не заучивать её, а идти вместе с нею. Нельзя читать стихотворение строку за строкой, читать его нужно так, словно читаешь открытое пространство». Предлагаем вам часть из его стихотворение под названием «Тот, кто ушёл преждевременно»:
Цвет революций-радуга тугая- под пеплом мира будит ото сна закованное льдом озерным Время и льёт его в иные времена, восходящие из с теста поколений,
крепчающих, как детские колени, день ото дня, из года в год,
из века в век передает всё доброе, чем славен человек.
Перевод, И.Ермакова
Адонис учился в Дамасском Университете на факультете философии, за членство в Сирийской Социальной Национальной партии был заключен под стражу на 6 месяцев. С 1985 года живет во Франции, консультант ЮНЕСКО.
В одном из своих стихотворений поэт пишет: «Я поклялся небу и себе писать на водах. Вместе с Сизифом безмолвно поднимаю камень. Моя клятва – это быть Сизифом». В стихотворении Адонис делит трудности Сизифа и сравнивает себя с камнем. Он призывает народ избавиться от духовного кризиса: «Пришло время создания нового арабского общества». Далее он пишет:
Я здесь своими глазами вижу, как испаряются воды будущего. Люди попали под чары истории, написанной мелом иллюзий.
Половинчат, ночь влажна. Пойми меня Родина, пойми, я не могу защитить тебя ничем, кроме своих крыльев.
Поэт сочувствует жалкому положению народа, протестует против войны. В одном из своих интервью Адонис говорит: «У нас настоящий интеллектуальный кризис. Мы живем в новом мире со старыми идеями… Важно построить новое арабское общество». Даже в преклонные годы Адониса беспокоит положение его страны, он желает видеть свою родину, древнюю Сирию свободной и счастливой. Однако, в последние годы о мире и спокойствии в арабских странах можно лишь мечтать. Терроризм бушует здесь повсюду. В особенности, война в Сирии не утихает. Неизвестно, когда на этих землях, ставших целью политических интриг многих государств, наконец, наступит мир. В одном из своих интервью Адонис говорит о своем отношении к оккупациям и войнам: «В Коране описывается, как Аллах слушает шайтана –своего первого врага. Шайтан же не желает слушать Аллаха. Я верю, что Аллах с легкостью мог бы справиться с шайтаном, но вместо этого выслушивает его». В этом высказывании есть намек зачинщикам войн. Адонис говорит: «Я плохо отношусь к любым вмешательствам в арабский вопрос… если мы захотим демократию, мы ее добьемся… Все гражданские права и свободы будут обеспечены нами же и самим законом». Представляю вам стихотворение Адониса:
Сказочник говорил, что присутствие Обернутое в древние одежды предков, Называется отсутствием.
Ему видна не красота сада, но лишь увядший цветок. Или дело просто в словах? Ярость земли, мечта бутонов летом, шепот пустыни- он не сказал об этом нам ничего.
Но как же так? Нельзя молчать. Вот солнце вторит с городстью опять, что мудрость света дольше и белей любой кровавой ночи на земле.
Хотя, как диссидент Адонис оказался вдали от родины, но как гражданину Али Ахмед Саиду эта родина не безразлична. Его долгие годы номинируют на Нобелевскую премию, но он так и не получил ее. В этом также кроется политический подтекст. Его философские стихи облетают мир и обнимают крыльями надежд земли Родины.
Наряду с вышеупомянутыми авторами стоит также отметить американского писателя фантаста Роберта Шекли и его повесть «Обмен разумов». Написанная в жанре сюрреализма, повесть с первого взгляда кажется плодом абсурдной логики. Произведение написано в 1965 году. Сюрреалистическое мышление, способ выражения и горькая участь Марвина Флинна, желающего сменить свою реальную жизнь на фантастические мечты, словно предупреждение читателю – быть самим собой и стать положительным героем своей жизни. Повесть начинается со странного объявления на рекламной странице газеты «Стенхоуп»: «Тихий, спокойный, эрудированный джентльмен, 43 года, с Марса хочет поменяться телами с джентльменом с Земли, на период с 1 августа по 1 сентября». Жизнь на Земле кажется Марвину такой монотонной, скучной, что он, желая получить новые впечатления и ощущения, меняется разумом с марсианином Зе Краггашем. После множества неприятных приключений он настигает Зе Краггаша в искаженном Мире, побеждает его и обратно вселяется в свое тело. Он сразу же оказывается дома и, хотя его одолевают сомнения и противоречивые чувства, Искаженный Мир берет над ним верх. Его отец, как и всегда, пасет стада крыс.
Марвин считает себя счастливо женатым на соседской дочери. Однако, если бы это счастье совпало со временем, когда он еще не обменялся разумом, то он не превратился бы в иллюзию по ту сторону кривого зеркала. Особенно хочу отметить тот факт, что писатель в «Обмене разумов» своим пером, словно кистью, изобразил сюрреалистические сцены, наполненные кривыми реальностями.
Разумеется, есть немало творческих людей, далеких от эмоциональных, агрессивных качеств, присущих большинству людей с сюрреалистичным образом мышления. Один из них – бельгийский художник Рене Магритт, резко отличающийся своим спокойным образом жизни от коллег по цеху. Он был далек от скандальных сборищ сюрреалистов, вечеринок, присущих бомонду и ничем не выделялся из толпы. Отмечу, что первые свои работы он создал под воздействием кубизма и футуризма. Но, после того, как он близко познакомился с метафизической живописью Джорджо Кирико, он дал своему творчеству новое направление. В 1927-30 года, живя во Франции, он общался с сюрреалистами – Андре Бретоном, Максом Эрнстом, Сальвадором Дали, Луисом Бунюэлем, Полем Элюаром. Именно во Франции в творчестве Рене Магритта главенствует концептуальная живопись. Магритт негативно относился к попыткам критиков раскодировать символы в его произведениях. Он говорил, что изображение другой действительности не может быть объектом философических рассуждений. В статье «Вероломство Рене Магритта: 5 загадок сюрреализма» Белла Асиева пишет: «Он едва ли не скептически относился к увлечению группы Андре Бретона – психоанализу Фрейда. К тому же, сами картины Магритта не похожи ни на безумные сюжеты Сальвадора Дали, ни на причудливые пейзажи Макса Эрнста…Сам Магритт называл свое искусство даже не сюрреализмом, а логическим реализмом и с большим недоверием относился к любым попыткам интерпретации, а уж тем более поискам символов. Он говорил, что единственное, что следует делать с картинами – рассматривать их». После Второй Мировой Войны Магритт много печатается, спорит с Андре Бретоном и выпускает манифест «Сюрреализм в свете дня». На самом деле манифест был направлен против парижских сюрреалистов.
Голубое небо занимает особое место в картинах Магритта. Недвижимые человеческие фигуры словно оживают на фоне голубого неба. Одна из самых известных его работ картина «Сын человеческий». Под ясным голубым небом стоит мужчина средних лет, в темном пальто и шляпе, а лицо ему закрывает зеленое яблоко. Возможно, это яблоко символизирует горький результат изгнания из рая пророка Адама из-за яблока, а именно, неспособность рода человеческого устоять перед земными искушениями. Мужчина в черной шляпе присутствует на многих картинах Магритта. К примеру, «Размышления одинокого прохожего», «Ящик Пандоры», «Большое столетие» и других картинах мастера. Странно, но несмотря на то, что соотечественник автора Марсель Сеппена с большим мастерством в своих работах использовал фигуру мужчины в темном пальто из сюрреалистичных картин Магритта, философские размышления в той реальности бессмысленны. В своих картинах Рене Магритт старался показать границы действительности. Он хотел уверить зрителя, что предмет, который тот видит на самом деле, это вовсе не то, что он видит. Он говорил: «Они ищут комфорт… Их цель – привести мысли в волнительное состояние… заставить зрителя думать о невозможном значении». Его коллеги странно смотрели на его качества, несвойственные художнику. Они даже спрашивали:
–
Рене, ты действительно художник?
–
Вас удивляет, что у меня в доме чисто? А вам известно, что краска должна попадать на полотно, а не на ковер? – невозмутимо отвечал он. Невозмутимые картины с невозмутимыми яблоками и котелками на невозмутимых фонах.
Валерий Койфман писал о Рене Магритте: «Мечты, парадоксы, страхи, таинственные опасности переполняли лишь его картины, но не жизнь…Как-то незадолго до своей смерти Магритт, этот изощренный мастер произнес: «Я так и не понял причины, по которой мы живем и умираем». Может быть, разгадки причин и тайн бытия художник как раз и зашифровал в своих картинах-ребусах? Все может быть». Знакомясь с его картинами «Голконда», «Заблудившийся жокей», «Фальшивое зеркало», «Сотворение человека» и другими, вспоминаешь его мысль: «Не существует ни мира, ни человека без тайн». Разные по стилям художники, своим мастерством, умением по-своему понять и передать различные события, завоевали себе поклонников и последователей. И Рене Магритт один из таких художников. По крайней мере, в отличие от своих коллег по цеху он смог стать хозяином своего творческого мира при спокойной и благополучной семейной жизни. Он покинул этот мир прежде, чем смог закончить свою всемирно известную картину «Империя света».
Выше мы упоминали необычность красок в картинах Калмыкова. Продолжая тему красок и цветов отмечу, что искусствовед М. Главуртич говорил, что на примере Чюрлениса верил в магическую и эзотерическую силу цветов и геометрических линий. К примеру, в произведениях Чюрлениса абстракционизм, сюрреализм и реализм создают единство. И действительно, цвета пейзажей в цикле его картин «Сотворение мира» словно объяты туманом галактики. Зрителю кажется, что он издалека наблюдает за процессами, происходящими в космосе. В формировании западного искусства влияние Чюрлениса велико. Ван Гога, А. Модильяни, Х. Сутина называли художниками с проклятой судьбой. Ромен Роллан писал: «Это новый духовный континент, а Чюрленис – его Христофор Колумб». Художник, как и большинство его коллег, не вмещался в этот мир. Он лишь вращался вокруг орбиты своего творчества, но также и хотел сотворить нечто необычное для простых людей, хотел быть для них полезным. Как и Франц Кафка, он чувствовал себя одиноким в обществе. Он говорил: «Я хочу всегда показывать доброту, но не знаю, из чего она состоит. Хочу продвигаться вперед, но не знаю куда. Я слаб, я чувствую, что ошибаюсь. Покажи мне в какой стране жизнь, тогда ты увидишь, сколько во мне скопилось энергии».
Чюрленис интересовался математикой, историей, древними мертвыми языками, изучал ассирийский, халдейский, финикийский языки. А также он создал свой алфавит. В его картинах можно увидеть те самые таинственные буквы. Фантастические аллюзии, образы в его картинах взяты из древневосточных культур. В его картинах присутствует синтез метафизической живописи и сюрреализма. Если в его ранних работах «Визия», «Сон», «Удобство», «Размышление» 1904-1907 годов чувствуется поэтический сюрреализм, то начиная с 1909 года метафизические тенденции постепенно проявляются в его работах. «Рай», «Дьявол», «Ангел», «Скала», «Сказка черного солнца», «Жертвоприношение» лишь некоторые из них. На самом деле композиции в его работах постепенно приближаются к метафизической живописи Джорджо де Кирико, и мы становимся свидетелями зависимости их обоих от иррациональной эстетики.
Он был не только художником, но и композитором. В его творчестве эти две ветви искусства влияли друг на друга. Чюрленис желал снять покрывало с мира и показать людям другой, наполненный тайнами мир, столь родной для него. В. Кандинский, вдохновившись творчеством Чюрлениса, пришел к выводу, что, как и музыка, живопись тоже должна быть абстрактной. Чюрленис сжигал себя в творческом огне и это сказывалось на его здоровье. Впервые Добужинский обнаруживает болезнь Чюрлениса. Когда его супруга Софья приезжает в Петербург, Чюрленис заказывает для нее дорогие подарки в магазине. Софья же объясняет продавцам, что у ее мужа психическое расстройство, и они не могут позволить себе дорогие подарки. Чуть позже Чюрлениса помещают в частную психиатрическую клинику, недалеко от Варшавы. В это же время его избирают членом общества «Мир искусства». Он также получает приглашение на выставку в Мюнхене, организованную В. Кандинским. Как и многие гении, Чюрленис, к сожалению, при жизни не получил той славы и почета, которые заслуживал. Но на выставке в Мюнхене, наконец, появились давно ожидаемые поклонники и покупатели его работ. Умер Чюрленис в 35 лет.
Говоря о сюрреализме, нельзя не упомянуть Сальвадора Дали. И как личность, и как художник, Дали многими качествами выделялся среди своих друзей. «Сюрреализм – это я», так он говорил. Он высоко ценил учения З. Фрейда. И можно сказать, что в распространении теорий Фрейда в искусстве, роль Дали велика. При содействии писателя Стефана Цвейга, Дали удается встретиться в Лондоне с больным Фрейдом. Правда, ученый не интересовался и не был знаком с новыми веяниями в искусстве, однако после встречи с Дали он написал: «Этот молодой испанец с фанатичными глазами, своей совершенной техникой живописи, бесспорно, пробудил во мне необычные ощущения. Было бы очень интересно анализировать создание подобной картины. Но также я должен признать, что на этом уровне искусство не должно расширять своих границ… В любом случае его психологические проблемы лежат на поверхности». Фрейд искренне считал сюрреалистов шутами. Вспомним фотографию Дали, на которой с его усов свисали изображения Энгельса, Маркса, Ленина,
Сталина, Маленкова…
О себе Дали говорил: «Между мной и сумасшедшим разница только одна: сумасшедший думает, что он в своем уме, а я знаю, что я не в своем уме…» Хотя между ним и Фрейдом не было взаимной симпатии, но работа Фрейда «Толкование снов» оказала большое влияние на творчество Дали. Дали называл Фрейда героем и, к сожалению, сравнивал его с пророком Иудейского народа Моисеем. Правда, у Фрейда было куда больше последователей, чем у пророка Моисея, но лишь потому, что поклоняющихся золотому тельцу всегда больше.
В 1939 году в письме Бретону Дали сообщает, что показывая одну из своих работ Фрейду, он рассказал тому, как в классических картинах он ищет что-то подсознательное, а в сюрреалистичных – сознательное. Позже с чувством гордости Дали говорил, что его встреча с основоположником психоанализа, изменила мнение последнего о сюрреализме в лучшую сторону. Сальвадор Дали автор более чем 500 картин и скульптур. «Вечная память», «Накануне гражданской войны», «Горящий жираф», «Геополитический младенец», «Тайна Вильгельма Теля», «Тайна Гитлера», «Головокружение», «Лик войны», «Слоны», «Осенний Каннибализм» лишь некоторые из них.
Сальвадор Дали был всестороннее образованным человеком и очень любил читать. Он признавался, что читая работы философов, не слишком серьезно к ним относится, но были и такие философы, над трудами которых он проливал слёзы. По правде говоря, Дали не любил плакать. Однако культура размышления о будущем человечества могли глубоко его тронуть. Он говорил: «Я никогда не был пацифистом. Я не выношу детей, животных, всеобщее голосование… когда один из моих друзей умирает, я получаю истинное наслаждение». И действительно, когда его друг Гарсиа Лорка умер, он ничуть не огорчился.
Любимыми мыслителями Сальвадора Дали, выделяющегося своими особенностями, были Платон, Спиноза, Монтень, Вальтер, Декарт, Кант. А вот Ницше он не любил. Этот художник своей экстравагантностью, своим образом мышления и стилем жизни резко отличался от своих коллег и любил быть в центре внимания. И не случайно именно о Дали, чья жизнь и творчество привлекают так много внимания, посвящены тысячи статей.
После длительной поездки в Южную Америку, Дали не общается с Бретоном, а затем по прошествии времени, сообщает тому, что он открыл в искусстве новый жанр и собирается напечатать свое новое творение под названием «Паранойякинез». По возвращении во Францию, он поделится с ним деталями. Дали от своих коллег отличался еще и тем, что он представлял себя основным, неотделимым носителем сюрреализма. И вместе с тем, он не ценил дружбу. А. Бретон в статье «Последние тенденции в сюрреалистической живописи» критикует расистские идеи Дали. Сообщает, что не серьезно относится к творчеству Дали, и что уз дружбы между ними уже не существует. Бретон, как член коммунистической партии, также критикует иронические картины Дали о Ленине. Революционно настроенный Бретон, имел особо тесные связи с Троцким. Он говорил: «Самый простой сюрреалистичный акт – это взять в руки оружие и застрелить из него как можно большее количество людей». Бесспорно, жестокие большевистские идеи совпадали с мыслями Бретона. Для изменения буржуазного общества необходимость революции в искусстве также служила идеологии коммунистической партии. Д.Хопкинс в своем статье «Дадаизм и сюрреализм» отмечал: «Как и дадаисты, сюрреалисты были по природе индивидуалистами, но Бретон намеренно создавал сюрреализм как движение с постоянными воззваниями к групповой солидарности и изгнанием недостойных по принципам политического коллектива. Он считал необходимым примирение Фрейда и Маркса. Свобода человеческого разума, полагал Бретон, должна быть обретена одновременно с революцией в обществе. С точки зрения настоящей политики, однако, эти попытки были подобны поиску квадратуры круга».
Видный ученый В.М. Бехтерев в статье “Бессмертие человеческой личности как научная проблема» пишет: «Вопрос о совместимости фрейдизма с марксизмом являлся одним из актуальных для советских ученых 20-х годов. Одни из них критически отнеслись не только к попыткам дополнить экономическое учение Маркса психоаналитическими теориями Фрейда, но и к фрейдизму как таковому, усмотрев в нем биологизаторские, субъективистские и идеалистические тенденции… По выражению Л. Выготского «гносеологически Фрейд стоит на почве идеалистической философии», психоанализ обнаруживает «консервативные, антидиалектические и антиисторические тенденции, и в целом, «не продолжает, а отрицает методологию марксизма».
Бретон был против колонизаций. Он участвовал в освободительном движении Алжира против Франции. Его коллеги подписывают подготовленный им «Манифест 121». В 1925 году сюрреалисты выступают против войны в Марокко, хотя в политическом воззрении сюрреалистов иногда были противоречия. Ранее Бретон призывал своих единомышленников к оружию, чтобы те убивали как можно большее количество людей, в доказательство тому, что сюрреализм противостоит обществу. Но затем, по какой-то причине и его единомышленников начала беспокоить безопасность людей в Марокко. Хотя большинство из них состояли в рядах Французской Коммунистической Партии, но в скором времени покинули её. Наличие у многих сюрреалистов психологических проблем, в некоторых случаях стоило им жизни, т.к. они были не в силах погасить огонь, бушующий внутри них. Ведь не случайно, эксперты изучали сходства между гениальностью и безумием.
Леонид Андреев в книге «Сюрреализм. История. Теория. Практика» сообщает: «В апреле 1925 года сюрреалисты обратились с письмом к главным врачам лечебниц для душевнобольных, которые были объявлены в этом письме «жертвами социальной диктатуры», сюрреалисты потребовали их освобождения во имя «индивидуальности, которая есть сама суть человека. Соответственно, с другой стороны, по их заявлению – «все индивидуальные акты антисоциальны». Иными словами, «я» – синоним свободы и антагонист общества, а поэтому оно адекватно безумию, ибо безумие есть свобода от разума, свобода, которая вызывает репрессивные меры общества».
Отмечу также, что иногда на художественных выставках, наряду с картинами художников выставляли работы психически нездоровых людей. Многие творческие люди выступали против этого, не принимая рисунки больного воображения за искусство. Хотя по правде говоря, среди художников было немало людей с психическими расстройствами. Сегодня они в списке самых известных и гениальных художников мира. И не только в живописи, но и в литературе, и в музыке были личности, подверженные психическим расстройствам.
19 июля 1937 года в Мюнхене открылась выставка под названием «Дегенеративное искусство». Картины использовали для показательного сравнения с произведениями неугодных режиму импрессионистами. Наряду с этим, рядом с картинами других художников на выставке демонстрировались картины психически нездоровых художников. Также организаторы выставки хотели внушить зрителям, что художников модернистов и большевиков-евреев, не любящих Германию, объединяет общая идеология. «По жестокой иронии судьбы термин «дегенеративное искусство» был введен в художественный обиход немецким писателем еврейского происхождения Максом Нордау в 1892 году для обозначения искаженных образов в искусстве.
Художники немецкого авангарда были объявлены врагами государства и угрозой немецкой культуры. Многим пришлось спасать свою жизнь. Макс Бекман уехал в Амстердам в день открытия выставки, Макс Эрнст эмигрировал в Америку при помощи Пэгги Гуггенхайм. Эрнст Людвиг Кирхнер эмигрировал в Швейцарию и там покончил жизнь самоубийством в 1938 году. Пауль Клее умер в 1940 году в Швейцарии, так и не получив гражданства из-за своего статуса «дегенеративного» художника… Про него поэт Арсений Тарковский писал:
Рисовал квадраты и крючки,
Африку, ребенка на перроне,
Дьяволенка в голубой сорочке
Звезды и зверей на небосклоне…
Попрощался и скончался Клее,
Ничего не может быть печальней, Если б Клее был намного злее,
Ангел смерти был бы натуральней.
Он о своих картинах говорил: «Линии-точки, которые пошли на прогулку».
В те годы многие еврейские художники, не покинувшие страну, погибли в концентрационных лагерях или по программе насильственной эвтаназии».
Гитлер про сюрреалистов говорил: «Каждый художник, который изображает небо зеленным, а траву голубой, должен быть подвергнут стерилизации». Сальвадор Дали говорил про Гитлера: «Любите Гитлера! Он – само безумие, сосуд, изливающий бред». «Форма усов исторически обусловлена. У Гитлера не могло быть никаких других усов – только эта свастика под носом».
Но наряду со всем этим стоит отметить, что Гитлер и сам был художником, и отнюдь не плохим. Странно, но в его пейзажах чувствуются внутреннее спокойствие, красота. У всех, кто видел его картины, рождалось одно мнение: “Лучше бы он стал художником». Картины, которые он рисовал прежде чем заняться политикой, и сегодня продаются на аукционах.
Как я отмечала выше, один из ярких представителей сюрреализма французский художник немецкого происхождения, график, скульптор, поэт Макс Эрнст был поклонником психотерапевта Ханса Принцхорна. Его называли Серым Кардиналом сюрреализма. «Цебелес», «Царь Эдип», «Император Убу», «Французский сад», «Сомнительная женщина», «Хромая лошадь», «Двое детей и соловей», «Женщина, старик и цветок» – именно этими картинами он прославился на весь мир. Самым любимым его художником был Ван Гог. Когда дадаизм стал известен в Германии, он с большим энтузиазмом и рвением работал в этом жанре. Позже дадаистов сменяют сюрреалисты. В 1923 году он рисует свою первую сюрреалистическую картину «Людям это неведомо». Пейзаж его фантасмагорической картины «Украденное зеркало» – плод его воображения, картина похожа на сон и напоминает героев картин Иеронима Босха.
Надо отметить, что Дали работал с параноидным бредом, Миро – с архетипами сознания типа юнговских, Эрнст же работал со сном. Он был первым художником, который исследовал «Толкование сновидений» Фрейда. Его картина «Глаза спокойствия» как бы воспроизводит сцену античных времен, накрытых зеленым покрывалом. Но отнюдь не один лишь сон был источником вдохновения Эрнста. Он мог преподнести нереальность как реальность и уверить в этом окружающих. Дали смог перенять эти качества Эрнста. Эрнст же в свою очередь перенял эти качества у Кирико, обогатив ее тем самым лотреамоновским сочетанием несочетаемого. Он усовершенствовал технику декалькомании, придуманную другим сюрреалистом –Домингесом. (Декалькомания – способ перенесения многокрасочного рисунка с бумаги на стекло).
Андре Бретон про Эрнста писал: «Макс Эрнст обладает безграничными способностями, решив покончить с мошеннической мистикой мертвых изображений…». Немецкий художник Макс Эрнст также в своих картинах изображал сцены, словно из параллельных, несуществующих миров. «Лес и черное солнце», «Окно безмолвия», «Каменный город», «Искушение Святого Антония» лишь некоторые из них.
В 1914 году в ходе Первой Мировой Войны Эрнст был отправлен на фронт. Своими ужасающими картинами война стала моральной трагедией Эрнста. В 1921 году в Париже организовывают первую выставку работ Эрнста. В конце 20-х годов прошлого века, он вместе с Миро работает как художник-постановщик в спектаклях театра и балета. В 1925 году в свет вышла книга работ Эрнста под названием «Естественная история», а в 1929 году графическая новелла «Женщина о 100 головах». В 1930 году Сальвадор Дали и Макс Эрнст, как художники, вместе работали над фильмом «Андалузский пес» Луиса Бунюэля».
В книге «За пределами живописи» он подчеркивает: «Будучи человеком заурядной конституции, если использовать оборот Артюра Рембо, я приложил все свое старание, чтобы сделать свою душу монстрообразной. Из слепого пловца, каким я был, я превратил себя в видящего (провидца). Я видел и обнаружил, что я влюбляюсь в то, что вижу, и хочу идентифицировать себя с увиденным мною. Так рождались работы и образы себя».
Луи Арагон когда-то сказал о его произведениях: «Это апокалипсические пейзажи, невиданные места, пророчества. Он переносит вас на другие планеты, в другие эры, к огромным вулканическим лианам, огромным угольным пустошам».
Хоть и кратко, но мы взглянули на уникальное творчество Макса Эрнста. Сегодня его работы хранятся в самых известных музеях мира и в личных коллекциях. В его картине «33 девочки гоняются за бабочками» единство белых, желтых и голубых красок превратилось в символ жизни и надежды. Словно то место на лоне природы, где невидимые девочки ловят бабочек – это адрес беззаботного детства.
Безвинные дети тоже имеют «крылья». Я желаю, чтобы их счастье и радость длились намного дольше, чем жизнь бабочки.
Отмечу также, что супруга М. Эрнста Доротея Таннинг – также известный художник-сюрреалист. Признаюсь, что в этом эссе я не уделила внимание женщинам-художникам и потому кратко пройдёмся по творчеству некоторых художниц. Обратимся к статье «Колдунья, дитя, андрогин: женщины в сюрреализме», переведённую Сергеем Дубининым с французского языка: «На протяжении почти полувековой истории сюрреализма – от «Манифеста» Андре Бретона 1924 года…до смерти Бретона в 1966 году и заявления его соратников в 1969 году о конце «исторического» сюрреализма … принимало участие болeе 30 женщин».
До Доротеи Танниг, супругой М. Эрнста была Пегги Гуггенхайм. Хотя она и не была художницей, но покупала за бесценок картины молодых художников и организовывала их выставки, к примеру, Кандинского, Дали, Пикассо, Танги, Поллока, Кокто и других. После того как художники завоевывали популярность, их произведения продавались на аукционах за большие деньги и таким образом, Гуггенхайм зарабатывала на их творчестве.



