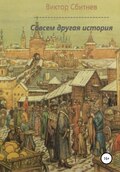Виктор Альбертович Сбитнев
Время животных. Три повести
Глава пятнадцатая
Вскоре после истории с Клушиным Иван стал замечать, что его впервые столь явственно потянуло к университетским пристрастиям, от которых надолго отучили армия, война и ранение. Многие годы он был абсолютно убеждён в том, что начни он читать и напрягать свой мозг кантовскими императивами, и ему, этому кое-как прикрытому титаном мозгу, быстро придёт полное и безоговорочное самоуничтожение. В лучшем случае, он навеки пропишется в сумасшедшем доме, где современные транквилизаторы быстро и без проблем доведут остатки его зыбких связей с миром до чисто гипотетических формальностей. В худшем, он вообще перестанет осознавать себя и преобразуется в овощ, каковые ему пришлось наблюдать даже в военных госпиталях, не говоря уже про специальные отделения «психушек». Нет, лучше «посох и сума» или вообще исчезнуть с лона земного, тем более, что такой финиш не за горами у каждого. Но с недавних пор визави про него забыл. То есть, говоря прямо, шизофрения вдруг взяла и куда-то делась. Распив со знакомым психотерапевтом бутылку коньяка, Иван узнал, что такое порой случается «на фоне позитивного стресса». Иван стал жадно читать, а потом и записывать усвоенное в специально купленную тетрадь. Это были уже конспекты, а тяга к дневнику, изначально предполагающему раздвоенность, по ходу стала заметно угасать. Это состояние было куда естественней того, которое он влачил после ранения в Афгане, хоть внешне ни образ его жизни, ни сам он нисколько не изменились. Разве что один Емельян почувствовал эти перемены в хозяине. Но и это привело лишь к тому, что кот стал ещё роднее и ближе. Каждое утро он будил Ивана настойчивым тереблением его носа и … расчёсыванием свалявшихся за ночь усов. Кот буквально превращал одну из лап в расчёску и, легко запрыгнув на хозяйский диван, осторожно начинал водить ей над верхней Ивановой губой – сверху вниз. Сначала Иван просто сопел, но вскоре начинал чихать и просыпался. Некоторое время они сидели с Емельяном в блаженном полузабытьи, а потом отправлялись на крыльцо умываться. Так, с отдельными исключениями, начиналось почти каждое утро.
Однако второго ноября Иван встал раньше обычного и неожиданно для самого себя вышел растереться первым снегом. Спавший на шкафу под потолком Емельян с готовностью выгнулся дугой и вопросительно мяукнул, но Иван указал коту, что он ему пока что не нужен. На улице, вопреки предположениям, было не холодно: видимо, снегопад подошёл к «Цапле» на холке циклона. Поэтому Иван легко стянул с себя сначала тёплую рубаху, а затем и майку. Снег был совсем свежим, но из-за положительной температуры уже начал слипаться, отчего льнул к телу и не спешил валиться под ноги. Пришлось, как в парилке, обрабатывать себя веничком, а потом насухо растираться полотенцем. С улицы вернулся Иван красным и возбуждённым, обуянным стремленьем решать какие-то накопившиеся за осень проблемы. «Съезжу – ка я нынче в Город, – убеждённо сказал он себе, – заплачу за квартиру, закуплю продуктов и насчёт автокредита разузнаю. Давно пора. Девятка» моя, кажись, уже всерьёз кашляет…» Поставив чайник, Иван отравился к курам, Жанне и Бориске, которых следовало накормить с запасом. Живность под навесом циклона вела себя вяло, и даже поросёнок почти не хрюкал, а лишь благодарно лизал хозяйскую ладонь и часто вертел хвостиком. Козочка тоже… польстилась лишь на хлеб, а сухой душистый клевер оставила на потом. Квёлых кур на сей раз пришлось угощать мятой картошкой с крапивой и яичной скорлупой. Собаки получили свои косточки и вчерашнего супа, а Мальва с Емельяном пили на кухне своё утреннее молоко. В наступившей окрест чавкающей истоме Иван принялся одеваться и собирать необходимые документы, которые всегда не во время исчезали и заставляли его всякий раз тратить дополнительное время и жечь чуть ли не ежедневно дорожающий бензин. Наконец, всё было собрано и сложено на заднем сидении. Рассчитывая вернуться уже через несколько часов, Иван обошёлся без наказов и прощаний, а просто запустил двигатель и торопливо нажал на стартёр. Возобновившийся снегопад мигом заслонил всю заднюю панораму, а замаскированная снегом разбитая дорога быстро отстранила его от заоконной лирики.
Но в Городе всё закрутилось не по плану. Универсам возле дома неожиданно закрыли на переучёт, в расчётно-кассовом центре пришлось выстаивать длиннющую очередь, а для оформления кредита на новый автомобиль не хватило какой-то военно-врачебной справки для предоставления положенных инвалиду войны льгот. Поэтому сначала пришлось бежать в военный госпиталь, где Иван последний раз подлечивался, потом – в нотариальную контору, потом терпеливо выслушивать преклонного возраста соседку, которая поливала в его квартире цветы, потом объезжать сразу несколько магазинов и по дороге перекусывать в кафе. Словом, когда программу-минимум худо-бедно можно было считать выполненной, на город стал неминуемо падать вечер. Заперев в потёмках квартирную дверь, Иван с облегчением направился к оставленной возле подъезда машине, но по дороге почувствовал нервную вибрацию сотового в грудном кармане. Звонил Карасик. Слышимость была отвратительной, но главное Иван понял: его дача в огне, вызвали пожарных, но они ещё не добрались. Перед тем, как сесть за баранку, он вызвал на дачу милицию, поскольку мало сомневался в поджоге.
Торопиться уже не имело смысла, но он торопился. И толкало его к этому отнюдь не горящее в эти минуты имущество и даже не обязанность перед Машей. Он никак не мог отделаться от укоризненных взглядов своих четвероногих, которые сумели вылечить его от самой тяжкой, самой безжалостной и наверняка бы убившей его болезни. Болезни вселенской тоски и одиночества, от которой так и не придумали лекарств и которая почти всегда, рано или поздно, приводит заболевших к печальной развязке. Ещё воинственные индейцы, пролившие реки чужой и своей крови, называли её «страной печального вечера». И Иван, как никто, понимал их. Подъехать к даче, а точнее к тому, что от неё осталось, Ивану не удалось, поскольку всю узкую дорожку между забором и опушкой занимала огромная красная машина, пожарные рукава, какой-то дымящийся скарб и равнодушные в робах люди, которые всего лишь занимались привычным для себя ремеслом. Ивану даже показалось, что работали они нехотя, ибо рассчитывали тушить нечто более серьёзное, а не старый деревянный домишко с убогими сараями по краям. Иван рывком отворил ещё тёплую закопченную калитку и сразу понял, что куры, поросёнок и коза наверняка сгорели. Опять этот преследующий его в последнее время тяжкий дух палёного, разбросанные по огороду обгоревшие перья и какая-то непривычная для его жилища тишина. Шевыряться в головешках он побоялся, а потому на какое-то время застыл в нерешительности. В чувства его привёл Николай, который тоже только что подъехал из Города и изрядно пах пивом. Он усадил стремительно теряющего силы Ивана на уцелевшую ступеньку, на которой прошлым летом умерла Машина мама, старенькая учительница, и с жаром стал его в чём-то убеждать. Но Иван ничего не слышал, а лишь покорно мотал головой и тёр себе щёки замазанными сажей ладонями.
Из всех его питомцев нашли только обгорелого Емельяна, который каким-то невероятным образом сумел просочиться в подпол и схорониться в сыром заплесневелом углу. Командир расчёта принёс его на куске смоченного холодной водой брезента. Особенно сильно у кота обгорели лапы, уши и хвост, и он, учуяв хозяина, по-кошачьи заплакал. В это время прибыла милиция, и Иван отнёс кота на опушку, где сразу заметил несколько сильных ожогов на груди и спине. Здесь, на ошмётках почерневшего снега, они и просидели до конца пролива растащенных брёвен и иных дачных останков. Скоро кот перестал плакать и даже несколько раз лизнул хозяину руку. Иван внимательно посмотрел в страдальческие Емельяновы глаза и сам едва ни заплакал от жалости и острого чувства несправедливости, ибо, вполне привыкнув к боли, которую люди регулярно доставляют друг другу, так и не смог свыкнуться с болью, которую куда чаще перемогают несправедливо обиженные человеком животные. «Я клянусь тебе, Клушин! Тебе будет куда больнее, чем Емельяну. И, может быть, даже больнее, чем Мальве и её невинным товарищам», – пообещал вслух Иван, достал из кармана коробочку со шприцем и ампулой обезболивающего, которым нередко спасался сам от хаотичных приступов мигрени. Привычно обломав носик стекляшки, он всосал из неё поршнем два кубика прозрачной жидкости, осторожно оттянул коту шкуру на загривке и легко проткнул её тонкой иглой. Через несколько минут Емельян заметно успокоился и даже блаженно обмяк. А потом, когда к ним подошёл милицейский капитан, Иван стал подниматься на ноги, размышляя, куда бы на короткое время пристроить обгоревшего друга. Правильно оценив ситуацию, капитан не решился понукать погорельца, а тоже присел рядом и стал терпеливо ждать. Потом Иван долго подписывал какие-то бумаги и односложно отвечал «да» или «нет». В заключение капитан, неторопливо прикуривая от какой-то стойкой головешки, как бы между прочим, заметил Ивану:
– Товарищ майор, я понимаю, что Вы тут первый сезон и по ходу серьёзных врагов вряд ли нажили, но факты – упрямая вещь. Это стопроцентный поджог. Мой эксперт даже остатки горючки нашёл и на самом доме, и на остове бани. И двери были с улицы подперты. У меня такое ощущение, что поджигатели, возможно, полагали, что Вы не выходили из дому. Просто после вашего отъезда в Город опять пошёл снег и быстро занёс все следы. На гараже у вас висел замок, а потому было не понятно – дома Вы или в отъезде. Короче, налицо попытка убийства. Иван согласно кивнул в ответ и с заметной усталостью заговорил:
– Враги… Их, мне кажется, нынче должен иметь каждый нормальный русский мужик, если он по природе своей не гнида, или если его ни купили… гниды. Я почти уверен – кто заказчик, только Вам-то это зачем? Подумайте, он из нынешних хозяев жизни.
В это время в милицейском УАЗе запустили двигатель, и рассеянный свет плохо отрегулированных фар выхватил прилипший к лапам ближайшей сосны заметно обгоревший по краям портрет, который, вероятно, поднял с пепелища усилившийся ветер. Вновь вознесённый событиями к небесам главнокомандующий всё с той же артистической безупречностью наблюдал за происходящим внизу. Ивану даже вспомнилась старинная гравюра, на которой рельефно были изображены две воюющие армии, некие уничтожающие друг дружку людские множества. А с самого неба на них величественно взирал Бог войны. И не взирал даже, а что есть мочи дул, способствуя всеми силами распространению губительного огня не понятно из-за чего разразившейся брани. По лицу капитана вновь пробежала тень понимания, он протянул Ивану руку и, кивнув как после только что достигнутого согласия, сказал громко и уверенно:
– Вы пока приходите в себя. Вон сосед Вас уже давно зовёт. А я завтра-послезавтра Вам позвоню и думаю, мы найдём общий язык. Мы с Вами, что ни говори, хоть и в разное время… один университет заканчивали.
А когда милиция уехала, Иван осторожно взял на руки Емельяна, окрикнул Николая, и они, вооружившись лопатой и фонариком, двинулись к опушке копать могилы для погибших животных.
Эпилог
Вернувшись с ручья, покормив и поласкав кота, Иван вдруг решил, что посвятит остаток дня приготовлению куриного плова, которым Маша могла угощаться хоть каждый вечер. Он начистил и нарезал моркови и лука, а потом аккуратно покрыл ими промасленное дно чугунного казана. Помешивая прожариваемые на медленном огне овощи, он неторопливо насыпал сверху около килограмма длиннозерного риса и долил казан до самого верху родниковой водой. Кура, как ей и положено, тушилась в тушилке, приправленная чесноком и специями. Он не любил смешивать эти две субстанции загодя, ибо был уверен, что у риса своя судьба, а у курятины – своя. К тому же приготовленный таким образом рис легко мог стать достойным гарниром не только к любому мясу, но даже к рыбе. Николай уже несколько раз выразительно пощёлкивал себя по горлу, но Иван упрямо просил потерпеть до стола и лучше от греха резать салат. Наконец, стол был накрыт, Иван разлил красное вино по бокалам и предложил тост:
– В конце прошлой осени сгорел наш старенький дом. Вместе с ним огонь забрал моих верных друзей. Слава Богу, Емельян вот уцелел. – Он с признательностью погладил примостившегося на коленях кота. – Но мы обязательно уже этим летом выстроим новый. И в нём, надеюсь, ещё успеют освоиться наши новые друзья, потому что все, кто мешал нам жить, сидят нынче в тюрьме. А больше врагов я постараюсь не заводить, потому что устал воевать. И потому, что у меня появились молодые единомышленники… даже в милиции. За новый дом, за тебя, Коля, за нас с Емелей, за всё доброе, что было в старые времена, и за новое время для наших друзей!
Они дружно выпили. Где-то далеко за лесом крикнул на стрелке очередной товарняк, а прямо над их головами принялась за своё знакомая своей редкой интонацией кукушка. Она устроилась в аккурат на ветке, за которую зацепился во время минувшего пожара обгоревший по краям портрет. И карамелевый, весь в подпалинах кот долго-долго тёрся о ноги двоих вдохновенных мужчин, которые терпеливо считали годы отпущенного оракулом времени.
Дива
Где ты, звезда моя заветная,
Венец небесной красоты?
Иван Бунин «Сириус»
Глава первая
Сириус встал над селом уже в сумерки, когда ещё и месяц-то был тускл и туманен. В это время из неказистой, крытой толем избушки торопко вышел лысоватый с лихо закрученными усами мужик и, вольготно развалившись на завалинке, стал мастерски вертеть козью ножку, распространяя окрест дурманящий запах обильно сдобренного травами самосада. Основательно послюнявив отрывной край аккуратной газетной воронки и настойчиво пройдя по нему обрубками большого и указательного пальцев правой руки, мужик достал спички и вскоре уже довольно попыхивал самокруткой то вправо, то влево, разгоняя скопившуюся над головой мошкару. При этом на набирающий силу серебряный месяц он почти не смотрел, а вот голубой Сириус забирал его всё больше и больше. И если бы кто-либо из местных умников наблюдал его в эти минуты со стороны, то наверняка бы заметил, что странный сельчанин очень похож на Икара, который готовится обрести крылья и рвануть к самой яркой небесной звезде, словно к появившемуся после долгой разлуки дому. Но оба здешних умника – председатели сельского совета и колхоза – к этому времени уже изрядно нахлебались дармового самогона и наблюдали разве что красные щетинистые рожи преданных им земляков-собутыльников.
Странный этот мужик, однако, носил привычное для каждого русского уха ФИО – Иван Иванович Фёдоров. Впрочем, никто в селе, кроме соседки Нинки, его ни по имени, ни по фамилии не кликал. Издавна все звали его Дивой Беспалым. Дивой – за дивное отличие от остального сельского населения, Беспалым – из-за отсутствия значительной части пальцев. Разумеется, здесь не лишним будет прояснить, в чём состояли эти отличия, отчего их сочли дивными? И почему у Дивы не хватало пальцев? Отличия были во всём, и было их куда больше, чем сходств. Последние заключались, главным образом, в наличии у Дивы двух рук, двух ног, головы, туловища и русского языка. Всё остальное – сплошь отличия! Во-первых, Дива жил бирюком – на отшибе, на берегу лесной речки, которая питала сельские пруды. Во-вторых, он не был женат, несмотря на то, что после войны замуж за него были готовы выйти более половины местных женщин – как вдов, так и засидевшихся девок, «вековух». Но он не то что бы презирал бабье общество или там, наоборот, был ходоком по женской части, – нет, он общался с бабами куда охотнее чем с мужиками, со знанием дела разделяя их житейские заботы, радости и боязни, только вот замуж ни одну из них ни разу так и не позвал. В-третьих, никто из сельских мужиков не мог похвастаться дружбой с ним, и даже не дружбой, а хотя бы тем, что сиживал с ним за бутылкой или косил в паре, или рубил баню, или резал поросёнка. И ни над кем, вроде, Дива не подсмеивался, никого ни разу не осуждал, ни с кем искони не ссорился, но друзей-приятелей у него в селе так и не появилось. Грубо говоря, к нему ничто человеческое просто не липло: ни дружба, ни ненависть, ни правда, ни кривда. Был он столь свободен и независим, что все встречные люди, как те курьерские поезда с грохотавшей неподалёку транссибирской магистрали, пролетали, не останавливаясь, всё мимо и мимо. При этом он всем вежливо кланялся, со всеми здоровался и даже нередко перекидывался парой-другой казённых фраз, но не более того. В-четвёртых, Дива не состоял в колхозе, хоть и слыл самым сведущим в сельском ремесле. Не раз то председатель колхоза, то главный агроном, то партийный секретарь заводили с ним пропагандистские беседы на предмет вступления в колхоз на самых выгодных для Дивы условиях, но получалось это у них как-то уж очень неумело. Нет, с другими сельчанами были они и красноречивы, и авторитетны, и, главное, убедительны. А с Дивой почему-то ничего не получалось: все их доводы словно зависали в пространстве, слова и отточенные годами фразы вдруг начинали казаться чужими и вообще высосанными из пальца. После одной из таких бесед секретарю партийной колхозной ячейки Иосифу Давыдовичу Небольсину почему-то даже стало стыдно, и он впоследствии больше ни разу на такие беседы не отваживался. Председателя же колхоза «Рассвет» Семёна Дерябина разговор с Дивой ввёл в великое смущение – и это при том, что последний ему ничего крамольного ни о колхозе, ни обо всём кооперативном движении вроде бы и не говорил. Он просто искренне назвал те досадные, с его точки зрения, причины, которые пока что не позволяют ему стать советским колхозником. В-пятых, Дива не имел ровно никаких контактов ни с сельским советом, ни с его председателем Самсоном Ищенко, у которого всякий сельчанин выписывал березняку на дрова, сосняку на строительство и угодья под сенокос. Дива же, несмотря ни на что, добывал всё самостоятельно: траву возил с дальних вырубок, на дрова рубил сухостой или собирал валёжник, а за строевыми деревьями ездил в лес по ночам, когда все обходчики и егеря смотрят себе безмятежные сны. Причём, он пилил лес таким хитрым образом, что на порубочном месте не оставалось ровно никаких следов. Однажды местный полесчик Пахомыч всё-таки настиг Диву за порубочным занятием, но это ему ровным счётом ничего не дало. Он проговорил с нарушителем ровно пять минут, после чего они мирно разошлись: Дива с распиленной сосной на тачке заспешил в село, а Пахомыч на видавшем виды «Ковровце» – к себе в лесничество. Странно, но после этого случая лесник здоровался с Дивой особо тепло и даже почтительно. В-шестых, Дива бывал на селе крайне редко, только из острой необходимости, отдавая почти всё своё время лесу, полю и домашнему хозяйству. А есть ещё в-седьмых, в-десятых и даже в – двадцать пятых! Именно исходя из последнего, все отличия Дивы от остального Мира и можно назвать дивными, ибо дивна сама по себе столь вопиющая независимость одного человека ото всех остальных, и не только от конкретных людей, но и ото всего созданного ими на селе. Что же касается обрубленных пальцев, то их молодому Диве отрезали ещё до войны, когда он, пьяный, не сумев доплутать до своей избы, на лютом морозе рухнул прямо под заметённый снегами забор. Самого Диву кое-как отогрели спиртом, а вот половина пальцев на обеих руках отмёрзла начисто. В селе рассказывали, что чудного непьющего Диву подпоили его же беспутные одногодки, добавив в сельповское пойло для верности куриного помёта. Одногодков вскоре убили на войне, а Диву из-за этой их «насмешки» над ним на фронт так и не взяли. И потому, когда война кончилась, и в село вернулось дюжины полторы искалеченных людей, Дива Беспалый оказался среди них самым здоровым и справным мужиком, в связи с чем его первое время даже недолюбливали. Но он был столь сдержан и не злопамятен, что всякие антипатии к нему очень скоро уступили место стойкому умеренному уважению. А обрубки пальцев…они остались красноречивым свидетельством единственного тесного общения Дивы с человеческим обществом.
Глава вторая
Утро девятого июля 1975 года застало Самсона Юлиановича Ищенко в погребе, где помимо бочек с квашеной капустой, мочёными яблоками и солёными огурцами он держал ещё и полтуши копчёной свиньи и несколько ящиков тушёнки из кроликов. Но отнюдь не продукты этим знаменательным утром беспокоили богатое воображение любившего закусить мелкого советского начальника, он лихорадочно шарил меж тушёночных ящиков сразу обеими руками в поисках заветной метрики, которую торжественно в Львовской управе вручил ему в день его совершеннолетия лидер патриотического движения «За ридну Украину» Остап Кол. В метрике значилось, что хлопец Арсений Волосюк добровольно, согласно своим мыслям и убеждениям вступает в Движение и, понимая и принимая всю ответственность, накладываемую на него этим членством, обязуется то-то и то-то… До почти самого 1945 года он про эту ответственность примерно помнил и даже нередко напоминал тем из сотоварищей, кто по известным причинам начинал во взятых на себя обязательствах сомневаться. Но однажды, узнав от знакомых поляков, что севернее, с территории Белоруссии, советы уже перешли границу СССР, Ищенко страшно испугался своего неосмотрительного членства и стал бешено раздумывать над тем, а как бы это на годик-другой «трохи сховаться». Помогли уцелевшие львовские евреи, которых прежде украинский патриот Ищенко по обязанности разоблачал. За золотые часы и перстень с дрянным рубином, у них же отобранных, местный стряпчий Абрам Карасик изладил патриоту документ со всеми необходимыми печатями, что он теперь не торговец немецкими туалетными принадлежностями Арсений Волосюк, а Самсон Ищенко, простой рабочий с местного мыловаренного завода.
– Где же она, проклятая?! – Вслух выругался председатель сельсовета. – Кажись, нашёл. Он вытянул из-под одного из ящиков небольшой кожаный мешочек с овечьей шерстью, а в ней обозначились заветные жёлто-голубые корочки львовского удостоверения Арсения Волосюка. Можно было, конечно, стать и Иваном Ивановичем Ищевым или Ищеевым, но осторожный патриот понимал, что с его выговором лучше быть Ищенко. Он им стал. А далее, однажды уже опьянённый кое-какой властью, он попытался добиться её и на территории советской России, куда перебрался с Украины, чтобы не быть случайно узнанным кем-либо из своих прежних недругов. Поначалу, как большинство его земляков, он хотел рвануть либо в Сибирь, на Енисей, либо на Дальний Восток, в Приамурье, но по ходу обратил внимание на то, что в Центральной России, где не вернулось с войны более половины мужского населения, будет куда спокойней. А главное, на таком мужичьем безрыбье, ему все карты в руки! Но власть к Ищенко больше не шла: подводили старые стереотипы и воспитанное немцами стремление к железному порядку. Вот как раз порядок в России никто не любил: ни партийные начальники, ни простой трудовой народ. Порядок подводил Ищенко трижды: только-только достигнет он приличной должности, так сказать, стартовой площадки, точки отсчёта, как бац – и всё прахом! Почему? А просто потому, что именно этот подчёркнутый и где-то даже показной порядок ему сослуживцы и не прощали, ибо его им вечно ставили в пример и… они начинали этого аккуратиста ненавидеть и соответственно при случае подставлять, поминая при этом «мудрое» сталинское: нет человека – нет проблемы! Наконец, Ищенко это надоело, и он пустил всё на самотёк.
– Ну, и хрен с вами, жрите с полу и ссыте по углам, быдлаки! – Молвил он в присутствии своей второй жены Софии Ефимовны Столбовой и устроился заведующим вещевым складом в райпотребсоюз. Там он и просидел более десяти лет, до первой серьёзной ревизии, после которой, чудом избежав посадки, оказался счетоводом в Меже. Далее пришлось завоёвывать авторитет межаков, пробиваться в депутаты и лишь потом претендовать на кресло председателя сельсовета. Но опыта Ищенко было не занимать, а потому стал он через несколько лет мытарств и унижений внешне вполне уважаемым на селе председателем, вокруг которого все, кроме Дивы Беспалова, крутились и вертелись. Больше других этой перемене мест и обстоятельств была рада Софья Ефимовна, собравшая во время мужнина заведования в потребсоюзе богатейший гардероб! И теперь, появляясь на людях всякий раз в новых нарядах, она с наслаждением наблюдала, как тушуются при её появлении все местные красавицы, даже из молодых, не говоря уж о её ровесницах-дурах, которые моднее пухового платка или аляповатого шерстяного полушалка за всю жизнь ничего и в руках-то не держали. А, бывало, что супруг брал её с собою и в райцентр, на партийно-советские сборища, где она тоже положительно всех затмевала, даже дочку местного часовщика Соньку, одевавшуюся богато, но совершенно безвкусно.
– Нет, Самсончик, ты видел? – Требовательно теребила она мужа по возвращении. – Чего эта дура только на себя ни навертела! Юбка кремовая, прозрачная, а через неё синие трусы так и лезут! А ещё она переняла моду, думаю – из телевизора, появляться на публике без лифчика. И это с её-то дойками! Но ведь они же у неё давно не стоят. Да, и стояли ли вообще когда-нибудь? Самсон, ты скажи её папаше, чтоб не позорила почтенную фамилию, пусть наденет натитишник!
– Софочка, непременно скажу, завтра же на дне рожденья у начальника милиции. – Отвечал блаженно развалившийся на венгерской кушетке муж.
– А ты не возьмёшь меня с собой к этому солдафону Хватову? – С укоризной вопрошала супруга.
– Софа, я бы охотно, но этот солдафон, как ты выражаешься, предупредил, что это будет чистый мальчишник. – Отвечал виновато супруг. – Ты же знаешь, родное сердце, что Хват свою жену терпеть не может уже лет десять. С тех самых пор, как эта кляча уморила с трудом появившегося на свет сынишку. Просто забыла его на морозе возле поликлиники. Крупозное воспаление – и кранты!
– А почему он с ней не разведётся, Самсон? – Недовольно, словно речь шла о её родном брате, спрашивала супруга. – Взял бы молодую, она бы ему ещё нарожала, и не одного.
– Я думаю, что он за карьеру свою боится, – делился своими соображениями Самсон. – Он мне как-то говорил, что у них с этим строго, за развод врежут хуже, чем за пьянку.
– Вот дураки! – Сетовала на всю советскую милицию София Ефимовна. – Неужели для того, чтобы получить полковника, надо всю жизнь прожить с крокодилом?
– А вот всё у них тут так! – Вспомнив свою львовскую молодость, воскликнул Ищенко. – Порядку на деле никакого, а видимость подай! Возьми вот, к примеру, нас, партийных и советских работников. Кто без проблем идёт в рост и загребает разные там поощрения и награды?
– Блатные что ли? – Высказала догадку жена.
– Скажешь тоже! – С усмешкой возразил муж. – Блатные в торговле процветают или в обслуживании. А у нас процветают те, которые больно много не размышляют – «быть или не быть?», а живут по поговорке «Бей своих, чтоб чужие боялись!». Ты вот, Софа, можешь припомнить, чтобы я кого-нибудь из своих тиранил, наказывал? Да, можешь и не отвечать, – замахал руками Самсон Юлианович, заметив преданное выражение на лице жены. – Я, наоборот, всегда для своих на всё готов. И дров по лимиту выпишу, и сенокос – извольте, да поближе к Меже, чтобы ноги каждое утро не мять, а сразу по холодку да росе – косу в руки и за дело! Да разве ж оценят это лизожопы городские?!
– Самсоша! Я тебя прошу, просто умоляю, не портить себе здоровья по пустякам!
– И это ты называешь пустяками, Софа? – С отчаяньем спрашивал разволновавшийся не на шутку муж. – Другим – повышения и награды, а меня – на склад. Скажи, за что?
– Ой, Самсон, скажи спасибо, что на склад, а не на…цугундер! – С напором возразила жена. – А что, на складе неплохо жилось. Весь район у нас в ногах валялся: отпустите то, продайте это… Звучит не очень конечно – «завскладом», а на деле – мы в районной элите под первыми номерами значились.
– Не преувеличивай, – пытался остудить супругу Ищенко. – Я всего лишь снабженец. Думаю, что все они: и Хватов, и предисполкома Насмороков, и даже сам Опалёнов видели во мне всего лишь необходимого поставщика для их благородий: вот Хватову понадобились западные джинсы – он ко мне, Насморку – ГДРовская стенка, Опалёновской Ларе – итальянское бельё и французские духи. А сколько у меня было рокировок с продскладом! Я ему финский кафель – он мне два ящика икры и растворимого кофе. Я ему – два блока финской бумаги и немецких презервативов – он мне пяток ящиков «Китайской стены»… И так далее. А здесь, в этой долбанной Меже, не очень ли, знаешь, перед председателем пресмыкаются. Иные, конечно, ради пяти кубов берёзовых дров готовы перед тобой и польку, и краковяк сбацать, а есть и такие, что мама не горюй! Здороваются, и то через нижнюю губу, сволочи… Ни тебе почтения, ни культуры, гадят на морозе и задницы рукавом подтирают, а туда же, к избирательным урнам.
– И кто же тут, в Меже, из таких, как ты говоришь, гордых да независимых? Неужели Машка Лушникова? – С ненавистью в голосе спросила Софья Ефимовна.
– Да, куда ей! – Отрицательно замотал головой Ищенко. – Она через день или с бодуна, или с переблуду. А вот конюх Евсей Хрюков, не понять, – то ли чересчур о себе мнит, мерин, то ли чрезвычайно не воспитан, то ли попросту дурак. Да, совсем забыл, есть у нас в Меже ещё один странный мужик. Дивой его кличут. Так вот, он вообще ни с кем дружбы особой не водит, но самое главное, ко мне в сельсовет – ни ногой! А ведь живёт один-одинёшенек – без дров, без сена, без пенсии… И в колхозе не состоит. Вот уж этот точно о себе много полагает, хотя, знаешь, воспитан, всегда первым поздоровается даже с поклоном, и от других межаков я о нём ничего дурного не слышал.
– А откуда он на нашу Межу свалился, ты знаешь? – Напористо спросила у мужа-председателя Софья Ефимовна. – Может, он от алиментов бегает или от милиции скрывается?
– Слушай, а правда твоя. Надо бы, ёлы-палы, пронюхать, что он за птица, а то ещё, не приведи Господь, устроит нам тут какого-нибудь купоросу, ввек не отмыться будет! – И по лицу Ищенко забегали тени сомненья и испуга.