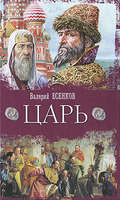Валерий Есенков
Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове
Глава шестая
Без отца
Семья наконец перебирается на прекрасный Андреевский спуск в замечательный дом, правда, имеющий номер 13. Согласитесь, фатальное, загадочное число! Она поселяется в доме, полюбившемся сразу и оставшемся светлым в благодарной памяти на целую жизнь. Недаром, поверьте, недаром он описан нашим бесподобным героем в его бессмертных творениях с удивительной нежностью несколько раз.
В самом деле, этот замечательный дом словно прилепливается к горе, так что окна, глядящие в крохотный покатый уютнейший дворик, оказываются в первом этаже, тогда как окна той же квартиры, глядящие на улицу и вместе с тем вниз на Подол, уже во втором. Комнатки небольшие, но славные, места хоть и в обрез, однако достаточно всем, живется приятно, и понемногу утверждается опасная мысль, что так беспечно и славно проживется вся долгая жизнь, а там греми выстрелы и вой диким ревом погром. Даже заводятся новые, очень домашние, идиллические привычки: от пышущих жаром, разрисованных изразцов Михаил понемногу перебирается в кресло, устраивается в нем непременно с ногами, раскрывается, о нет, не бульварный роман, а несравненные «Записки пиквикского клуба» английского писателя Диккенса, это в счастливые, безмятежные дни. В этом кресле, удобном, уютном, он то наслаждается неторопливым, вдумчивым чтением своим свежим юмором прекрасных страниц, то сладостно дремлет, в ожидании вечернего чая, звуков Шопена, боя часов и чего-то ещё, для выраженья и названья чего не находится слов.
Хорошо! Замечательно хорошо! Ничего лучшего не бывает на свете, клянусь!
Однако на пороге этого дома уже караулит беда. Весной Афанасий Иванович начинает чувствовать недомогание, неясное и потому подозрительное. Человек выдержанный, стойкий, с прочным чувством христианской готовности ко всему, он своему недомоганию не придает никакого значения и твердо надеется, что летом на даче, Бог даст, хорошо отдохнет и всю усталость снимет рукой.
Семья в самом деле выезжает на дачу. Афанасий Иванович отдыхает, почти совершенно отойдя от летних неторопливых трудов, а недомогание, несмотря на эти благоразумные меры, понемногу усиливается, и к началу учебного года вдруг теряется зрение, ослабляется весь организм. Лечащий врач и друг дома устанавливает сложное заболевание почек, назначает лечение, которое не приносит и не может принести никаких результатов. Афанасий Иванович обращается к знаменитостям киевским, потом и к московским. Усилия знаменитостей тоже не увенчиваются и не могут увенчаться ни малейшим успехом. Болезнь прогрессирует. Медицина, что называется, против этой болезни бессильна. Все видят, что человек, не старый ещё, умирает.
Отца и мужа семья окружает заботами. В академии коллеги хлопочут как можно скорей устроить его денежные дела, чтобы большой интеллигентной семье было чем жить, когда единственный кормилец навсегда покинет её. В первой половине декабря 1906 года ученый совет удостаивает Афанасия Ивановича Булгакова степени доктора богословия и ходатайствует о присвоении звания ординарного профессора перед Синодом. Тут же назначается денежная премия за его богословский труд, несмотря даже на то, что этот труд не был представлен на конкурс: задним числом за больного делают это друзья. Друзья же, едва в академии получается бумага Синода, утверждают его ординарным профессором, удовлетворяют его прошение об отставке с полным окладом содержания, который причитается ординарному профессору за тридцатилетнюю безупречную службу, хотя больной прослужил всего-навсего двадцать два года.
На другой уже день Афанасий Иванович приобщается святых тайн, а три дня спустя около десяти часов утра отходит в вечность с миром в душе. В тот же день духовенство академии служит панихиду у гроба покойного. Затем гроб с телом переносят в церковь Братского монастыря, где происходит отпевание и погребение. Один из сослуживцев говорит надгробную речь, восстанавливая в памяти последние дни:
– Беседовали мы с тобой о разных явлениях современной жизни. Взор твой был такой ясный, спокойный и в то же время такой глубокий, как бы испытующий. «Как хорошо было бы, – говорил ты, – если бы всё было мирно! Как хорошо было бы!.. Нужно всячески содействовать миру!..» И ныне Господь послал тебе полный мир… «Отпусти», – вот последнее твое предсмертное слово своей горячо любящей тебя и горячо любимой супруге. «Отпусти…» И ты отошел с миром! Ты мог сказать: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром»…
Отец Александр, добрый и мягкий, друг семьи, от смущения и неподдельной печали спотыкается в колеблющемся свете погребальных огней. Дьякон, от натуги лиловый лицом и шеей, рокочет слова прощания отцу, покидающему своих несчастных детей.
Всё, зарыли, зарыли отца…
И когда возвращаются с кладбища, облаченные в траурные одежды, бабушка Анфиса Ивановна говорит:
– Ты, Миша, смотри, взрослый уже, пора тебе звать маму на «вы».
Ему ещё целых два года учиться в гимназии, однако он хорошо понимает важный смысл этих простых слов старой женщины и с той поры обращается к маме, светлой королеве, только на «вы».
Как видите, он действительно становится взрослым, но вы спросите себя, легко ли становиться взрослым, когда тебе не исполнилось шестнадцати лет. Вы ответите, без сомнения, если положите руку на сердце, что нелегко, и будете правы.
Первым следствие смерти отца не может не явиться чувство сиротства и начинающейся ответственности перед мамой, перед семьей и перед собой, а от этого чувства быстро взрослеют. Второе следствие ещё неминуемей: хотя стараниями друзей семье определяется трехтысячный пенсион, сумма даже несколько большая, чем при жизни удавалось упорным трудом заработать отцу, её все-таки недостает на самые насущные нужды, поскольку дети неудержимо растут и требуют значительно больших расходов на свое содержание, чем было прежде. И вот опустевшее место отца принуждена занять мама, светлая королева, в далекой юности прослужившая около года в женской гимназии. А как это сделать? Её хлопоты и заботы о воспитании детей прибавляются день ото дня, поскольку малые дети спать не дают, а от взрослых сама не уснешь, к тому же неприметно невестами становятся дочери, а это особенная и мученическая статья.
На помощь приходит священник, друг дома, отец Александр, предложивший давать уроки своему малолетнему сыну, и зимними днями, в морозы и в непогоду, мальчика на санках доставляют на Андреевский спуск. Натурально, это гроши, которые не способны серьезно улучшить финансовую базу семьи. Маме, светлой королеве, приходится искать заработков на стороне, и она их находит, не совсем надежные, временные, сначала место инспектрисы на вечерних женских общеобразовательных курсах, а позднее мы обнаруживаем её в должности казначея Фребелевского общества, что тоже не избавляет семью от нужды. И приходится со стесненным сердцем, с униженной головой два раза в год отправляться в канцелярию директора Первой гимназии, Волкодава, и писать заявление поникшей рукой:
«– Оставшись вдовою с семью малолетними детьми и находясь в тяжелом материальном положении, покорнейше прошу ваше превосходительство освободить от платы за право учения сына моего…», и далее проставлять имена: Михаила, Николая, Ивана.
В канцелярии директора Первой гимназии таких заявлений целые кипы, дети Булгаковы не исключение, не одиночки ни в бедности, ни в унижении, поскольку такого рода прошения всегда унизительны для благородных людей. Русская интеллигенция не избалована заботами ни государства, ни общества, ни благодетелей из прижимистых благодетелей из заводчиков и купцов, поскольку ни государство, ни общество, ни благодетели всё ещё не испытывают насущной потребности в плодах её возвышенного, сплошь и рядом им не понятного умственного труда. Жалованье русского интеллигентного человека подло-ничтожно. Дети русского интеллигентного человека испокон веку учатся на медные деньги, на казенный кошт большей частью, словно бы в получении основательных знаний заинтересованы они лишь одни, а всем прочим обывателям государства Российского никакого дела до этого нет. Умственный пролетариат! Наименование чрезвычайно уместное, оттого, что справедливо не только назад, но и, к несчастью, намного, намного десятилетий вперед, Дмитрий Иванович Писарев верно этот российский подлый закон угадал.
По этой причине не может быть ничего удивительного, что среди освобожденных от платы за право учения множество самых близких знакомых и друзей Михаила, которых несносная нужда ещё прежде него заставляет протягивать руку за подаянием. Положение слишком вседневное, однако я думаю, что все согласятся со мной, что одно дело, когда с протянутой рукой оказываются знакомые и друзья, и совершенно иное, когда с протянутой рукой приходится жить самому.
Унижение не только прибавляет светлому юноше лет. Иными глазами глядит он отныне на этот странно устроенный мир. Испытующими. Серьезными. Ставит вопросы ужасные. Ответов ищет бескомпромиссных, безжалостных, каких не бывает на свете. Юности только одна истина в последней инстанции, только голая правда нужна.
Прежде он видел одно только чистое небо и солнце, слышал грохот и шум только в гимназии и отдаленные громы за валом зеленых лесов, ежедневной встречал смеющихся гимназисток в зеленых передниках, открытые безмятежные лица на тенистых бульварах, на извилистых улицах города Киева, за столиками открытых кафе, выставленными прямо на тротуар. Теперь лица значительно чаще попадаются замкнутые, лица угрюмые, долетают до слуха стоны жалоб на паскудную жизнь, голоса, именующие действительность серой и грязной, презрение к жизни, голый цинизм. На свет божий из разных укромных и тихих углов выползают осторожные обыватели, да не какие-нибудь заурядные, неприметные, стертые, а особенные, ядреные, киевские. Антон Павлович Чехов именно их поминает в своей блистательной «Чайке». Современник и очевидец повествует о них:
««Киевский мещанин» был совершенно особенным типом обывателя – чем-то средним между чинным и глуповатым польским шляхтичем и Епиходовым. Из гущи этой отталкивающей общественной прослойки выходили и изуверы и черносотенцы. Их крепостью была Киево-Печерская лавра, а трибуной – визгливые монархические газеты, издававшиеся Шульгиным и Пихно…»
Обитатели! Обитатели! Николай Васильевич, человек проницательнейший, провидец, превосходное слово нашел!
Он вглядывается в эти испуганные, капризные, нахальные лица и не обнаруживает в них ничего симпатичного, по правде сказать, испытывает к ним омерзение, неизбежное в душе благородного человека. Недостойные, скверные лица! Санина обожают, смакуют рассказы Каменского, кекуок танцуют вместо миньона, мистика, бесчестье, разврат, разумеется мелкий, и, разумеется, по возможности тайный, ещё не решившийся, но уже готовый во вей своей гадости выйти наружу.
Обитатели всюду, они рядом с ним. Классы Первой гимназии состоят из двух отделений. В первое отделение помещаются одни отпрыски дворянских и генеральских фамилий, а также крупных чиновников и больших финансовых воротил. Второе предназначается, вроде как пасынкам, детям интеллигентных родителей, разночинцам, полякам, евреям, с которым сидельцы первого отделения рядом даже сидеть не хотят. Немудрено, что вторые именуют первых оболтусами, именуют по праву, кстати сказать, поскольку оболтусы не желают учиться и не учились бы никогда, если бы в гимназию оболтусов не прогоняли отцы, обыкновенно наделенные тяжелой и язвительной дланью.
И вот обнаруживается, что Миша Булгаков, светлый юноша, до глубины души презирает оболтусов, прямо-таки равнодушно на них не способен глядеть. С некоторого времени оболтусы становятся первейшим предметом его изысканных издевательств, то и дело извлекая из памяти старых знакомых, он не может не увидеть воочию, что вот этот Собакевич, этот Ноздрев, а вот незабвенный Павел Иванович, а вот Хлестаков. Мерзость какая! И уже не Букреев, Букашка-терешка-орешка, не Сынгаевский, не Боря Богданов, а несносное племя оболтусов то и дело попадает ему на язык. Он преподносит им такие ядовитые прозвища, что дурные оболтусы могут только беситься. Он осыпает их сотнями утонченных эпитетов, к которым ни с какой стороны придраться нельзя, от которых однако в лицо бросается кровь и сами собой в невыразимом бессилии сжимаются кулаки.
Его остроумие тоже взрослеет, как видим. Приходит конец крикливым мальчишеским дракам, рассеченным губам, разбитым носам и железным пальцам Максима, волокущего драчунов, будто бы единственно для того, чтобы доставить Бодянскому удовольствие. Он затихает, в стенах гимназии его почти не видать, не слыхать. Его успехи в официальных науках посредственны, но он почтителен, вежлив, воспитан, и наставники готовы о нем позабыть, как вдруг этот гимназист с внимательным взглядом светлых сосредоточенных глаз роняет с виду безобидное замечание или внезапно ставит в упор точно молнией сверкнувший вопрос, от которого у наставников глаза лезут на лоб. Наставникам приходится отвечать, но отвечают ему лица глухие, глядят на него непроницательные глаза. После его вопросов и замечаний наставники всё чаще поглядывают на него с подозрением. Наставников не покидает беспокойная мысль, что этот воспитанный юноша только притворяется тихим, а на самом-то деле непременно выкинет какую-нибудь умопомрачительную, совершенно невозможную штуку, от которой Первая гимназия непременно провалится в тартарары. Он же сидит за партой с совершенно невиннейшим видом, позабывши напрочь о них, сосредоточенно размышляя о чем-то своем. Но наставники ждут! Наставники ждут, убежденные в том, что в этом сдержанном молодом человеке, как в тихом омуте, сидит страшный, не подвластный им бес. Он замечает их удивленное ожидание и в свою очередь смотрит на них, от любопытства синея глазами. Глубоко ли его любопытство? Удивляют ли его самого эти настороженные взгляды? Не берусь утверждать, однако предполагаю, что он не может не знать, как резко и глубоко переменился он сам со дня кончины отца, что в каждом его, даже вполне незначительном, слове отныне звучит определенность и сила, что время от времени стремительная живость загорается у него на лице, что язык его делает вдруг беспощаден и остр, как булат, что вся гимназия отныне страшится его иронически-невозмутимых насмешек, которыми он ограждает свою независимость, что сам стремительный Субоч трепещет с некоторых пор перед ним.
И наставники правы в своих подозрениях. Раз в год, ранней осенью, когда город Киев окрашивается в багряные и золотые цвета увядающих бульваров и парков, он преображается и становится тем, что он есть. Каждую осень презренных оболтусов бьют всем вторым отделением. Инспектор, он же историк, Бодянский принимает самые строгие меры, однако день возмездия приближается неотвратимо. Внезапно во всех коридорах и классах Первой гимназии застывает зловещая тишина. Коридоры пустеют мгновенно. Все гимназисты устремляются в знаменитый громадный гимназический парк, и тотчас между деревьями раздается глухой грозный рев. В порядке подготовки к сражению в облаке поднятой пыли свистят картечью каштаны. Затем ряды надвигаются один на другой, каждый подобен стене. В воздух взмывают обнаженные кулаки, и всё сущее сбивается в страшную кучу, слышатся визги, удары, треск сломанных веток, топот не уступающих ног. И всегда его видят в первых рядах, светловолосого рыцаря чести, справедливости и добра, с задорно вздернутым носом, высокий, длиннорукий, бесстрашный, худой. Он врезается в самое опасное место, и смятенные противники повергаются в прах, теряясь перед его дерзостью, хладнокровием и бешенством натиска. Они пытаются уклониться от его разящих ударов. Ряды их колеблются, распадаются, подаются назад. Далее слово берет очевидец:
«Оболтусы из первого отделения боялись Булгакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом – металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский…»
И он рвется напролом сквозь ряды бесчестных оболтусов, смывая с себя эту первую, но далеко не последнюю клевету. И победа несется на своих распластанных крыльях следом за ним. И ликующий клик, испущенный вторым отделением, наконец до краев наполняет гремящие коридоры Первой гимназии, когда на плечах побежденных оболтусов победители врываются в них. И каждый раз он летит впереди, так рано познавший великое счастье победы. И дивится в мирные дни, отчего его, такого тихого мальчика, не любит всем сердцем и даже страшится начальство.
В самом деле, большая часть его внутренней жизни абсолютно скрыта от всех.
Глава седьмая
В школе Толстого
После того, что рассказано, я думаю, трудно поверить, однако это действительно так: почти все свободные вечера проводит он дома, уединенно, за книгой. От белых кафелей струится любимое с детства тепло. Несметные сокровища духа тесным строем окружают его, заключенные за стеклами шкафов, от всех четырех сторон глядят на него своими задумчивыми глазами, то зелеными, то красными, то черными, желтыми, нередко с дорогими золотыми обрезами. Подолгу бродит он между ними, то присаживаясь на корточки, то поднимаясь по раздвинутой лесенке вверх. Среди этих сокровищ он ищет мудрых наставников, вернейших друзей, ищет смысл жизни, ищет великое сердце, взлеты пророческой мысли, великой мечты. Его чувствам и мыслям необходимо нужно определенное, точное имя и зримый, как на металле выбитый образ. И тот, кто удовлетворит в нем эту потребность, сжигающую его, тот, кто назовет это имя и вылепит образ, тот будет принят в спутники жизни надолго, может быть, навсегда.
Итак, он ищет среди этих сокровищ, бережно собранных почившим отцом. Он взыскует ни много, ни мало, как руководителя его скрытой, духовной, внутренней жизни. Он перелистывает толстые книжки «Русского вестника». Фантазии Гофмана его приводят в восторг. Он восхищается точной, сжатой, рубленой прозой, которой блистает несравненный Влас Дорошевич, признанный король фельетона, и сам потихоньку подражает ему. Но уже меняются незримые ткани души, в эти ткани вплетаются новые нити. Он требователен. Он оценивает слишком серьезно. Он выбирает. Он делает выбор.
Выбор замечательный и, как выяснилось впоследствии, на целую жизнь. Ироничный, мягкий, застенчивый, любящий Гоголь и грубый, пылающий злобой, ожесточенный Щедрин! Два самых крайних полюса великой русской литературы! Гуманизм, всепрощение, снисходительность, моральный призыв заглянуть поглубже в себя и в себе самом найти человека. Гуманизм, раздражение, скрежет зубовный, жажда разрушить, стереть в порошок, смести с лица земли всю глубоко ненавистную родимую нечисть, до десятого колена её истребить и вколотить осиновый кол на её бездыханной могиле. Противоположности, крайности, извечный спор между ними, и к этим двум полюсам с одинаковой силой тянется, рвется его молодая душа. С одинаковой? Да. Может быть, не совсем с одинаковой. Едва уловимо, с течением времени всё сильней и сильней влечет его к миролюбивому гению Гоголя.
Гоголь, Гоголь! Николай Васильевич несравненный! Какая-то странная, фантастическая, блистательная мечта! Что за чуткая совесть, что за нежность тоскующей, страшно одинокой души! Какая щедрость, какое обилие неслыханной яркости красок! Какое могущество замыслов! Какая невероятность иссушающе-горькой судьбы! Судьбы завидной, неумолимо влекущей к себе, а как подумаешь трезво, так не дай нам Господь такую судьбу!
Он читает и перечитывает комические происшествия, застлавшие умные глаза городничего, соткавшие из ничтожества, из тумана, из мифа, из мухи с черными крыльями странный кумир. А «Мертвые души» с такой прочностью обосновываются в его жаждущей памяти, что остаются в ней навсегда, и какие-то словечки и черточки то и дело являются на его языке, и он не всегда в состоянии разобрать, Гоголь ли это сказал, сам ли он только что выдумал эту прекрасную, такую поразительно-остроумную вещь. Да и как тут разберешь? Его доводит до слез ослепительный лиризм отступлений. Он заходится в хохоте при одном звуке фантастических, абсолютно невероятных, убийственно-метких имен. Яичница! Боже мой! Кто тебя выдумал? Только истинный, истинный гений! Что же сказать о героях? Честное слово, нечего о героях сказать, его герои на каждом шагу встречаются в жизни, точно сначала вспыхнули в дерзкой фантазии неодолимого гения, воплотились, сошли со страниц бессмертной поэмы и вот принялись самостоятельно жить, и этой удивительной жизни всё не видно конца. Дикость какая-то! Бред! Чудеса!
Собственно, Гоголь – это любовь, неотразимая, кружащая голову, спасительная, нерасторжимая. Да что ж говорить! Сколько слов ни скажи, всё равно словами, жемчужными даже, не выскажешь никакую любовь.
И навстречу этой святой пресветлой любви из пожаров и дымов эпохи вдруг выдвигается могучий Толстой, исполин, исполин, каких ещё свет не видал, не рождала земля. Зарезанный цензурным ножом, разодранный на клочки, ошельмованный, отлученный от церкви, а могучий, несмолкаемый голос гудит как набат:
«НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!»
Кто не читал ещё этой ни с чем не сравнимой статьи, тот не испытал настоящего, нестерпимо-жестокого потрясения. Спешите читать! Одна такая статья способна пробуждать поколения, даже способна разбудить мертвеца, чтобы уж не заснул никогда. Нечего говорить, что цензура, вопреки самим государем объявленной свободе печати, режет её, кромсает так, что трудно узнать, цензура у нас режет, кромсает, увечит всё, да что же с ней делать, ведь даже цензура не может не понимать, что это Толстой, великий, могучий Толстой, и пропускает хоть что-нибудь, то есть в данном случае пропускает клочки. Эти клочки подхватывают «Русские ведомости», «Слово», «Современное слово», «Речь» и пять-шесть других менее известных изданий и четвертого июля 1908 года разносят по стране, обомлевшей во мраке террора, на своих газетных листах. Не страшась передать честное слово Толстого, они решаются прямо на подвиг, а в России каждый подвиг свободного духа непременно ждет наказание от властей или прочих сограждан, которым подвиги свободного духа поперек горла встают, так что эти печатные органы все до одного оштрафованы, а один редактор арестован только за то, что приказал расклеить свой номер на стенах домов.
Кажется, на русском языке ещё никогда не достигалось такой простоты выражения мысли, как не достигала такой простоты и ясности самая мысль, и ещё не было сказано мысли о главнейшем ужасе века, который сотрясает Россию и с тех трагических необдуманных лет станет потрясать ещё целый век, и ещё не было более страстного крика души, взывающего к благоразумию, к совести всех, точно огненные письмена проступают вдруг на стене: «Остановитесь! Мы все перед пропастью! Ещё один шаг – и разрушится мир!»
Пусть мои редакторы, эти ревнители сокращения всякого текста, скрежещут зубами, но я не могу не выписать здесь двух страниц:
«Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют ещё большее, величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющиеся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого, рабочего народа потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз всё то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого, не только оправдываемого, но поддерживаемого разными, нераздельными в понятиях народа с справедливостью и даже святостью учреждениями: сенат, синод, дума, церковь, царь. И распространяется это развращение с необычайной быстротой.
Недавно ещё не могли найти во всем русском народе двух палачей. Ещё недавно, в 80-е годы, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то.
В Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 рублей за повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле, и теперь ведет по-прежнему торговлю.
В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашелся человек, который согласился исполнять это дело, срядившись с заведующим правительственными убийствами за 50 рублей за человека. Но, узнав уже после того, как он срядился в цене, о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач во время совершения казни, надев на убиваемого саван-мешок, вместо того чтобы вести его на помост, остановился и, подойдя к начальнику, сказал: «Прибавьте, ваше превосходительство, четвертной билет, а то не стану». Ему прибавили, и он исполнил.
Следующая казнь предстояла пятерым. Накануне казни к распорядителю правительственных убийств пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал: «Надысь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Нынче, слышно, пятеро назначены. Прикажите всех оставить, я по пятнадцати целковых возьму, и, будьте покойны, сделаю, как должно». Не знаю, принято ли было или нет предложение, но знаю, что предложение было.
Так действуют эти совершаемые правительством преступления на худших, наименее нравственных людей народа. Но ужасные дела эти не могут оставаться без влияния и на большинство средних, в нравственном отношении, людей. Не переставая слыша и читая о самых ужасных, бесчеловечных зверствах, совершаемых властями, то есть людьми, которых народ привык почитать как лучших людей, большинство средних, особенно молодых, занятых своими личными делами людей, невольно, вместо того, чтобы понять то, что люди, совершающие гадкие дела, недостойны почтения, делают обратное рассуждение: если почитаемые всеми люди, рассуждают они, делают кажущиеся нам гадкими дела, то, вероятно, дела эти не так гадки, как они нам кажутся.
О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса.
Вообще благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей, всякое преступление: грабеж, воровство, ложь, мучительство, убийство – считаются несчастными людьми, подвергающимися развращению правительством, делами самыми естественными, свойственными человеку.
Да, как ни ужасны самые дела, нравственное, духовное, невидимое зло, производимое ими, без сравнения ещё ужаснее…»
Нравственное, духовное, невидимое зло! Могучей и властной рукой Лев Толстой обнажает его в этой рождающей ужас статье. И это нравственное, духовное, невидимое зло вдруг, в один день, в один час, является юноше, гимназисту, развернувшему, быть может, случайно, газету, выросшему в безмятежности и покое, с самым отвлеченным, самым книжным понятием о зле и добре, с мягким изнеженным сердцем, но нравственным глубоко, с чуткой совестью, с богатым, легко воспламеняемым воображением, с сильным и дерзким умом. Разве не испытывает такой юноша духовного потрясения невиданной силы? Испытывает духовное потрясение, и духовное потрясение страшное, какому уж никогда не изгладится, не пройти. Ужас продирает его, а уж рождает растерянность. Что ждет нас, всех нас, впереди? Какая готовится России судьба? Что делать ему, почти ещё мальчику, семнадцати лет, до выпуска из гимназии больше чем год?
Нетрудно сообразить, что ответов у него нет и не может быть никаких. Ещё легче представить себе, как нужны ему такого рода ответы, с какой иссушающей жадностью ищет он их. И к кому обратиться за помощью? Из какого источника удовлетворить свою нестерпимую жажду? Ещё легче сообразить, что юноша со всем жаром своего скорбящего, переполненного ужасом сердца бросается за нужным ответом к самому же Толстому, Льву Николаевичу, который отныне становится его учителем жизни. Тщательно, обдуманно, то и дело возвращаясь назад, он перечитывает всё, что было прежде прочитано и знакомо ему и что, к сожалению, читалось поспешно и, следовательно, слишком, слишком поверхностно, непростительно легко и бегом. Он достает и прочитывает, по возможности, всё, что вот уже двадцать лет издается из сочинений Толстого подпольно или за рубежом, на чужих языках.
Потрясение продолжается, и продолжается с нарастающей силой, точно молодой человек взбирается на Эверест и с этой снежной вершины видит весь мир. Что он видит прежде всего? Своим повзрослевшим, если не установившимся ещё окончательно, взглядом, который начинает уже устанавливаться, он различает, что перед ним художник всемирного мастерства, созидающий абсолютно законченные образы нигде никогда не встречаемой силы и глубины. Всё, решительно всё подвластно ему в равной мере: мужчины и женщины, солдаты и генералы, французы и русские, собаки и лошади, лес и трава, воды и звезды, жизнь человека и жизнь человечества. Для него непостижимого или запретного нет. Молодой человек точно стоит перед Богом, который владеет даром пророчества и волшебства, даром созидать нечто из ничего и даровать бессмертие созданному. Провел черту, другую, третью, поколдовал, отошел, и новая жизнь загорелась звездой, чтобы вечно светить с небосвода искусства, с небосвода души. Не писатель уже, но чародей.
Что же делает прежде всего молодой человек, озаренный этими новыми звездами? Со всем нерастраченным жаром юной души, со всей беспокойной потребностью кого-нибудь полюбить как можно скорей, лишь бы только любить всей душой, он влюбляется в Наташу Ростову. Отныне это его идеал: бойкая, живая, способная к пониманию, женственная, склонная к ошибкам и заблуждениям, но способная также выбираться на твердую почву, на правильный путь, преданная, склонная к самопожертвованию, одним словом, блистательная, как никакая другая, и единственное, о чем он мечтает в бессонные ночи или во время прогулок под сенью бульваров, это встретить точно такую, полюбить навсегда и не расставаться всю жизнь. Так в душе его от звезды, зажженной Толстым, вспыхивает собственная звезда, чтобы вести прямо, заводить черт знает куда, выводить на прямую дорогу и дарить, счастье страдания и страдание счастья.