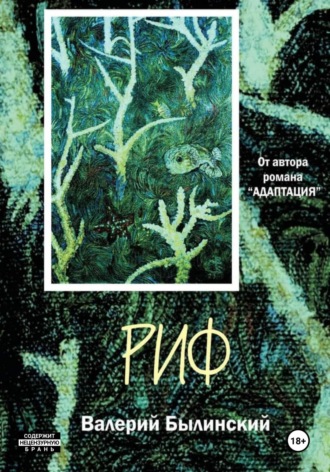
Валерий Былинский
Риф
– Скажи, Вадим, тебе что – никогда не было страшно?
– Мне? Я уже говорил, что отвечаю за каждый свой день и готов гореть в геенне огненной. Вернее… почти готов. А ты трясешься, словно у тебя нет души. Ты что думаешь, твоя душа тоже дрожит от страха? Да ведь она жаждет на волю! Мужчина, Гип, должен иметь двух любовниц, а не одну. Одна любовница – так не бывает. Если ты спишь с жизнью, то надо любить и смерть – она, как черная женщина, выжмет из тебя все соки – стоит попробовать, Гип, стоит.
Я смотрел на него. Неужели сейчас, когда я могу умереть, угроза мой жизни обессмысливается все той же разницей в шесть лет?
– А ты, я вижу, все больше любишь жизнь, – сказал я, кивая на недопитую бутылку виски. – Сигара, ром и черная женщина по утрам – это неплохо.
– Люблю, – сказал брат, – как приговоренный. Правда, я приговорил себя сам, сам же и пожелал себе кое-что.
– Ну, – я ухмыльнулся, – и когда же ты умрешь?
– Хочешь – сейчас? – брат подошел к столу, открыл ящик и вытащил большой нож с широким лезвием. – А? – спросил он задумчиво, держа нож за рукоятку лезвием вверх. Он стоял у окна, и солнце сверкало на стали. Мне казалось, я наблюдаю представление со стороны, и меня подмывало сказать: «Давай». Я молчал. Брат задумчиво смотрел на нож, потом опустил руку.
– Спрячь, – сказал я, – сейчас не раннее христианство.
– Земля, – пробормотал Вадим, – полно земли…
– Что?
– Жаль, когда тебя не понимают, – брат спрятал нож в стол. – Впрочем, есть выход…
– Да о чем ты?
– О твоем героиновом кортельчике, Влерик. С этим шутить не стоит. За это убивают. Даже если соберешь и отдашь деньги – могут. Уезжай, Влерик. Лучше на месяц. Ах да, ты же студент, кажется? – в его голосе мне послышалась насмешка.
– Ерунда, – сказал я, – свободное посещение. Куда мне ехать? Не к родителям же…
– Ты же собирался к ним съездить, – улыбнулся брат.
– Помнишь, как просвещал меня тут насчет всяких родственных чувств?
– Я к ним поеду, – сказал я, – потом поеду…
– Ладно, Влерик, – сказал брат, – не хочешь домой, езжай в Одессу, в Бугаз. Дядя обрадуется, скажешь – каникулы, как раз скоро ноябрь. Машину оставь здесь у меня во дворе, садись на поезд и вперед.
– Ладно, – сказал я, – а ты?
– Что – я? – брат, сидя в кресле, заложил руки за голову. – А я займусь тут какой-нибудь половой пантомимой или винохлебством в добром здравии. Кстати, Гип, можешь взять что-нибудь из моего арсенала. «Макаров», например, берешь? Так, на всякий случай.
– Нет, – сказал я, – покупаю билет и уезжаю. Приятно было на тебя посмотреть…
– Да подожди ты, Гип, – Вадим встал, подошел к двери, раскрыл ее и позвал:
– Дениза!
Войдя, девушка остановилась и опустила глаза.
– Дениза, это мой брат, помнишь? Младший, правда, но брат.
– Да перестань ты, – быстро сказал я.
– Ну так как, – Вадим кивнул на Денизу, – давай?
Смотря на него, я вспомнил о том, что рассказала мне Лина. Кажется, он знает. Или может быть, нет? Какая разница, мое знание не добавило мне ничего. Я не понимал, почему не могу спросить – ведь это легко.
– Давай, – сказал я.
Я подошел к девушке, осторожно коснулся пальцами ее руки, погладил запястье. У негритянки была холодная кожа.
14
Наша семья когда-то любила море – летом, в августе, а сейчас был ноябрь. Мы ходили загорать все вместе, шли по дорожке от дома к морю, снимали сандалии, шлепанцы и брели по горячему песку, жмуря глаза от солнца. Мы шли по старшинству: отец, мать, Вадим и я. А может, мне уже только мерещилось, что я шел сзади, – пожалуй, я иногда обгонял всех, даже брата. Я весело бежал по песку и первый пробовал ногой холодную воду. Мы все что-то несли. Отец – подстилку и тент от солнца. Мать – сумку с едой. Брат нес свернутый надувной матрас. У меня под мышкой был водный мяч или пакет с ракетками для бадминтона. Иногда я был даже вооружен – подобранной по дороге палкой, напоминающей ружье. Я стрелял, думал, воображал, таща за собой в поход к морю весь свой огромный мир.
Сейчас был ноябрь, я ехал в пустой электричке туда, где бывал только летом, в детстве.
Сойдя с поезда на станции «Каролино-Бугаз», я пошел пешком вдоль железнодорожного полотна. Дом дяди потемнел – как и все в этом новом, отчетливом мире. С моря дул ветер, я поднял воротник пальто. Я удивился, увидев в дядином дворе незнакомого человека, тот копался в двигателе стоящей возле дома машины и, заметив меня, вдруг приветливо помахал рукой:
– Эге-ге, да это ты, что ли, Ромеева сын, младший?
– Я, – сказал я.
– А зовут, бог ты мой, забыл… Валерка?
– Точно, – я улыбнулся, припоминая лицо этого пожилого человека.
– Да я сосед дядьки твоего, Иван Иваныч, помнишь, мы вместе каждое лето… Слушай, Валерка, как же это я тебя узнал-то, ведь ты пацаном был.
– Бывает, – сказал я, – я помню вас. Вы все время нам арбузы с рынка привозили, на этих «Жигулях», кажется…
– Да нет, ту я продал. Да и эта «шестерка», черт ее раздери, барахлит. Я тут, Валер, понимаешь, собрался вещички домой отвезти, вот багажник набил, а она, стерва, глохнет. Отъеду немного, и глохнет. Боюсь, до Одессы не дотянет. Ты, кстати, в «жигулевском» движке не волокешь?
– Да как вам сказать, – я пожал плечами, – вообще-то не очень. А дядя где?
– Дядя? – Иван Иванович махнул рукой. – Да уехал. Дачу вот продает и уехал в город. Его сын новую квартиру купил. А дачку эту тю-тю, дохода она большого не дает, я, кстати, может ее и куплю, у вас двор больше. Я сюда машину-то поэтому и поставил – простор. И ключи от дома у меня. Ты надолго?
– Так… У меня сейчас каникулы, давно на море не был. Думал – дядя здесь, поживу…
– И поживи. Только зря в ноябре сюда, для молодых сейчас тоска – мертвое место, пески. Хотя есть один зимний санаторий, далеко правда, часа полтора пешком. Там, кстати, и дискотека – ночью слышно.
– Конечно, – сказал я, – схожу и в санаторий. Я может тут недельку поживу. Камин работает?
– А как же. Слушай, Валерка, как ты кстати, мне в город надо, свечи для машины поискать, здесь-то где? А то тут воры по дачам, знаешь, шастают, ты и присмотришь. Ты как, все рисуешь? Я слышал, в Москве учишься в художественном?
– В художественном…
– Ну и как, на выставки посылают?
– Посылают.
– Слушай, Валерка, – Иван Иванович засуетился, порылся в карманах ватника, что-то достал, склонился над двигателем «Жигулей», – раз уж ты здесь, сядь в машину, крутани стартер…
Я сел на место водителя, завел двигатель – он сразу стал глохнуть.
– Подсос, подсос давай! – кричал Иван Иванович, махая мне свободной рукой.
Двигатель заработал неровно, с перебоями.
– Хватит!
Я вылез из машины и спросил:
– Ну как?
– Свечи… Надо менять. Сейчас я… – Иван Иванович засунул руку в капот и попросил:
– Валер, найди свечной ключ… там, в багажнике, сверху.
Ключ я нашел под свернутой в рулон резиновой лодкой.
– А лодка – та? – спросил я Ивана Ивановича, когда он захлопнул крышку капота.
– Лодка? – спросил он. – Да, лодка та… ты на ней рыбу с отцом ловил.
– Не я. Вадим, мой брат.
– Ах, да, – Иван Иванович махнул рукой, – забыл я все. Где Вадимка-то?
– Уехал.
– А…
Вечером мы поели, выпили водки, Иван Иванович рассказывал о своей жизни, теперешней и прошлой, мне было скучно, я вежливо улыбался и иногда из вежливости о чем-то спрашивал – он длинно, подробно отвечал, я думал о своем.
Ночью мы растопили камин и легли спать, а утром Иван Иванович уехал на электричке в Одессу, обещая вернуться через три дня.
Мне нравилось жить здесь – один среди десятков пустых домов, посреди засыпанного песком пространства, казалось странным, что существует лето и что сюда приезжают люди. Я один, запахнувшись в пальто, бродил по песку, смотрел на море. Мне нравилось спокойствие, нравилось, что не надо никуда спешить. Вечером я взял связку ключей, что оставил мне Иван Иванович и открыл две запертые комнаты— там я нашел свои детские, почти засохшие, краски и бумагу для акварели. Я искал свои рисунки – но видимо их мы увезли с собой. Рано утром я сидел на песке на берегу моря и рисовал восход. Получилось плохо, смешно. Я подумал, что не умел рисовать никогда. Больше всего мне хотелось найти хоть какой-то старый рисунок, чтобы сравнить или посмеяться, и я снова стал рыться в старых вещах: журналы, желтые газеты, какие-то письма чужих людей, фотографии, но ничего не нашел.
Однажды, гуляя по песку, я увидел белый блестящий автомобиль – он ехал вдоль железнодорожной насыпи, затем исчез. Не спеша я пошел вдоль берега моря; автомобиль появился вновь, сверкнул в луче редкого солнца и пропал за поворотом, ведущим к дачным участкам. Я вернулся к дому дяди. Ворота были раскрыты, во дворе, рядом с «Жигулями», стоял белый «Форд» брата. Рядом, засунув руки в карманы, в светлом плаще и в солнцезащитных очках, улыбаясь, стоял он сам. Я подошел.
– Почему-то я не удивлен, – сказал я.
– Я тоже, Валера, – сказал брат, снимая очки. Мы пошли в дом.
Не знаю, соврал ли я. Мне ведь сразу захотелось спросить: «Зачем ты приехал, Вадим?».
– Здесь все по-прежнему, – говорил Вадим, сидя с зажженной сигаретой на старой кушетке. Когда-то я спал на ней, а он на раскладушке в другой комнате.
– Только холодно, – сказал я, – камин плохо греет.
– Ничего, я кое-что взял с собой и сегодня вечером приготовлю грог. Идет?
– Идет.
– Только неплохо бы сначала поспать, я ведь всю ночь был за рулем, Гип.
Моя акварель – розовый восход – лежала на видном месте, на столе, и Вадим конечно же заметил ее. Но только позже, когда я сделал салат и приготовил на электрической печке омлет и мы поели, он сказал, взяв рисунок двумя пальцами за угол:
– А… закат.
– Нет. Это восход, – сказал я.
– Понятно.
Он что-то недоговаривал. Спросить было легче – это я знал. Но смог бы он ответить так, чтобы сказать правду и остаться собой, братом? Мне показалось, что я ошибся, решив тогда, что брат нашел свое изменение и поэтому уехал, порвав со всем. Я не знал. Я смутно понимал, что, может быть, он сам сейчас отшагнул ко мне назад – просто, легко уничтожив шесть лет – и все-таки я не спрашивал. Я боялся почувствовать хоть какой-то стыд, который я, конечно, переживу сильнее, чем он. Я и сейчас – не понимая – чувствовал его сильнее, чем себя. Здесь, в этом царстве спокойствия, он словно накинул на свои нервы теплый покров тишины. Мы были наедине – рядом, одни в деревянном доме, стены, окна которого тихо дрожали от ветра, и что-то близкое, слишком чистое окружало нас – в этом тесном пространстве, как когда-то очень давно, в детстве, в собачьей, продуваемой ветром будке, которой давно уже не существовало.
Мы уснули, не раздеваясь: камин не грел, мне казалось, что я тоже был за рулем всю ночь, как брат. Ночью, когда я открыл глаза, Вадим стоял у окна, спиной ко мне.
– Что там? – я подошел и тронул его за руку.
– Тихо… – прошептал, не поворачивая головы, брат, – видишь?
Он отшагнул. Я, посмотрев в щель между шторами, ничего не увидел.
– Ну? – тихо спросил брат.
Вдруг я заметил очертания автомобиля, он стоял сразу за нашим забором в тени деревьев.
– Вижу… Это что?
– Пока не знаю. Может быть просто кто-то приехал.
– Вадим… Они за мной…
– Но почему две машины, Гип? Два джипа, странное дело, а?
– Ты видел вторую?
– Да, вон там, слева. Если снова закурят, увидишь.
– Значит… там кто-то есть?
– Да, внутри. Сидят и курят. И к тому же джипы, Гип. Именно джипы, сразу два.
– Может быть не к нам? – спросил я.
– Может быть. Надо подождать.
– Что же, ждать всю ночь, Вадик! Всю ночь?
– Тише… Я сказал – надо ждать. Сядь на диван, нечего тут торчать вдвоем.
Я заметил у стены, возле ног Вадима, темный предмет, напоминающий футляр, кажется, это был «Ремингтон» в чехле. Я сел на диван, взглянул на часы – было около трех ночи. Временами я закрывал глаза, продолжая бодрствовать в абсолютной темноте. Хотелось курить, но сигареты были далеко, в другой комнате, пришлось бы включить свет. «Ну как?» – один раз спросил я Вадима, но он не ответил. Он неподвижно стоял у окна, ровный, прямой. Камин остыл, было холодно. Я нащупал пальто – оно лежало рядом, надел его, стало уютней, теплей, – и вдруг вспомнил Файгенблата, Турцию, как мы мучились от жары. Я видел Босфор – поблескивающую поверхность моря, темные лица официантов, нереальные, слишком искренние улыбки зазывал – и вдруг сильно вздрогнул: изображение вспыхнуло, сон исчез.
Я вскочил и, еще ничего не понимая, смотрел на зашторенное окно, смотрел до тех пор, пока не услышал рев заработавших снаружи двигателей – сразу двух, трех, нескольких. Вадима не было, стоял только прислоненный к стене «Ремингтон» в чехле. Я подскочил к окну: белый «Форд» Вадима задом выезжал со двора. Мне в лицо ударил свет фар, я отшатнулся, присел, закрывшись шторой, и видел, как они поехали за ним, две машины, два одинаковых джипа, один за другим. Прячась, я опрокинул «Ремингтон» и сидел на нем, коленями на кожаном чехле. Потом я встал и, держа «Ремингтон» в одной руке, вышел во двор, все еще слыша удаляющийся гул двигателей.
Я подбежал к «Жигулям», открыл дверь, включил зажигание – машину тряхнуло и двигатель заработал. Включив ближний свет, я выехал со двора. Машину трясло, я ехал по песку, боясь перейти со второй скорости на третью – только так я мог видеть следы, еще не занесенные песком. Потом я не выдержал, увеличил скорость, помчавшись неизвестно куда.
Потеряв следы, я попытался развернуться – двигатель сразу заглох.
Я выключил фары, повернул голову и увидел рассвет: над морем ползла серебристая полоса, в воде дрожали искры холода. Чувство, что я уже был здесь, именно в эту минуту – но только тысячу лет назад – хлынуло на меня и проникло в дыхание. Я сидел и не мог двинуться. Я понимал, что давно мог предугадать эти секунды, что еще несколько лет назад сумел бы, как киномеханик, откручивающий назад фильм, что-то изменить. В лобовом стекле машины, похожем на вогнутый экран, мне летели навстречу кадры какой-то странной жизни, в которой я с трудом, но все же что-то распознавал. Я видел запеленатого младенца, которого кладут на чужую кровать, узнал запрокинутое лицо Лины, которую кто-то целовал, кажется, я, а может Вадим? Я увидел свою мать, нервно захлопывающую за собой дверь нашего дома и выходящую в сад. Я видел отца, который, гулко ступая по полу, подходит к телевизору, включает его и опускается в старое протертое кресло. По лицу отца бегут синеватые блики телевизионных кадров, сильно ссутулившись, он неотрывно смотрит в экран телевизора, смотрит, несмотря на то, что сейчас, здесь, на этом пустынном морском берегу исчезает в песчаной буре его сын, а второй сидит в автомобиле и не может двинуться с места.
Вдруг я услышал время. За окном скрипел, выл, шелестел и бился в стекло песок. Я взглянул на часы. Повернул голову и понял, что дороги здесь нет. Впереди, слева и справа
– все было засыпано песком.
Песок и ветер – одно живое пляшущее существо. Я выбрался из машины и, прикрываясь от ветра рукой, побежал к указателю, он был метрах в тридцати. «Каролино-Бугаз» – прочитал я. Табличка ритмично тарахтела на столбе. Я вернулся в машину, застегнул пальто на все пуговицы и, помедлив, взял с соседнего сиденья «Ремингтон» в чехле. «Каролино-Бугаз»,– бормотал я про себя и все еще медлил. Ветер тихо барабанил в стекло как человек.
Потом я вышел и сразу помчался – куда-то в сторону от машины, нагнув голову и стараясь смотреть под ноги. Я понимал, что искать следует не возле железной дороги, где дачи и жилые дома, а здесь, на песке. Дважды я чуть не упал. Потом я увидел отпечатки автомобильных шин – свежие, еще не занесенные ветром. Я бежал по этим следам как по дорожке, и ветер стучал мне в спину – неистово, мелодично и зло. Я бежал, давно уже взмокнув, полы пальто путались, мешая ногам, туфли вязли в песке. Краем глаза я видел серебристую стрелу рассвета, она розовела и все время выдавалась вперед, обгоняя меня. Потом следы резко свернули вправо, и ветер задул в лицо. Но все же, закрывая лицо свободной рукой, я увидел впереди что-то светлое.
Пятно приблизилось.
Я остановился – до белого «Форда» с распахнутыми дверями и выбитым лобовым стеклом оставалось метров десять – и пошел, тяжело дыша, дальше, стараясь смотреть только вперед.
Подойдя к машине, я положил на капот «Ремингтон», взглянул на брата. Он, запрокинув голову, сидел на водительском месте, руки на коленях, застегнутый ремень безопасности перекинут через грудь. Странно, что он застегнулся. Я осторожно обеими руками приподнял ему голову, заглянул в открытый глаз – конечно, его приняли за меня, даже сейчас весь в крови он был совсем как я. Интересно, когда он подумал об этом? Может быть, в Москве, когда показывал мне свой нож? Или уже здесь, этой ночью, когда он стоял и смотрел в окно. Вероятно, мертвый я бы выглядел так же. Наверное, они стали стрелять в него сразу с двух сторон – у «Форда» были выбиты оба боковых окна. А может Вадим специально спровоцировал их – внизу под его ногами в луже крови я заметил «Макаров» Мне не было страшно прикасаться к его голове, на которой сохранился только один глаз. Я не испытывал ничего, даже жалости, сразу поняв, что это случилось – он мертв, его нет. Я его не чувствовал, но понимал – сейчас, после смерти. Может быть, я бы спас его, сказав, или хотя бы спросив о сыне. Может быть? Тоскливо, смешно было оправдываться сейчас, в полном одиночестве.
Я вернулся к «Жигулям», принес свернутую в рулон вместе с веслами лодку; когда я развернул ее, она показалась мне длиннее, чем та, из детства. Кроме того, я нашел в багажнике спальный мешок.
Было темно, серебристая полоса на горизонте, чуть расширившись, застыла.
С помощью резиновой подушки я накачал лодку – минут за двадцать. Чувство удивительно чистой реальности опьяняло меня: впервые, не оглядываясь и не смотря вперед, я жил простым слепым действием – сегодня, сейчас. Из «Форда» я вытащил аккумулятор, положил его в спальный мешок, в ноги Вадиму. Я застегнул молнию на мешке и положил брата в лодку, бросил туда «Ремингтон», весла.
Море было рядом. Почему-то казалось, что там светлее, чем на берегу.
Я греб, быстро натерев мозоли, но все же отплыл еще не так далеко. Светало. Я греб, почти полностью промокнув, не чувствуя заледеневших ног. Мне казалось, что вода везде – может быть уже пошел дождь. Потом я бросил весла, поднял брата, прижал его к груди, опустил ногами в воду и отпустил – он сразу ушел на дно. Следом я швырнул ружье.
15
Ведь прошло чуть больше года, а казалось, что я возвращаюсь в родной город из странствия, которому нет конца. Едва выехав на знакомую улицу, я уже возненавидел ее – за дождь, грязь, дорожные ямы, за низкие серые дома, за пирамиды терриконов на горизонте. Все было по-другому – как наваждение, как отвратительный сон. Люди – грязнее, пьянее, уродливей. «Дворники» моего «Опеля» непрерывно работали, но все равно потоки мутной коричневой грязи заливали лобовое стекло. Встречных машин не было – да и откуда им взяться здесь, в мире землероек? За мной бежали только собаки – молча, по грязи, по лужам.
Вечерело. Я увидел забор нашего сада – он потемнел, краска облезла. Я посигналил. Мне показалось, что дом тоже стал темнее. Выйдя из машины, я открыл незапертые ворота и въехал во двор как когда-то отец на своем «Москвиче». Звонок не работал, я постучал в дверь – от толчка она открылась.
Я прошел через темный коридор к гостиной, оставляя на полу грязные мокрые следы.
– Эй, мама! – негромко крикнул я.
Где-то в глубине комнат работал телевизор. Кажется в спальне родителей. Проходя по комнате, я вдруг заметил грязь – сухую, нетронутую. Моя комната, Вадима… Вот спальня. Постучав в дверь, я приоткрыл ее.
Отец сидел в кресле, смотрел телевизор.
– Папа, – сказал я, – папа! – я крикнул, голос телекомментатора заглушал мои слова.
Отец медленно повернул голову. Я видел, как побежали морщины по его лицу, освещенному бликами телеэкрана – его губы раздвинулись, глаза раскрылись шире. Улыбаясь всем ртом – я увидел, как мало зубов у него осталось – он как мальчик легко соскочил с кресла, быстро подошел ко мне и обнял, поцеловав в макушку, потом в щеку – я почувствовал, что он небрит.
– Сын, – говорил он, медленно захлебываясь, – ты приехал, родной мой…
– Как у вас дела? – спрашивал я, снимая туфли. – Я не разулся… я удивился, почему не закрыта входная дверь?
– Ах да, я верно забыл закрыть ее, перекапывал огород и видно – забыл…
– Да я захлопнул, папа.
Мы перешли в гостиную, сели на диван. Отец расспрашивал меня о том, как я учусь, чем подрабатываю, где живу. Я рассказывал ему о чем-то.
– Ты голодный, – вдруг засуетился он, – так, надо поесть, сейчас, сейчас.
– А где мама? – спросил я.
Отец вытянул, оттопырив, губы и медленно развел руками.
– Она… – сказал он негромко, задумчиво. – Я не хотел тебе говорить, сынок, но она живет у какого-то мужика. Да черт с ней. Мне пятьдесят девять лет, и я с ней прожил тридцать, не знаю… Знаешь, она, тварь, мне всегда изменяла, еще даже когда Вадька не родился.
– Ладно, не страшно, – сказал я, глядя в сторону и улыбаясь.
– Ну что мне с ней было делать? – спросил отец нас обоих. – Я ее даже ударил, а теперь – все равно. Разводиться – тоже хотел, а потом подумал – куда? У меня язва, ты же знаешь, она сидела ночами у меня в больнице. А потом, когда полегчало, она стала к нему, к этому, ходить ночевать. Они даже здесь ночевали, в нашей спальне, представляешь? Что мне делать, мне на нее, на тварь, наплевать. Я ее ненавижу. Ты, может быть…
– Не надо, – сказал я, – я уже большой.
– Вот и хорошо. Ты большой. И хорошо, что на шахту не пошел работать.
– Работы нет?
– Нет. Считай, что я на пенсии. А она и ушла, скотина, мать твоя.
– А машина как? Ездишь?
– Ржавеет. Дорогой бензин. Да и куда теперь ездить? Но это ерунда, сынок, ерунда. Я живу один, и мне хорошо. Ко мне сослуживцы часто заходят и я к ним… Я, знаешь, читать тут пристрастился, все книги наши перечитал, теперь у соседей беру. И телевизор – теперь интересные передачи. Так что мне хорошо, ты не думай. А есть сейчас будем.
Мы пошли на кухню, отец открыл холодильник и задумчиво сказал:
– Ну вот, посмотрим, что нам тут мама оставила…
– Мама?
– Да… – он вытащил из холодильника одну за другой две кастрюли. – Вот видишь, здесь тефтели со сметаной, а тут борщ, вот, есть будем…
– А мать, – продолжал он, – она приходит иногда, раз в неделю, готовит, продукты приносит, хотел я ее послать подальше, да ладно, махнул на все рукой…
Разогрев тефтели и борщ, мы принялись есть. Ел отец быстро, шумно, некрасиво, как всегда.
– Ты же знаешь, – говорил он, – она молодая еще, ей сколько? Сорок восемь, что ли, она обожает хорошо жить…
– А ты? – спросил я.
– Я тоже. Но пожили – будет. А хоронить она меня придет.
– Ты что, отец! – крикнул я. – Тебе же только пятьдесят девять! Что ты несешь!
– Да проживу я еще, проживу, – улыбался отец щербатым ртом. – Главное – ты учись.
– Я-то учусь. Только как вы живете – мне не нравится. Ты знаешь, где она сейчас?
– Мать? А как же. Здесь, недалеко.
Выслушав отца, я сказал, что мне надо ее увидеть.
– А… давай, сынок, – сказал он задумчиво, – как хочешь.
В окнах дома, где жила мать, горел свет. Я поднялся на крыльцо, позвонил. Вышел мужчина – грузный, невысокий, от него разило спиртным, за его спиной было шумно – хором пели, смеялись.
– Ты кто? – спросил мужчина. В темноте я разглядел, что он лысоват.
– Я хочу видеть свою мать, – сказал я.
– Ага! – мужчина кашлянул. – Вадим?
– Нет, я…
– А… младшенький, – мужчина, качая головой, смотрел мне под ноги, – Валерка, значит… Я ж тебя на руках носил, помнишь?
– Нет, – сказал я громче, – позовите мать.
– Да сейчас, сейчас, Валерка, – мужчина качнулся вперед и оперся на мое плечо рукой. – Ты заходи сначала, у нас тут вечер, все свои, весело, давай, вытирай ноги.
– Нет, мне мать, – я убрал его руку, – я на минутку, я спешу…
– В чем дело, Лев? – спросила мать, появившись за его спиной. Она была выше его, волосы перекрашены, завиты. Увидев меня, она ярко улыбнулась – все зубы белые, ровные, целые.
– Иди, иди, Лева, – она осторожно взяла мужчину за плечи, развернула и легко подтолкнула в спину. – Иди, я сейчас.
Мать была в платье, похожем на халат; полы ткани, распахнувшись, обнажили ее правую ногу, которую она выставила вперед. Скрестив на груди руки, она прислонилась к дверному косяку и, улыбаясь, смотрела на меня.
– Ну, – резко сказала мать, – здравствуй, сын. Приехал?
– Приехал.
– У отца был?
– Был.
– Все нормально?
– Все нормально.
– Ты извини, что не целую, – сказала она, – вижу, что тебе не хочется.
– Отчего же? – я пожал плечами.
– Ну, тогда иди сюда, – обхватив меня ладонями за щеки, она притянула мою голову к себе и поцеловала – где-то возле губ, я почувствовал на коже щеки помаду.
– Иди домой, Валерик, – сказала она, – я завтра приду. И отцу скажи. Я бы тебя пригласила сюда, да ты, конечно, не хочешь.
– Не хочу, – я пожал плечами.
Сказав «пока», я спустился с крыльца, прошел по дорожке к калитке, вышел на улицу и вернулся домой. Отец смотрел телевизор. Он опять забыл закрыть входную дверь.
Я постелил себе в своей комнате и долго лежал без сна. Потом, в два часа ночи, я вошел в комнату Вадима.
Здесь все было по-прежнему – с тех пор, как он уехал, тут только, вероятно, подметали и мыли пол, но обстановку не трогали. На стене, напротив дивана, висело пять или шесть цитат. Я подошел ближе и узнал их – те самые, о которых я его когда-то спрашивал и он мне уклончиво отвечал. Слева в книжном шкафу я увидел среди книг потрепанную, склеенную скотчем, общую школьную тетрадь, взял ее и открыл на первой странице.
«Недалеко от Африки есть две страны, – прочитал я,– Урия и Гипия. Однажды урии захотели напасть на гипов…» и стал читать дальше, забыв обо всем. Я читал до рассвета, а потом, плохо понимая, какой сейчас час и почему я здесь нахожусь, я добрел до своей комнаты и упал на расстеленную постель.
Через три дня я сказал отцу, что мне пора ехать. Он спросил, почему так рано, и я сослался на университет, в котором, кажется, уже не учился.
Было часов шесть утра. Я зашел в комнату брата, чтобы оставить свой роман, который раньше собирался взять с собой – ведь я его прочитал. Я положил тетрадь на полку, оглянулся и увидел освещенные солнцем цитаты – среди них была та, про которую Файгенблат сказал, что она неправильная.
Я подошел ближе и прочитал:
И сказал Господь Авелю:
Где брат твой Каин?
Бытие 4. 9
Собираясь, я оставил отцу деньги, он долго отказывался, не хотел брать, потом все же отнес их в спальню, вернулся и заговорщицки, шепотом спросил меня:
– Эти деньги передал Вадим?
Помедлив, я уже на улице ответил, что да, он.
Рассказы
РИФ
Я был виден из глубины как на ладони.
Мне ничего не оставалось, как плыть.
С. Курилов «Один в океане»
Мне исполнилось пятнадцать, когда родители переехали вместе со мной на новое место жительства, в поселок Флорес. К тому времени я стал двуязычным, позабыл о сливах, яблоках и грушах, перешел в девятый класс школы, основанной на месте католического женского монастыря, и все так же продолжал свое плавание, начатое через час после приземления бело-синего ИЛа в аэропорту имени Хосе Марти, когда я впервые, в солнечной гостинице Сьерра-Маэстра, увидел океан так близко, что мог с балкона допрыгнуть до него.
Ныне плаванию было почти два года, я жил во Флоресе, океан был метрах в трехстах, и у меня появились новые приятели, оказавшиеся и одноклассниками, которые прослышали о моем прозвище – Флиппер. Флиппера я получил от прежних друзей после первого морского опыта, когда, взяв напрокат пику, впервые нырнув, насадил на нее крупных размеров шара – так мы называли иглобрюха, на которого охотники вроде нас всегда вели промысел. Поддерживая имя, я всегда старался принести c Рифа намного больше рыб, чем они, хотя, надо сказать, мать половину выбрасывала, да и я рыбу почти не ел, мне больше нравился кубинский рис, цыпленок в соусе, рефреска и апельсины. Иногда я весь день ел одни апельсины.
На море мы ходили сразу после занятий, когда вода с балкона еще смотрелась зеленой, а рифы под ней – коричневыми, я собирался быстрее всех, закачивал воздух в пневматическое ружье, хватал ласты, маску, трубку, подводный нож и стучался в соседнюю дверь, где жил Игорь, затем в дверь в соседнем подъезде, где жил Женя. Мы шли в шлепанцах до разрушенного мола, прятали обувь в камнях и залезали в воду, в которой можно было сидеть вечно. Доплывая до Рифа, мы проводили там день, а с заходом, напоминающим медленное ярко-оранжевое выключение неба, возвращались, стараясь переплыть залив побыстрей, так как был уже вечер, из убитых рыб сочилась кровь, а рыбы внизу, окрашенные в розовый свет, начинали темнеть, кораллы казались замками, а обитатели их – существами, которых следует избегать. Неприятней всего и страшней было то, что все время хотелось оглянуться назад, туда, где уже начиналась светлая с рифами созвездий ночь; подходили ночные рыбы, а те барракуды, которые только наблюдали за нами днем, готовились напасть. Со дна поднимались особые, ночные мурены, трехметровые тела которых я видел только в городском океанариуме. И если бы даже я никого не увидел, оглянувшись, то наверняка заметил бы и почувствовал, что океан – это одна незакрытая дверь. Чтобы уничтожить, преодолеть тот закатный страх, приходилось напевать. Это могла быть мелодия из популярной тогда «Аббы», наскучившая за день и теперь пришедшая вдруг в голову, или просто автоматическое щелканье языком – лишь бы разум уснул, ласты равномерней пенили воду, а порожденные тьмой чудовища не обретали образы.
Но на земле я почти переставал быть Флиппером. Едва я, избавившись от школы, уроков, заданий и прочих мук, выходил из дома на Авениду, меня окружали силы не то что враждебные, но явно смеющиеся и, может быть, даже презирающие. Когда мы с Женей в шортах, в шлепанцах и с зажженными сигаретами «Популярес» появились в кинотеатре «Карибе» – там шел фильм «Кровожадная акула», в Америке именуемый «Челюсти», – путь в темноте нам, как обычно, высветляла девушка маленьким фонариком. И когда мы шли за ней по узкому проходу, я заметил, что светит она небрежно, скорее себе под ноги. Мы заняли места в первом ряду, продолжая курить. Девушка, непонятно зачем, уселась в кресло слева от нас, тогда как место ее, конечно, было у входа. Она скорчилась в своем кресле, уткнув голову в колени. А потом вдруг исчезло изображение на экране: что-то случилось у киномеханика. Зрители сразу заорали, засвистели, кто-то начал хлопать. В это время Женя шепнул мне: «Смотри…» Я взглянул налево, увидел дрожащее в темноте синеватое свечение. Девушка, вытянув руку к стопе, медленно пробиралась фонарным светом по своей ноге. Снизу вверх. Сначала по левой,


