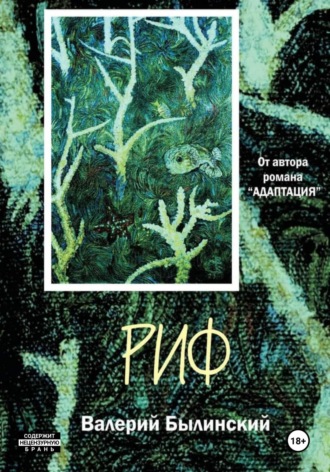
Валерий Былинский
Риф
И он вдруг почувствовал, что дрожь в теле улеглась. Стало спокойно, нежно и тихо – как случалось, наверное, последний раз у Сергея в глубоком детстве, когда он еще был бессмертным. И все мельчайшие суставы в нем перестали болеть. Как будто какая-то сила стала медленно и легко поднимать его с его гробовой полки. Серафима… Серафим, – вспомнил он слова майора.
Легко, как в юности, он спрыгнул с полки, упруго стал на ноги.
И пошел…
Пассажиры спали. Но не все. Не спала маленькая пятилетняя девочка, едущая к морю в Крым. Девочка хорошо видела из-за плеча спящей рядом матери, что случилось с двумя дядями возле купе проводника, и чувствовала, что одному из этих двух дядей сейчас очень плохо. И что второму из них тоже плохо – но по-другому. Она не знала еще, что такое унижение и что такое месть, и поэтому не могла ни понять, ни принять ни одну из сторон. Она только ощущала своим маленьким пятилетним сердцем, что этих двух взрослых надо срочно увести назад, в детство, и в ее красочных фантазиях она брала обоих дядь за руки и вела к себе, говоря им совсем по их взрослому: «Ну вот, вам еще рано жить у себя, если вы такие большие. Станьте опять маленькими, а потом снова идите во взрослые…» И два дяди, точь-в-точь две большие игрушки, покорно уходили с ней в ее безграничную страну.
Не спала и старушка на нижней полке. Во время происшествия у купе проводника она, затаившись как мышь, испуганно смотрела на обоих мужчин, а потом, когда один из мужчин прошел мимо и скрылся в середине вагона, а второй забрался на верхнюю полку напротив нее, она стала смотреть перед собой с закрытыми глазами и по привычке молиться и вдруг легко и просто увидела, что дальше случится. Мужчина, которого облили чаем, подходит к своему спящему обидчику, стягивает его за ворот футболки с полки. Тот ничего спросонья не понимает, и мужчина ударяет его полусогнутым кулаком по лицу, ткнув пальцами сразу в оба глаза. Заревев от боли, темноглазый инстинктивно сует правую руку в карман, где у него лежал маленький, купленный на ковельском рынке нож и, не видя ничего, тычет этим ножом в пространство вокруг. И с первого же раза случайно попадает Сергею в грудь, и кончик ножа, пройдя между ребер, входит в стучащее сердце Сергея. Черноглазого снова посадят, Сергея похоронят. Узнав об этом, не сможет выносить и родить своего первого ребенка бывшая любимая женщина Сергея, еще не знающая о том, что беременна и плачущая сейчас в постели варшавского отеля, куда она поехала по маршруту их несостоявшегося путешествия только лишь потому, что у нее остался билет.
– Господи, Боже ж ты мой, спаси ж и сохрани их обоих, – шепчуще щебетала старушка, с мукой в глазах глядя в прозрачную темноту перед собой, – сохрани ж этих человеков, не ведающих, что творят и непонимающих, что натворили, и что собираются натворить. Спаси ж и сохрани их, грешных, и меня, грешницу, прости, что словечко говорю за них. Спа-си, Господушка, их молодые душеньки! Спасишуньки, милый мой Боженька, сохранимушки их…
Когда Сергей нашел наконец в темноте спящего на нижней полке темноглазого, схватил его за ворот футболки и со всей силы ткнул его в лицо полусжатым кулаком, то сразу почувствовал, вслед за воплем своего врага, что он и самого себя почему-то ударил, и тоже в глаза, и, закричав от сильной боли, проснулся.
Да, он спал. Он просто забылся в горячечном сне, и то, что он отправился мстить за свое унижение, ему, оказывается, всего лишь приснилось.
Но странное дело – боль продолжалась. Сместившись с глаз на щеку и плечо, она толчками жгла его так, словно кто-то выплескивал ему на эти места стаканы кипятка.
Сергей вновь, во второй раз, открыл глаза – на этот раз полностью вернувшись в реальность – и увидел возле себя громадное и темное пятно человеческой головы, в которой светились белки глаз и зубы рта. И услышал:
– Слышь, братан…Братан, слышь?
Это был черноглазый, от темноты которого в вагонной тьме почти ничего не осталось.
Сергей спокойно, как на плывущую мимо дорогу, смотрел на него.
– Слышь, братан, – гулким шепотом проговорил, почти вплотную приблизив к нему лицо, темноглазый, – ты прости меня, а? Дурку я свалял, понимаешь? Не знаю, что на меня нашло. В общем, не серчай, земляк, хорошо?
И он протянул из темноты к лицу Сергея огромную, темного цвета ладонь.
– Лады?
Сергей молча кивнул и молча пожал его руку. Черноглазый медленно повернулся и исчез в темноте.
А он продолжал лежать, легко и мягко, будто на плотной воздушной подушке из невидимых крыльев, которые едва шевелились под ним. Он лежал бы так бесконечно, потому что ему очень хорошо и покойно было вот так беспечно бездумно лежать – но крылья мягко стали поднимать его, побуждая к движению. Они как бы говорили ему: ты в дороге, ты едешь в шторм и в солнце, в радость и в тоску, ты едешь в мужчине, в женщине, в ребенке и в старике, ты все время едешь во мне, человек. Поэтому не съезжай, не сходи, не останавливайся и не сворачивай, потому что нет на свете ничего более стоящего для тебя, чем пройти свой собственный путь в общей для всех темноте. И темнота, которая давно уже находится в тебе внутри и заполняет тебя метастазами, снова выскочит наружу через твою грудь.
Поезд стал замедлять свой ход, проводница пошла по вагону, спрашивая в темноте по-украински: «Била Церков… Кому в Билий сходить, кому в Билий…»
Дорога не повторяется. Не задумывайся, главное – не задумывайся.
– Кому в Билий?..
Сергей спустился с полки, взял свой рюкзак, вышел в тамбур и сошел с поезда.
Проводница, стоящая возле вагона, ничего не сказала – хотя Сергей видел, что она смотрит на него. Но когда точно ставишь свою ногу в свой будущий след, не остановит ничто.
Полчаса назад в Белой Церкви прошел дождь, перрон влажно поблескивал в туманно-молочном свете фонарей.
– Мужчина. Пиво, минералочка, пирожки. Что желаете?
Он повернулся.
Перед ним стояла Серафима. В том же возрасте, что и сто лет назад. Тонкая, кучерявые волосы, большие внимательные глаза. Немного отклонившись назад из-за тяжести, девушка держала перед собой корзину со снедью, которую обычно предлагают на вокзалах проезжающим в поездах.
– Что желаете? – вновь спросила она.
– Нет, ничего.
– Может водочки? У меня есть. Холодненькая, только из холодильника. И недорого, – Серафима нагнулась к корзинке. Что-то мелькнуло в ее фигурке зрелое, хозяйственное, когда она зашуршала в пакетах.
Повторяется только то, что в тебе.
– Нет, спасибо… Скажи, пожалуйста…
– ?..
– Как тебя зовут?
Женщина, пусть даже маленькая, всегда чувствует, когда на нее смотрят не как на женщину, а как на что-то неизмеримо большее. И не пугается.
– Софья, – ответила Серафима, внимательно разглядывая Сергея в поблескивающем свете фонарей.
– Софья. А мама у тебя есть?
– Да… она торгует там, в голове поезда.
– А отец?
– Нет.
«Ну да, – подумал он, – ребенок похож на того из родителей, с кем вырастает».
P. S. Женщина, спавшая в Бресте и уехавшая в Варшаву, звонила ему в течение суток, причем четырежды. Но все четыре раза поезд, на котором он ехал, въезжал в зону недоступности для мобильной связи. И если бы он посмотрел на дисплей своего телефона, то увидел бы знаки четырех неотвеченных входящих вызовов от женщины, которую думал, что любит. Но он не смотрел. Вероятно, все это вполне можно принять за знаки судьбы. Так бывает, что на каком-то участке дороги твоя колея с чьей-то сходится, а на каком-то участке – нет. И в этом не всегда есть собственная вина или воля того, кто движется по своему собственному пути в солнце и в шторм.
ЕГО ЖЕНА
– Ты когда-нибудь встретишься с ней?
– Да. Я постараюсь.
– Как это?
– Ну, ты же понимаешь… И потом, можно ведь и без нее все оформить, нам же говорили.
– Без нее будет долго. Я не могу больше ждать.
– Хорошо, Таня. Я постараюсь сегодня-завтра…
– Хорошо. Я целую тебя, – она положила трубку.
– И я…
Некоторое время Виктор стоял и смотрел на экран мобильного телефона, словно заметив в нем вход в какой-то другой мир. Затем нажал на кнопку выключения. Но телефон вновь завибрировал.
На этот раз звонила жена:
– А давай сегодня встретимся?
– Хорошо… – он неслышно вздохнул. – Когда?
Он долго бродил вокруг каких-то грязных ларьков, пытаясь отыскать кафе, в котором он когда-то познакомился с Машей. Из окошка одной из палаток высунулся кавказец с мясистыми руками и с пристальной улыбкой:
– Дарагой, эй? Чего ищешь, эй?
– Тут где-то кафе было, «Подсолнухи» называлось, не знаете?
– «Подсолнухи»? Знаю, конечно, «Подсолнухи», кто ж ее не знает? – засмеялся продавец и, высунувшись из окошка, махнул вперед – в узкий грязный проход между бачков с мусором.
Стараясь не задевать бачки, Виктор пошел по этому проходу. И вскоре действительно уперся в кафе. То самое. Даже название, запыленное и обветшавшее, сохранилось. С нарисованным масляной краской ободранным временем подсолнухом. Наверное, художник, который его рисовал, любил Ван-Гога. Где сейчас этот художник? В грязи у крыльца блекло розовели лохмотья облетевших цветов.
Потянув на себя дверь, Виктор вошел в убогую столовую: кривые пластиковые столы, витрина с пивом, куриными окорочками и вазочками с винегретом, вентилятор на стойке у продавщицы, кафельные полы и стены с запахом половой тряпки. За столами сидели гастарбайтеры таджики, бомжеватого вида дед с растрепанными волосами и с котом на поводке, компания, разливающая водку под столом, как в советские времена. Несмотря на надпись на стене «Не курить», курили.
С женой он расстался не так давно, и тогда она была тоненькой, стройной, почти девочкой-подростком. А сейчас, постаревшая, погрузневшая, в коротком платье, вульгарно и жирно сидящем на ее странно распухшем тридцатитрехлетнем теле, Маша сидела в середине зала, и вокруг нее был вычерпан омут пустоты – без людей. Еще на ней была шляпа. Где она взяла эту шляпу? С живыми приколотыми цветами, которые выглядели так, словно их принесли с могилы. Лицо Маши было сосредоточено на чем-то своем, внутреннем, и при этом жалостливо величаво. Ссутулившись, склонив над столом голову, она пила из стакана чай серо-янтарного цвета. Чай был горячий, Маша осторожно брала стакан двумя пальцами, поднимала, делала глоток и тут же ставила обратно на стол.
Тысячу лет назад, когда они встретились за этим столом, все было моложе, сильнее. Солнечный свет ярче проникал сквозь окна, беспечнее подрагивал на стенах солнечными зайчиками. «Мария», – строго и чуть смущенно представилась ему тогда эта девушка. Оба они оказались студентами одного вуза. Странно, говорил он ей, что раньше они не замечали друг друга, хотя, как выяснилось, часто спускались по одной лестнице во время перерыва между парами. Хотя потом, уже перед свадьбой, Маша призналась Виктору, что в «Подсолнухах» она его узнала, потому что не раз наблюдала за ним в институте. Высокая, худая, с большой головой на тонкой шее и с тревожно-восторженными глазами, она была похожа на раскрывающийся солнцу юный подсолнух, который черпает силу во влажной земле и проливает на мир сквозь поры семечек любящий свет.
Чуть помедлив, он подошел к ней.
– Маша…
Она подняла голову. Не удивившись, словно они виделись лишь вчера, жена так преувеличено бодро вскинула подбородок, что он отшатнулся.
– Хай! – бросила она вальяжным молодежным тенорком. – Я уж думала, ты не придешь.
Ему показалось, что он сходит с ума.
Сел напротив нее. Молчали.
Наверное, всего с полминуты длилась эта тишина, во время которой жена с задумчивой полуулыбкой разглядывала стакан с чаем, в котором, как ему казалось, находится какой-то ее собственный вход в другой мир. Мимо, шаркая ногами, шла буфетчица. Толстая, в фартуке, заляпанном соусом. Остановилась, пристально посмотрела на них.
– Можно мне чай? – повернулся к ней Виктор.
Буфетчица удивленно вскинула брови.
– В буфете возьмите… – сказала она и повернулась, чтобы идти.
– Подожди! – вдруг тонко крикнула Маша, с закрытыми глазами мотая головой, словно что-то для себя окончательно отвергая.
Буфетчица замерла. Жена открыла глаза и посмотрела на Виктора тревожным горячим взглядом.
– Накорми меня!
– Накормить? – он не понял, о чем она говорит.
– Да! Ты знаешь, у меня совсем нет сейчас денег… Тебе это нетрудно? – спросила она заискивающим тоном восьмилетней девочки.
– Да, конечно… – проговорил он, – но, может, тогда не здесь… пойдем куда-нибудь в нормальное место?
При слове «нормальное» толстуха в фартуке насмешливо фыркнула.
– Нет-нет, здесь… – покачала головой Маша, не отрывая от него своих глаз, – именно здесь… потому что… Ты что же, не помнишь?
Ему показалось, что сейчас она заплачет.
– Да, хорошо… я все помню… – кивнул он. – Пожалуйста, что ты хочешь?
– Меню, пожалуйста, – надменно вздернув подбородок, повернулась жена к буфетчице.
Жар стыда за жену опалил его щеки и потек вниз – в горло, в грудь.
Буфетчица мрачно усмехнулась, повернулась и, шаркая ногами, медленно двинулась к стойке.
«Это ничего, – подумал он, – какое ей дело до нас? Какое нам вообще дело до них?»
– Да, – словно прочитав его мысли, глядя ему в глаза и отрицательно мотая головой, сказала жена.
Они снова помолчали. И вновь ему показалось, что время исчезло. Понимая, что никто никакого меню не принесет, Виктор встал.
– Подожди, я сейчас.
Он вернулся и положил перед женой запечатанную в пластик книжку меню:
– Вот. Что ты хочешь?
Какие-то доли секунды она смотрела на меню, словно на новый вход в другой мир. Потом мягко заговорила.
– Что ж, пожалуй, вот это…. – Маша называла пюре, курицу, столичный салат и пирожное-корзинку так, словно это были фуа-гра и телятина в гранатовом соусе.
«Притворяется…» – с горечью отвращения подумал он. И тут же в его голове пронеслось: «А может быть – нет?»
Он отнес меню к стойке буфета, вернулся с полным подносом, поставил тарелки на стол.
– Спасибо, – чинно сказала она ему, словно официанту.
Он сел. Жена начала аккуратно, утонченно, задумчиво есть.
– А у меня, знаешь, новости, – сказала она, жуя. – Ленка, помнишь, актриса… ну та, что театр драмы бросила, предложила мне один проект, связанный с цветочным бизнесом. Но я отказалась. Ты же еще не вернулся. Вот когда муж приедет, сказала я Ленке, тогда и решим… Ты же знаешь, какая она надежная сопартнерша, ха-ха. Слушай, у меня через три часа самолет в Нью-Йорк. Деловой визит по поводу моего нового журнала, где я отвечаю за рубрику «Сны». Тебе, кстати, ничего не нужно в Нью-Йорке?
Он медленно покрутил головой.
Жена ела, и при этом быстро, незаметно, словно стесняясь, чтобы никто не увидел, отламывала кусочки от пирожного-корзинки и отправляла в рот.
– Я тут подумала, взвесила все, – продолжала она, – мы начнем все с конца. Ты не находишь? – она засмеялась и задрала голову так, что шляпа чуть не упала с нее. – Представь, все начинают с начала, а мы с конца! И кстати, я узнавала, мне еще не поздно родить. Тот ребенок, что у нас был, ну помнишь, выкидыш… он как раз расширил, как сказали мне сегодня врачи, родильную зону, так что вторые роды не должны быть болезненными.
– Маша…
– Да? – она подняла на него глаза, держа двумя пальцами недоеденное пирожное-корзинку.
– У нас не было никакого ребенка.
– Как это не было? Был. Был выкидыш, а это полноценный человек.
– Да, но это не роды…
– А что же это? Роды. Конечно, роды. Просто ребенок родился не на этот свет, а на тот, откуда пришел. Пришел и ушел, упс! Ты просто забыл, дорогой, – перегнувшись к нему, она вдруг нежно погладила его ладонью по волосам, – забывчивый мой…
Он ошарашено смотрел на нее:
– Скажи… они кололи тебя? Чем?
– У меня сегодня через три часа консультация в центральной московской клинике. Очень дорогая процедура, но я сейчас не нуждаюсь. Для своего здоровья и будущего потомства ничего не жалко, ха-ха-ха! Врач сегодня мне объяснит толком, как я смогу зачать.
– Через три часа ты летишь в Нью-Йорк, забыла?
Ему показалось, что во время всей этой сцены из-за спины стоящей у стойки толстухи-официантки кто-то внимательно смотрит на них.
Жена оглянулась и посмотрела точно в ту сторону, о которой он только что думал.
– В Нью-Йорк? Вау… А, ну да… Я не лечу, – она капризно пожала плечами, – я иду к ребенку.
– Какому ребенку… Маша… У нас не было и не будет никогда никаких детей. Я вообще-то хотел встретиться с тобой, чтобы…
– Ты кажется не в курсе. У нас уже есть ребенок, просто мы еще о нем не знаем. Он существует, просто еще не вошел в меня. Не волнуйся, материального от тебя ничего не требуется, в июле, как ты знаешь, я создала консалтинговую фирму – или я тебе не говорила? Нет? Говорила, говорила… так что наш мальчик не будет ни в чем нуждаться.
– Маша… Ты врешь. Зачем? Ты ведь раньше никогда не врала.
– Зачем ты так жестоко говоришь сейчас со мной?
– Я?
– Ты… – вдруг, всхлипнув, жена закрыла лицо руками и тихо зарыдала, – ты так жестоко сейчас сказал, вместо того, чтобы просто поверить…
– Поверить? Во что? В то, чего нет?
– Есть! Все уже есть, все, до нас! Но если не верить в него, оно исчезнет и не будет, не будет.
– Ну да, может, и этой тарелки нет? – кивнул он на стол. – И этой руки моей, и тебя, и меня… Вот я не в верю в тарелку – и она тут же исчезает? – Виктор зло засмеялся. – Не поверю в себя – и меня нет?
– Ты не любишь меня.
– Маша, погоди, успокойся, мы сейчас не об этом…
– Ты и ее не любишь…
– Кого?! – вздрогнув, он посмотрел на нее.
Жена вытерла лицо салфеткой и высморкалась.
– Какая разница кого, я же вижу, не любишь.
– Что ты видишь, Маша? – с отчаянием почти крикнул он. – Ты слепая!
– Ты заколдован, мой милый… – она улыбнулась ему, блестя мокрыми глазами, – вот в чем дело.
– Машенька, я….
– Я поэтому и пришла сюда, на это свидание. Чтобы расколдовать тебя.
– Что?.. нет…
– Мне нужно всего лишь поцеловать тебя! – жена вдруг торжественно встала. – Сейчас я тебя поцелую, и все пройдет, – полуоткрыв губы и закрыв глаза, она протянула к нему руки.
Он смотрел на нее. Маша топнула ногой:
– Ну?
Виктор встал. Щеками, затылком, спиной он почувствовал, какая густая воцарилась в зале тишина. Мужчины за дальним столом прекратили пить и уставились на них. Таджики-гастарбайтеры любопытно щурили глаза. Заснувший было за столом старик открыл заплывший глаз и тоже смотрел на него и жену. И даже толстая грязная буфетчица смотрела на них зачарованным взглядом.
Виктор мотнул головой, словно сбрасывая наваждение – и сразу же обессилено с дурацкой улыбкой опустился на стул.
Маша, словно решив поддержать его, тоже дурашливо улыбнулась. И тоже села. И подмигнула:
– Ну конечно. Это ничего. Это так только. Я расколдую тебя. Мой старичок царевич. Мой пожилой принц. Мой…
– Хватит, – резко сказал он.
– А что ж, принцев-стариков не бывает? – улыбалась она ребенком. – Они же тоже люди…
Он резко вскочил.
– Черт, давай я провожу тебя!
Ему уже было все равно, что их слышат.
Маша, сидя на стуле, широко раскрытыми глазами смотрела на него, поводя головой то вправо, то влево. Словно что-то читала в нем.
Потом, медленно отведя взгляд, сказала:
– Витя, мое имя Мария.
– Что? Я помню… Что ты несешь?
– Прости. Больше не буду. Я ухожу. Знаешь, сегодня я на машине и могу подвезти тебя.
– Нет у тебя никакой машины! Ты сумасшедшая дура, и из-за тебя я не могу наладить свою личную жизнь. Почему ты не пришла в загс как мы договаривались? Почему ты не хочешь со мной развестись? Я люблю, блин, другую женщину, она любит меня и хочет со мной жить. Почему ты со мной не разводишься? Почему закапываешь мою жизнь? Хочешь вместе с собой утащить в могилу безумия? Я здоровый, понимаешь, здоровый, и хочу жить и умереть здоровым!
– Умрешь. Обязательно умрешь очень здоровым, не волнуйся. Мы оба умрем здоровыми, и в один день. Как в сказке. Ты, что думаешь, сказок не бывает? Еще как бывает, это вот этого, – она плавно повела рукой в сторону, – не бывает. Я, кстати, сейчас подбираю замок, в котором мы будем жить… Ты какие замки любишь? У меня тут проспект имеется… вот, сейчас покажу….
Она открыла сумочку.
– Что? Что ты несешь…
– Ой, я спешу. Так тебя подвезти? Но только до метро. Я опаздываю в аэропорт.
– Маша…
Она взглянула на него потемневшими глазами, из которых потек в него блеклый туманный свет.
– Что? – спросила она, сощурив глаза.
– Спасибо, не надо меня подвозить, – сдерживая ярость, сказал он по слогам.
– Ну как хочешь, – Мария пожала плечами. – Чао! – жеманно сказала жена и встала. Медленно, покачивая шляпой, она подошла к двери и вышла. Со шляпы упали несколько лепестков, отметив ее путь к двери.
На улице, роняя цветочные лепестки, Мария прошла по узкому проходу между грязных бачков и мимо ларька с курящим в окне кавказцем. Улыбнулась ему шестилетней девочкой, продавец с недоумением посмотрел ей вслед.
Когда она входила в подземелье метро, прохожие оборачивались и смотрели на нее и на падающие с ее шляпы цветы.
Виктор некоторое время сидел за столом, рассматривал ее пустую тарелку с крошками оставшейся еды, потирал пальцами ручку вилки, которой она только что ела.
Потом он медленно встал, порылся в карманах, нашел мобильный телефон, хотел кому-то позвонить, но не стал. Положил телефон в карман и двинулся к выходу.
Этот путь занял у него оставшиеся тридцать пять лет его жизни.
На Тане он не женился – не дождавшись развода, она от него ушла. Искал, но так и не нашел себе новую жену, родил двух детей от двух женщин, дочери с ним не жили и видел их он в лучшем случае раз в год. Жену после встречи в «Подсолнухах» он больше никогда не встречал. Полагал, что, скорее всего, она умерла.
Но она не умерла.
Когда с Виктором в его захламленной грязной однокомнатной квартире случился инсульт, и он два дня пролежал на полу в сознании без еды и питья, Мария, оставив кабриолет у подъезда, только что из марсианского Нью-Йорка, в шуршащем платье вошла к нему, сняла шляпу, наклонилась, обняла и поцеловала в губы, вливая в него влагу и пищу любви. И он проснулся. И увидел, что лежит в облачении средневекового принца на высокой кровати в просторном замке, построенном на вершине холма, внизу которого накатывал на берег тихий морской прибой. Вдвоем с принцессой Марией, а после бракосочетания с королевой, он прожил в этом замке шесть лет, во время которых незнакомая для соседей Виктора полубезумная на вид и толстая женщина молчаливо ухаживала за их разбитым параличом соседом. Соседи не могли понять, каким образом эта старуха-бомжиха умудряется покупать нищему больному старику еду и дорогие лекарства. Из сострадания они давали ей иногда продукты и мелкие деньги, недоумевая, на что она вообще живет. Однажды, придя на какой-то из праздников в находящуюся неподалеку от дома часовню, одна из соседок узнала среди просящих милостыню нищих Марию.
Прошло шесть лет.
И вот, однажды ночью, королева проснулась из-за того, что король встал с брачного ложа и пошел со свечой в руке к выходу. Недолго думая, Мария вскочила и побежала за ним, пробежала все залы, по которым старик шел, настигла его – и успела выйти в ворота замка, в которые хлынул свет, в ту же секунду, что и ее муж.
Соседи похоронили их рядом в одной могиле. Они не знали, как зовут эту женщину и написали на кресте его имя, а рядом: «его жена».
ЖИВАЯ ВОДА
Круглые, выдутые из-под земли пузыри-холмы, густо поросшие кустарниками и высокой травой. Он и отец шли мимо этих холмов, взбирались на них, спускались. Отцу было пятьдесят девять лет, он упрямо, задумчиво шел, почти с такой же скоростью, что и сын, немного впереди, как идут все отцы всех детей. Сыну, Владимиру, было тридцать.
– Ну что, сынок… – отец остановился, оглянулся, сел на валун. – Помнишь, что мне уже почти шестьдесят лет?
– Да, – сын кивнул и присел рядом, на траву. – А мне уже тридцать.
И усмехнулся, словно позируя перед кем-то невидимым.
Отец вздохнул:
– Знаешь, я подумал…
– Что?
– Может не стоит?
– Как? Папа, ты же сам говорил, что любишь в жизни авантюризм, испытывать все новое, перемены…
– Но ведь это не авантюризм. И не перемены. Это чудо, сказка. Я и подумал, может не нужно мне это чудо, а?
– Ты сомневаешься, отец.
– Нет. Разве можно, смотря на все это, сомневаться? – он посмотрел на посеребренное лучами солнца небо над головой, на покрытые лучами света холмы. – Просто… может не стоит чего-то придумывать, если жизнь вот такая. Как есть. Она же не дурная, сын. Видишь, она хорошая.
– Ты пойми, – возразил, начиная нервничать, Владимир, – ты скоро умрешь, у тебя рак, и ты это знаешь. А живая вода – это чудо, которое можешь использовать только ты. Ты же сам говорил, помнишь?
Отец кивнул.
– Да, сынок.
– Ты убедил меня, что тебе терять нечего в твои шестьдесят, – продолжил сын. – Что, если ничего не получится, ты все равно и так умрешь… извини, папа, но ты говорил так…
– Ничего, – отец кивнул, – да, говорил.
– А если получится, тогда ведь все будет заново!
– Думаешь? А то, что было до этого, сотрется, что ли? Ему показалось, что отец усмехнулся.
– Папа…
– Я тут подумал, сынок, может мне в монахи уйти?
– Что?
– Ничего. Так. Доставай свое чудо, – улыбнулся отец. Владимир достал из кармана куртки две маленькие бутылочки, наподобие аптекарских для корвалола. Одна из них была голубого цвета, вторая охристо-земельного.
– Не перепутал?
– Нет. Живая – это голубая. Точно.
– Помню. Ну что, давай? – отец взял у него из рук голубую бутылочку, отвинтил крышку, понюхал. – Надо же… пахнет цветками акации, как в моем детстве.
– Твоем детстве?
– Да. Точно, вспомнил! Мне было года три или четыре… Кажется, это мое первое воспоминание в жизни. Надо же, помню. Я тогда у отца, твоего деда, в Киеве возле Пущи-Водицы жил, там где озера, и прямо сквозь густой лес проложены трамвайные пути… Я ехал на трамвае с мамой, твоей бабушкой, куда-то мы ехали, может быть просто на пляж. На остановке мы сошли. У меня в руках был автобус игрушечный, я почему-то в детстве любил вместо других игрушек именно автобусы, совсем как людей или животных… И этот автобус у меня был красный, самый любимый, он был для меня живым. Мы пошли по аллее, вокруг которой росли и цвели акации. Белыми такими сладкими пахучими цветками цвели. Ветки, напитанные соками этого цветения, свисали низко, и я, подпрыгивая, мог срывать эти лепестки, высасывать из них сладкий сок и идти дальше, и снова подпрыгивал, и снова пил этот сок и угощал им своего друга, автобус, и он тоже пил этот сок. «Пчелка моя», – сказала мне твоя бабушка. А я смотрел на ползающих по стволам акаций красных жучков-солдатиков, пил белый сладкий сок и так радовался жизни… Я не понимал, что радуюсь, я просто как цветок, как человеческий детеныш чувствовал, понимаешь, сынок?
– Да, понимаю… – мягко улыбаясь, Володя смотрел на отца. Таким счастливым он давно его не видел. От отца словно исходили лучи теплого солнца, выходили из его глаз, щек, лба, подбородка.
– Па, надо успеть до захода солнца… – неуверенно напомнил сын.
– Конечно, сынок… У нас еще куча времени, минимум полчаса. Полчаса – это много даже для человека, сын.
– Да, конечно, прости, па.
Володя опустил руку, в которых держал две бутылочки, и посмотрел вперед, в просвет между двумя холмами, куда садилось огромное горячее солнце.
Вокруг было молчание, раскрашенное шорохом трав, трелями кузнечиков и вздохами ветра.
Володя отвинтил крышку на голубой бутылочке, поднес ее к лицу, втянул носом. Отец внимательно на него смотрел.
– А знаешь, чем для меня пахнет? – спросил Владимир.
Отец кивнул ему, спрашивая.
– Помнишь, когда ты был рыбаком на Тихом океане, и я приехал к тебе на неделю? И мы поехали с тобой на берег океана. И вот мы с тобой вдвоем, двое мужчин… сколько тебе тогда было? А сколько мне, двенадцать, тринадцать? Мы наплавались, вылезли на полуразрушенный пирс возле маяка, там все было в разломах, которые заполняла прозрачная морская вода – и вот мы легли рядом… Хотя нет, ты сидел и курил, свесив ноги с пирса, а я лег, замерзший как цуцик – ты любил так говорить, помнишь? – лег своей ледяной грудью цуцика на горячие камни пирса… и этот запах солнца и морской воды, и водорослей, и выброшенных на берег ракушек, вот этот запах вечности и в то же время запах жизни мира… Запах океана, вот что я чувствую сейчас в этой бутылке.
Солнце почти зашло. Отец молчал, улыбаясь. Наконец он взял голубую бутылочку, посмотрел в небо, что-то прошептал и опрокинул в себя одним движением ее содержимое.
Небо потемнело. Казалось, еще немного, и с громом и молниями хлынет тропический дождь.
А потом стало тихо как никогда. И появились солнечные лучи, робко застрекотали кузнечики, легко зашуршал ветер. Володя поднял голову, осмотрелся. Вокруг были все те же круглые, словно выдутые из-под земли пузыри-холмы, густо поросшие кустарниками и высокой травой. Из травы выступали кое-где гладкие каменные валуны. Горячее солнце опускалось за горизонт. Но ведь оно уже должно было опуститься? Что-то не так….
А где же отец?
Володя встал, оглянулся: его нигде не было.
– Папа?
Он прошелся по холму – в одну сторону, другую, несколько раз вглядывался вниз.
– Папа? – звал он. – Папа, ты где?
– Я здесь, сына, здесь! – раздался тонкий голосок. На поляну из-за куста выбежал мальчик чуть старше трех лет. В футболке, крохотных шортах и босиком.
– Папа… – глядя на него, недоуменно то ли сказал, то ли спросил Володя, – ты где…
– Здесь, сына, я здесь! – с детским акцентом тонко закричал мальчик, подбежал к его коленям, обнял их и со взрослым отчаянием заголосил:
– Там автобус, сына, автобус, бо-бо автобус там, упал, раненый, больно ему, бобо, он лежит!
– Какой автобус, сы… ты что, о чем?
– Он, автобус, упал и ударился, пойдем же быстрее, туда, туда, сына, туда, – мальчик тянул его за штанину, указывая в кусты.
Володя поддался его движению и пошел за ним, держась своей пятерней за маленькую горячую ладошку.
– Вот! – малыш ткнул пальцем на застрявший в кустах над обрывом игрушечный автобус.
Володя спустился на несколько шагов, наклонился – и вытащил автобус из кустов. Он был красного цвета, явно старой еще советской модели с отломанной дверцей и без переднего колеса.
– Автобус бо-бо, – со слезами в глазах говорил мальчик, – бобо, ему больно, его надо лечить, сына, лечить…
– Да, конечно… – Володя в задумчивости погладил автобус по царапине-ранке, – сейчас все пройдет, мы его смажем йодом, и он выздоровеет.
– Нет, он умирает, умирает, – вдруг заплакал малыш, – слышишь, сын, умирает!
– Кто? Как ты сказал?
– Сына, спаси его, автобус умирает!
– Папа, нет… как же так… ты…
– Умирает, слышишь, сынок!
– Нет, … он не умрет, я… ты не умрешь, я… – говорил он.
– Обещай, что нет, что никто никогда не умрет, обещай, сына!
– Я…
– Смерти нет? Нет ее, сыночка, нет? – глазами, полными боли и слез, смотрел на него ребенок-отец.


