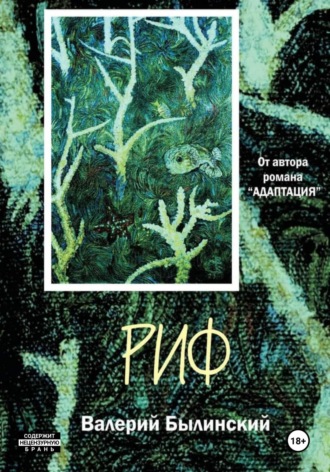
Валерий Былинский
Риф
Почему Честар вчера не вернулся за ним? Неужели этот человек-машина, которого в роте всегда называли Буйвол, а некоторые – Рокки, так устал, что не смог вернуться и прикончить его, Малко Павича здесь, в этом единственном целом во всем селе сарае?
«У тебя сербская фамилия, Малко», – как-то сказал сержант, смотря ему своим прищуренным взглядом в переносицу. Малко тогда отчетливо ощутил жужжание огромной силы в темных полусжатых пальцах Честара.
Интересно, сколько за всю жизнь Честар прикончил человек?
Малко вспомнил своего первого убитого – первого и может быть единственного, потому что сербы всегда были далеко и он стрелял в их сторону, не зная, попал или нет. Тогда, месяцев пять назад, еще летом, они вошли в маленькое село, где, как они думали, не было солдат; он шел следом за медленно ползущей танкеткой, и вдруг сбоку из проема между домом и пристройкой вынырнула фигура человека в белом, Малко, выворачивая тело, дал такую нелепую очередь, что изрешетил голубятню и печные трубы на двух домах, а тот человек, пожилой крестьянин, лежал почти разрезанный пулями с головы до живота – он оказался без оружия, но сержант Честар тогда сказал, усмехаясь: «Неплохо Малко, только стрелять научись».
С тех пор Малко знал – Честар ненавидит его.
А теперь? Как выросшее животное, он созрел для того, чтобы быть убитым, стоит только им вернуться…
Сидеть в темноте было невыносимо.
Малко на коленях пополз вперед, ткнул перчатками в дверь – она выпала и, наклонившись, повисла на одной петле. Он увидел прямо перед собой бледные зигзаги криво встающего солнца и белую под темным небом землю – выпал первый снег, остатки села лежали под белыми холмами, и только церковь, снесенная почти наполовину, горела таким ясным и чистым пламенем, как и вчера; все так же, даже еще сильнее клубился над пламенем черный дым – словно невидимый жар поддерживал огонь в течение всей ночи.
«Склад сапог у сербов там, что ли?» – сказал презрительно Честар, когда они уходили и солдаты как завороженные оборачивались на этот странный непрекращающийся дым. Все они помнили о том, что сербский пулемет ударил с церкви как раз тогда, когда пламя уже разгорелось. А потом, когда сербы все же ушли – в третий раз, – Честар выстроил их всех – человек десять-двенадцать – и сказал: «Теперь я ваш единственный командир, поэтому слушай приказ: сейчас уберемся отсюда к чертям собачьим, тут даже дома целого не осталось, рядом есть село, пойдем туда, а утром вернемся и соберем всех наших».
Он сказал, и они пошли. Малко Павич, думая только о распухшем пальце, сел на краю дороги, расшнуровал ботинок, а потом, перестав размышлять, в какой-то внезапно возникшей темноте скатился, прижав автомат, по склону вниз, вполз в полуразрушенный сарай, вбив одним рывком едва держащуюся на одной петле дверь в раму, и замер, удивившись, что мрак теперь окутал его вдвойне. Широко открыв глаза, он сидел на деревянном полу и, ничего не видя, напряженно смотрел вперед, безразлично ожидая, что сейчас раздадутся шаги сержанта.
«Чтобы убить или сломать челюсть, нужен повод, – сказал как-то Честар, – поэтому война в чем-то справедливая вещь…»
Малко знал, что Честар вернется. Он всегда выполняет, что говорит.
И он знал еще, что у него не хватит сил выстрелить в сержанта. Ведь он спасся лишь до половины, забежав в этот дом, и теперь вторая часть спасения стала ему не нужна – может быть исчез страх, может быть он так устал, что почти не чувствовал себя человеком, которому надо не хотеть умирать.
Глядя в темноту, Малко видел почти цветные, почти озвученные картинки: солдаты его роты, шатающиеся от двухдневного недосыпания, бряцая оружием, медленно идут вниз, и только Честар по прозвищу Буйвол, сбросив автомат с плеча, махнув замыкающему рукой: догоню, мол, начинает идти назад…
Постепенно картинки сменились видениями сна: какие-то обрывки детства, студенческих каникул в Дубровнике – и Малко заснул, сидя на коленях и опираясь на автомат, потом повалился на бок и проснулся уже перед восходом от внезапного, жуткого, как громкий крик, страха.
Теперь холод вернул его к действительности. Он ощутил робкую уверенность в себе, в своем двадцатилетнем возрасте, в своих руках, ногах, пальцах, в ровно бьющемся сердце. Он встал, выпрямился во весь рост, хрустнули суставы, голова едва не задела потолок – и вдруг обрадовался жизни, как ребенок приходу матери. Выбравшись на свет, Малко осмотрел оружие, вытащил из кармана и подсумка все патроны и набил ими второй рожок.
«Они вернутся, – кивнув, сказал он себе, – но я успею».
Он осмотрел дорогу и засыпанное снегом село – все было тихо, недвижно, и только горела церковь. Несколько птиц – черное воронье – кружили над крестьянским полем.
Малко принял решение. Он зашагал, обходя склон, с которого скатился вчера, справа. Там он нашел то, что искал: засыпанные снегом трупы убитых вчера солдат, почти все хорваты – его рота, кое-кого он знал по имени.
Малко вспомнил, как это было вчера. Они уже думали, что все кончено, и пошли, как гусята по дороге, на гору в село – почему-то по дороге, их погубила эта человеческая тяга к дорогам – веселые, уставшие, увешанные оружием, поснимав фуражки и каски, и тут как раз с той церкви и ударил пулемет. Малко не был тогда среди них, он поднимался в числе последних по склону, когда солдаты как камнепад стали валиться на него, сбили с ног, погребли под собой.
– А… Томак, – Малко присел на корточки перед первым убитым, которого он перевернул лицом вверх. – Ну что ж, поделись теперь, – найдя во внутреннем кармане френча бумажник, Малко пересчитал деньги: сто тридцать немецких марок. Подумав, он снял с Томака кольцо – золотое, пригодится.
Обыскивая следующего, он на секунду замер – показалось, что где-то рядом шепчет человек. Резко встав, Малко огляделся: никого, только тихо падает снег. Страх, пройдя как порыв ветра, оставил его – успокоившись, он продолжил свою работу.
Чуть позже он вновь выпрямился и внимательно посмотрел на волнистый край дороги.
«Да кто же там, Господи побери», – сказал он себе. Он снял с плеча автомат, осторожно, стараясь не шуметь, вскарабкался вверх по склону, пригнувшись вышел на середину дороги и посмотрел вниз.
Здесь трупов было меньше, и внизу по полю шла, поминутно спотыкаясь и падая коленями в снег, женщина – старая, сгорбленная. Она была закутана в длинную темную ткань, то ли шаль, то ли громадный платок. Подойдя к убитому, женщина опустилась рядом с ним на корточки, пригнулась – Малко показалось, что старуха хочет поцеловать мертвому руку – и почему-то застыла, не шевелясь в своей сгорбленной позе, похожая издали на огромную с распущенными черными крыльями птицу.
Потом она встала и медленно побрела к следующему. Малко смотрел. Он вспомнил о Честаре, обо всем, что было, потом, оглянувшись еще раз на дорогу, стал не спеша, чуть лениво спускаться вниз. Он чувствовал себя уверенным,
ему хотелось жить и говорить.
Пройдя метров десять, он остановился.
Старуха, вставая, качнулась, шаль сползла и оголила ногу – вид белого чистого тела внезапно сверкнул и ударил по глазам как быстрый осколок солнца.
«Не может быть, – пробормотал Малко, – это ведь…»
Подходя к ней все ближе, Малко тревожно догадывался, что женщина не так стара, как казалось издали. Подойдя вплотную и встав за ее спиной – она сидела на корточках, держа в левой руке замерзшую ладонь мертвеца и что-то шептала, – он хмуро смотрел на покрытое гусиной кожей тонкое девичье колено, на почти прозрачную щиколотку, утопающую в рваной, явно не по размеру кроссовке. Он смотрел на ее густые черные волосы и думал о том, какое у нее лицо, а когда она обернулась – быстро, стремительно, – понял, что не ошибся: большие бесстрашные глаза с двумя голубыми бликами, обветренные губы, нос с горбинкой, сросшиеся брови.
Она неотрывно, почти не мигая, смотрела ему в глаза – до тех пор, пока Малко, стараясь казаться сильным, не сказал:
– Ну… девчушка, чем ты тут занимаешься?
– Я людям гадаю, – тщательно выговаривая слова, ответила девушка.
Ему стало противно. Чувствуя отвращение к себе и к этой девчонке, он вспомнил о Честаре, о том, что надо бежать, и что церковь пылает уже два дня, о набитых деньгами карманах – он опустил глаза, сделал к ней шаг, едва не наступив на огромную, наверняка сорок пятого размера, кроссовку, и вздрогнул, ощутив тепло ее дыхания.
Он взглянул на нее.
– Как тебя зовут?
– Христина.
– Сербка?
– Да.
– Я – Малко… А фамилия у меня ваша. Ты чего тут, с ума сошла, что ли?
– Я… Я людям гадаю…
– Чего? Мертвецам? Да ты…
Он расхохотался, потом, оборвав смех, покрутил пальцем у виска и добавил:
– Погадай лучше мне, – и протянул руку, не сняв перчатки.
Она не шелохнулась.
– Ну ладно, – снисходительно сказал Малко. Уверенность снова вернулась к нему, и ему показалось, что надо пожалеть девушку.
– Христина!
Она молчала.
– Я не убью тебя, Христина, – сказал он, заглядывая ей в глаза.
Она не ответила.
– И о чем же?
– Что? – спросила она.
– Ты им гадаешь.
– О разном. О том, что их ждет.
Малко улыбнулся.
– Ну и что же будет вот с этим? – он кивнул влево, туда, где лежал в камуфляжной куртке лицом вверх убитый.
– Его съедят ястребы.
– Ястребы? – он вздрогнул. – Что? – сказал он еще раз.
– Они прилетают сюда.
Он обернулся.
– С гор?
– Да.
Вдруг Малко задрал голову. Тех, что он принимал за ворон, стало больше, они кружили, временами исчезая в черных клубах дыма горящей церкви.
– Это они?
– Да.
– Черт возьми… – Малко, пытаясь улыбнуться, опустил глаза и смотрел на ноги девчонки, на голые, ярко видные сквозь распахнутую шаль тонкие худые ноги слабой женщины, покрытые гусиной кожей холода, и на секунду злое ледяное желание охватило его, полное власти и ненависти к этим белым коленям, тонким кистям рук, их захотелось схватить, выкрутить, сделать больно.
Она тоже опустила глаза, как бы соглашаясь с его гневом.
Малко с полминуты молчал, облизывая тающий на губах снег.
– Сколько тебе лет?
– Шестнадцать.
– Христина…
Она посмотрела на него.
– Христина, – сказал он, словно пробуя на вкус ее имя как снег, – ты… Что у тебя случилось?
– Ничего.
– А отец, мать…
– Их убили позавчера.
– А потом?
– Что – потом?
– У тебя… – ему в глаза опять сверкнула белизна ее ног, – ты уже спала с кем-нибудь? – спросил он неожиданно, как человек, который заговорил во сне.
– Да, вчера, три раза.
– Это были солдаты?
– Солдаты…
– Кто они?
– Я не понимаю…
– Ну кто? Сербы, хорваты?
– Я не помню, не помню, – сказала она испуганно. Протянув руку, он погладил ее лоб, такой же белый и чистый, как и ее колени. Она молчала. Малко смотрел, как его руку в перчатке и ее черные волосы медленно покрывает тут же тающий снег.
– Скажи… Но ведь ястребы не едят падаль.
– Сейчас все всё едят. Так получилось.
– Да, это так, – он убрал руку и положил ее на ремень автомата.
– А с этим что будет? – спросил он, указывая на засыпанный снегом труп позади Христины.
– Его тоже съедят ястребы.
– А вот того?
– И его.
– А там? – он махнул рукой в сторону дороги.
– Там тоже.
– Ястребы?
– Ястребы.
– Но ведь Честар сказал что вернется.
– Честар не вернется.
Малко замолчал, смотря вниз – ноги девушки слепили ему глаза, слепили так нестерпимо, что он почувствовал, что плачет.
Сквозь слезы он не заметил, что она тихо повернулась и тихо пошла к тому дальнему краю склона, где виднелись засыпанные снегом последние тела убитых. Словно что-то поняв, он рванулся к ней, быстро обогнал и, споткнувшись, схватился как за поручень мостика за ее тонкую, слабую, сразу хрустнувшую кисть.
– Христина, – сказал он, заглядывая ей в лицо, почти касаясь недельной щетиной ее щеки. – Христина, а скажи, что будет со мной? – и протянул ей руку, забыв снять перчатку.
Но она, едва посмотрев на него, сразу отвела взгляд, потом все же взглянула ему в глаза, и он, чувствуя, как замерзают остановившиеся на щеках слезы, услышал:
– Не знаю.
БЕЗ ГЕРОЯ
Я тогда был студентом, только что женился, мы жили мечтами в плохой квартире, заставленной мебелью из общежитий, копили деньги, завтракали чаем на перевернутом посылочном ящике, упираясь с двух сторон в него коленями и кладя на него локти, спали вместе когда хотели и когда придется; мы копили деньги и мечтали: может, все будет не так. Потом, летом, я уговорил ее поехать в Болгарию, она сомневалась, говорила – потом, потом. Бывает, что жизнь становится стремительней, ты устаешь или лениво садишься, а она как человек, как женщина, обернувшись, уходит дальше – просто так, так себе. Что-то мелькнуло мимо меня в тот год – не знаю, может быть, не родился ребенок или прошла тоска, – но я, как талантливый адвокат, запросто уговорил ее, мою жену, поехать в это последнее путешествие. Мы поселились на море и прожили месяц словно в раю, и конечно это и было как мы мечтали: не так. Ей попала песчинка в глаз – вот незадача на отдыхе! – как раз когда нужно было уезжать, что-то случилось с ее контактной линзой, мы поехали в Софию, купили, она продолжала лечиться, капала капли в глаза. Мы жили у родственников, которых не собирались посещать, и она уговорила меня вернуться в Москву – ведь давно уже был сентябрь, занятия, а ее институт можно было пропустить. Она уговорила меня так же, как я ее – талантливо, я не мог, как подзащитный, возразить.
Перед отъездом я смотрел телевизор, говорили, что на станции «Русе» забастовка, поезда не идут, и когда во сне, выпив с вечера ракии, я услышал, что поезд стоит, мои попутчики – двое русских и грек – громче стучат картами и разговоры наплывают на меня отчетливей, чем наяву, я проснулся, спрыгнул с полки, сел рядом с игроками, спросил: «Где мы? Куда…» Они засмеялись, а грек Келисиди сказал: «Ты что, не слышал? Забастовка. Будем тут стоять, играть, пить». Я сидел рядом с ними, полуголый, покачиваясь от сна и от начавшейся головной боли, потом наклонился и стал искать под сиденьем кроссовки, а Макс, один из русских, разбросав по столу карты, спросил: «Вадик, в преф-то будешь?» Вставая, я ответил: «Нет, пойду куплю пива», а второй из наших, толстяк без имени, быстро шелестнул деньгами и протянул мне сто левов: «И нам, Вадик».
Я вышел на перрон. Почти рассвело, поезд стоял, пассажиры, такие же как я, ходили, поеживались, курили. Они были цветные, праздничные, другие люди, и это сразу бросалось в глаза. Должно быть, никогда в этих местах не останавливался настоящий длинный, полный беспечных туристов, поезд. «Русе», пограничная станция, была где-то впереди, праздничный берег моря – сзади. Толчок времени – или пространства – забросил нас сюда: равнина, трава, вокруг белые горы и в середине пять-шесть домиков с красной черепицей, здание станции, окна ресторана или харчевни, велосипед у входа и станционный полицейский – пыльный, равнодушный.
Я опоздал. Поезд стоял с двух часов и в ресторане – мест на двадцать – пиво было выкуплено: шуменское, баварское, турецкое, греческое. Осталось вино, белое, и я купил две бутылки – все могло исчезнуть. Но хотелось пива. Я сел за столик, спросил завтрак. Хозяин – пожилой болгарин – вышел из-за стойки, улыбнулся, подняв седые брови, отвернулся и нетерпеливо крикнул: «Шанка! Шанка!» Никто не появился, хозяин подошел ко мне, тепло улыбаясь, сел рядом и спросил: «Москва?» Я кивнул, он заговорил по-болгарски, думая, вероятно, что говорит по-русски и я, с трудом понимая его, услышал, что забастовка на «Русе» – это надолго, и что за пивом и за напитками поехала машина, а я, тоже улыбаясь, слушал его, держась пальцами за виски, так что он в конце концов спросил: «Пьянка, пьянка?» Я кивнул, хозяин, качнув головой, сказал: «Да-да, надо киселе мляко, да? Таратор, да?» Я кивал, думая о холодном пиве, а потом, вспомнив о жене, спросил, есть ли телефон. Хозяин махнул рукой куда-то в сторону: «Там… говорят, занято, ваши, Москва…» – и я решил, что позвоню после завтрака и может быть после пива. Когда я уезжал, жена собиралась на прием к глазному врачу, знакомому наших родственников там, в Софии. Хозяин встал и опять крикнул: громче, нетерпеливей: «Шанка!» Повернув голову, он смотрел куда-то вниз, на пол – так, словно звал собаку. Крикнув еще раз, хозяин махнул рукой и отчетливо сказал по-русски, но без примеси грязи: «ах ты блядь». Он направился в сторону приоткрытой двери – должно быть на кухню, и оттуда вдруг вышла девушка – может быть, девочка – в мятом, выше колен темном платье, в переднике, закапанном соусом, и с быстрыми, широко раскрытыми глазами. Хозяин что-то брезгливо сказал ей и замахнулся, словно хотел ударить, рукой – я вздрогнул. Шанка подошла ко мне, передник взвился, мелькнули колени, белые, яркие. Посмотрев на меня, она улыбнулась и покраснела – я вздрогнул, мне показалось, что я очутился в новой, только что появившейся как вулканический остров стране – для нас, для двоих. Мне показалось: я вижу ее, женщину, частями, видениями, картинами слишком реального сна. Ее зубы блеснули, улыбка дернулась влево. Она наклонила голову, волосы упали на плечо. Потом она что-то спросила, улыбаясь, поднесла руку ко рту, провела по губам. Я что-то ответил. Я смотрел на ее зубы, я разговаривал с ее ртом.
Она ушла. Что-то случилось между нами – то, что невозможно скрыть – и может поэтому хозяин, когда я уже допивал холодное кислое молоко и начинал есть белый, усыпанный листьями салата сыр, подошел ко мне, сел на краешек стола и доверительно, нагнув свою седую голову, сообщил: «Шанку брось, парень. Она черногорка, блядь, осьмнадцать лет, сто мужчин было, розумеешь?» Я сидел, ел салат, улыбался его произношению, думал о ее зубах и о своих, порченых кариесом. Усмехаясь, я говорил: «Конечно, розумею». «Заболеть можно, парень…» – хозяин похлопал меня по плечу, соскочил со стола и пошел к стойке.
В ресторан входили пассажиры с поезда – семья: муж и жена, дети в ярких шортах-бермудах. «Шанка!» – крикнул хозяин. Она вышла, белая, залитая солнцем и подошла к этим людям. Дверь хлопала, ресторан наполнялся, Шанка мелькала мимо меня, почти касаясь руками, ногой, передником, платьем. Я видел, как потеют ее пальцы, как ткань прилипает к коленям, как она чувствует меня – рывками, толчками, плохо совпадающими с моими точно такими же провалами в яму, – так бывает, когда болен и сладко отдаешься приступу. Ночь кончилась, давно наступил белый день, и я, дождавшись машины с пивом, отправился с полным пакетом в вагон – спать. По дороге мне казалось, что я вижу сон наяву: поезд – серая вереница фургонов, люди в одежде, покрытой блестками песка и какая-то боль – там, за горами. Игроки продолжали играть, я забрался на полку, заснул. Во сне я заметил вылетающую из-за гор птицу, мне хотелось приблизить ее, рассмотреть, но вдруг я увидел вторую картину – солнечней, искренней, там приближались ко мне белые зубы – как вспышка, как взрыв милосердия тела к телу, странное прикосновение, которое еще не произошло.
Я проснулся, было часов шесть, вечер, игроки стучали картами и поезд стоял. Он стоял тихо, освещенный оранжевым солнцем, и мне показалось, что я заметил свое вспыхнувшее как бенгальский огонь наслаждение, что я один могу подойти к нему, коснуться, войти. Спрыгнув с полки, я спросил: «Ну… какие новости?» «Все то же, – сказал Макс, – еще день стоять точно будем, пока им зарплату не повысят, в этой дыре…» Я одевался, Толстый нервно усмехнулся: «Пока ты дрых, меня тут обыграли. Послушай, ну зачем тебе вообще бабки, грек? У тебя же в Салониках яхта есть, а, грек? И чего ты вообще в Россию-то прешь?» «Я в России родился, друг,– говорил Келисиди. – И вообще, ты богаче меня, я думаю… смотри, какой толстый!» «Катись-ка ты к своей Андромахе, грек», – Толстый снял футболку и вытер лицо. – Макс, кстати, надо бы еще пивка, а? Жара». «Доиграем, – Макс повернулся ко мне. – Вадик, ты, говорят, какую-то официанточку…» «А-а…» – я махнул рукой и вышел. Мне казалось, что они тоже смотрели мой сон. Может быть жена – там за горами – его тоже видела. Я вспомнил о ней, как думают о прошлом – нежно, тепло, обыкновенно.
В ресторане хозяин снисходительно посмотрел на меня, улыбнулся, сказал: «Ну, парень…» Потом напомнил: «Ты звонить хотел, сейчас свободно, иди». Улыбаясь, я пожал плечами, спросил завтрак. «Завтрак? – переспросил хозяин. – Завтрак?» «Ну, ужин…» «Другая заболела, – сказал хозяин, разглядывая меня. – Шанка опять». И крикнул: «Шанка!» Она выскочила, остановилась – в том же темном платье, в белом с рыжим пятном переднике. Она не улыбалась, она смотрела на меня – небольшая, стройная, чуть склонив налево голову – темные волосы упали на плечо. Я медленно, замерев за своим столом, почувствовал: дрожь, словно легкая трепещущая ткань, пробежала сначала по ней, потом по мне. Она стояла почти рядом, плотно сведя ноги, разведя пальцы рук, сзади ее заливал желтеющий солнечный свет – ее тело вспыхивало, дрожало, лицо, руки, все стало прозрачным, другим. Я чувствовал ее белые зубы за тонкими, крепко сжатыми губами. Потом она подошла – и мне показалось, что она облизнулась. Во мне вдруг проснулся голод, странный, сильный, мне еще никогда так не хотелось есть. «Шанка, – сказал я, улыбаясь, – Шанка, сядь рядом, вот сюда, поговорим, давай?» Она быстро кивнула головой и улыбнулась, не разжимая губ. Она неподвижно стояла, почти касаясь меня коленями, чуть искривив в улыбке рот. «Ну, Шанка, что же ты не садишься?» Она снова кивнула и тут я рассмеялся: «Ах да, у вас же все наоборот! У вас, болгар… Но ты же черногорка, Шанка, ведь так? Ты живешь в горах? У вас тоже кивают, чтобы сказать нет? Да? Ты понимаешь меня? И что такое Шанка – Жанка, да?» Она молча улыбалась, уже почти обнажив зубы, кивала и мотала головой, а я спрашивал ее обо всем, что приходило в голову, давно уже поняв, что она принимает меня за другого, за того, кто перед ней сейчас, сегодня. Я и так другой, и она, конечно, тоже. Я был турист, человек ниоткуда, цветной, проездом, – и кто мог знать, кем я стану там, в Москве, в плохо обставленной квартире с вечным чаем и с перспективой постепенно получить в жизни все, кроме одного – перемен?
Наконец она ушла за заказанным мной завтраком, а когда вернулась, заставила стол, и, быстро оглянувшись, села напротив. Ресторан был пуст, даже хозяин куда-то вышел, наверное, давно уже махнув на меня и на Шанку рукой – словно весь мир быстро, безразлично отвернулся от нас – наконец-то, ведь времени – я понял – осталось так мало. Я попросил ее принести две глиняные тарелки холодного таратора, две порции печеного картофеля с перцем и рисом, и сказал: «Давай, Шанка, ешь тоже, ты ведь голодна?» Она что-то ответила – на своем странном горном наречии, опять оглянулась, взяла ложку и начала медленно есть, иногда поднимая на меня свои быстрые, с темными бликами глаза. Ее пальцы подрагивали, глотала она комками, с усилием, и мне казалось, что она едва сдерживает себя, чтобы с жадностью не наброситься на еду. Я следил за ней, едва прикасаясь к своей порции, и в это время вошли, шумно распахнув дверь, посетители, опять семья, бермуды и звонкие голоса. Шанка, не доев, вскочила, оправила платье, вытерла губы и, виновато пожав плечами, помчалась к посетителям, потом на кухню, а я, повинуясь сладкому как головокружение инстинкту, быстро пододвинул к себе ее тарелку, оглянувшись – не смотрит ли? – погрузил ложку в прохладный, пахнущий ее белыми зубами кефир. Меня бросило в жар, голова кружилась, и я быстро тушил это пламя жадными судорожными глотками леденеющего кефира, и вдруг сошел с ума: мне померещилось, что я вхожу в ее плоть, что она уже во мне, что я съел ее, выпил и наелся так, что тошнит. На секунду стало тревожно, тяжело – с опаской повернув еще раз голову, чувствуя текущий по губам кефир, я заметил ее приплюснутое к стеклу кухонной двери лицо – оказывается, она наблюдала, она видела все. Постепенно я успокоился, отодвинул обе тарелки, навалился локтями на стол, и уже вставая еще раз взглянул на дверь – в ее прилипших к стеклу глазах по прежнему светился ужас вдребезги разбитого одиночества.
Уже стемнело. Я чувствовал, что надо что-то еще сделать – последнее; что время уже выросло как дикое животное, стремящееся в лес. Но я устал, тело ныло, я еле доплелся до вагона, нырнул в полумрак купе, где стучали карты, было накурено, и замедленный голос Толстого сказал: «Тебе телеграмма, Вад…» «Где?» – я стащил футболку, полез на полку. «Там, возьми…» – Толстый куда-то кивнул. А я увидел птицу, она уже подлетала, маленькая, из-за гор, держа в клюве невидимое, кажется – страх. Стучали карты – а, может быть, птица ударила в стекло вагона клювом – сильно, страшно. Я лежал, сжавшись в комок, быстро замерзая, и стены купе расширялись, делая меня слишком видимым, сверхцветным, ярким. Я не мог спрятаться: я проступал в темноте как цветное фотоизображение. Наконец наступила тишина, свет стал коричневым, и я, не раскрывая глаз, почувствовал – птица спокойно, давно, без звона стекла и крови проникла внутрь, она тихо ходит по уснувшему купе, задевая разбросанные карты и игроков сложенными крыльями, она ходит совсем рядом, почти касаясь меня.
Я проснулся. За окном что-то серело – утро или день. Все спали. Макс, раздевшись, на своей полке, а Келисиди с Толстым полулежа, друг на друге, в мятой потной одежде. Грек негромко храпел. Я слез с полки и едва не упал, наступив на пивную бутылку. «Эй, Толстый… – я тронул спящего за плечо, – слышь… где моя телеграмма?» Он шевельнулся, что-то пробормотал. Грек захрапел громче. Я вышел на перрон. Я был один, поезд стоял, словно всеми покинутый, и по-прежнему было неясно, день сейчас или нет. Мои часы остались в купе. Я медленно вошел в ресторан – никого, большие часы над стойкой стоят. И все же я услышал что-то – то ли шорох гравия, то ли слабые шаги – там, за спиной. Я сел за один из столов, положил голову на локти, кажется уснул. И вдруг время опять застучало – я услышал во сне хорошо знакомый, тихий, равномерно идущий звук. Быстро подняв голову, я увидел ее – напевая что-то, она ходила по залу, протирала полотенцем столы. «Шанка, – сказал я. – Шанка!» – повторил я громче. Она обернулась, быстро прикрыла рот рукой, сделала шаг назад, но меня уже ослепил ее белый свет, я почувствовал, улыбаясь, что такое приятная боль. Я встал – а она попятилась, задевая ягодицами столы, стулья. На ней то же платье, тот же передник. «Шанка! – повторил я. – Да иди же сюда, черт…» Она задом вошла на кухню, шагнув следом, я запер дверь и успел услышать, что в ресторан опять шумно входят люди, семья, дети. Было темно, я поймал ее за влажные плечи, развернул и, зажмурившись от вспышки, быстро прижал ее зубы к своим, порченым кариесом. В следующее мгновенье я оттолкнул ее, и она стала раздеваться так стремительно, что казалось: еще немного, и она сбросит не только одежду, но и кожу – как змея. А потом я уже почти схватил ее, почти прыгнул, закрыв глаза, в этот миг страшной красоты – или мне только померещилось то, что и так уже случилось вчера, когда я съел ее кефир, или еще раньше, когда она только посмотрела, улыбнулась – когда? – что-то случилось между нами, будто нереальное переспало с реальным и теперь должен родиться ребенок, – может быть все случилось давным-давно, и мне только кажется, все позади, как и то, что внезапно застучали в дверь – сильно, тревожно. Не испугавшись, я спокойно отворил.
На пороге стояли таможенники, среди них был и хозяин ресторана, и Макс, и Толстый, и грек. Хозяин, указывая на меня, что-то быстро взволнованно говорил. Офицер – ближайший ко мне – ткнул мне в лицо телеграммой, а я, спокойно улыбаясь, взял в руки этот листок бумаги и прочитал: «Срочно приезжай, она умирает». Я читал, не понимая и уже смеясь – громко, нескромно: «Что за бред? – говорил я вслух. – Она умирает, умирает? разве можно умереть от какой-то песчинки в глаз?»
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ
Снег летел им навстречу. Вадим, нагнув голову, курил на ходу, а Паша, отворачиваясь, недовольно морщился. Заскочив в стеклянную дверь, они отряхнулись. Парень-бармен крикнул негромко: «Ребята, не курим!»
– Да-да, – весело сказал Вадим и бросил окурок за дверь. – Ну, что будешь?
– Кофе, – сказал Паша, кусая губу.
– И коньяк? Слушай, давай по бутерброду, салат и… коньяк?
– Давай, – сказал Паша, – только… время.
– Проблемы?
– Философия в два.
– Так я помню. Времени – сорок минут. Ты что, с такой холодины выпить не хочешь?
– Да хочу!
– Не нервничай, Паша. Если хочешь, то скажи нормально: «Да».
Вадим сходил к стойке бара, расставил на столе чашки и тарелки с бутербродами.
– Пей, – улыбаясь, сказал он, – я коньяк сразу в кофе вылил, так, знаешь, с мороза приятней.
Паша поднес ко рту чашку с кофе, сморщился и сказал:
– Далеко забрались…
Вадим, делая глоток, поперхнулся и засмеялся:
– Да ты артист. Скажи еще, что не был здесь ни разу.
– Ни разу.
– Да… Два года тут ходить и не знать. Правда это не лучшее место. Напротив рюмочная есть, мы туда сейчас не пойдем, конечно. Хотя, пожалуй…
– Нет уж, – сказал Паша резко.
– Да ты точно сегодня не в себе. Что случилось?
– Ничего. Сколько это все стоит?
– Брось. Ерунда как всегда.
Они выпили кофе, доели бутерброды.
– Снег какой, – мрачно сказал Паша, посмотрев в окно.
– Да снег как снег. Ты прямо как женщине говоришь, знаешь, когда познакомиться хочешь, то сразу о погоде. Слушай, не нуди только, а? Что с тобой?
– Сигареты есть?
– Да есть. Пошли на улицу курить. А потом чего-нибудь еще съедим или выпьем.
Они вышли за дверь, повернулись спинами к снегу. Вадим щелкнул зажигалкой и вспомнил:
– Да ведь ты бросил?
– Курю.
– Слушай! – Вадим расширил глаза и сделал вид, будто бьет себя по лбу рукой. – Эвелина!
Паша что-то пробормотал.
– Да Эвелина или нет?
– Чего тебе надо? – покорно спросил Паша.
– Значит Эвелина.
– Все это ерунда, – сказал Паша, покраснев.
– Ну да, девочка красивая, умная. Ты что, с ней поссорился?
– Этого мало, – резко сказал Паша.
Вадим снисходительно усмехнулся:
– Чего же еще?
– Я про «красивая и умная». Вернее, не мало. Этого бывает даже не нужно. Не нужно тогда, когда думаешь, что это тот самый случай и есть. Пойми, Вадик… Ну бывает же такое. Я понимаю, тебе смешно, но ведь бывает, что прямо чувствуешь: это – она! И больше такой никогда не будет, никогда!
– Не знаю, – Вадим задумался. Глаза его изменились, а улыбка осталась прежней.
– Вот ты, Вадим… – сказал Паша неуверенно. – Я знаю тебя почти два года, и мне кажется… Тебе ведь тридцать уже скоро?
– Смеёшься, что ли? Через полгода двадцать семь.
– А мне девятнадцать. Разница в семь лет. Но дело не в этом. Ты… по-моему – счастлив?
– Да уж точно, что не несчастлив. И всё-таки, с чего ты взял?


