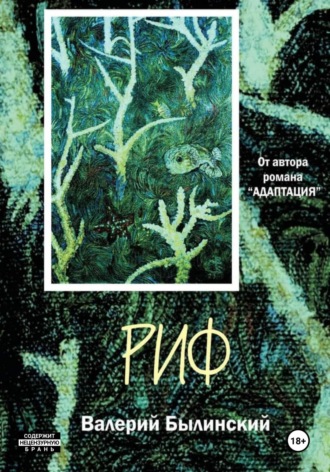
Валерий Былинский
Риф
– Ну, ты улыбаешься всё время… учишься легко, с людьми сходишься, пьёшь легко, да и ещё…
– Ну?
– Ты только не подумай… Я видел, к тебе сегодня жена приходила.
– Приходила. Ну так что же?
– Она очень красивая.
– А… – Вадим уронил сигарету. – Пошли-ка еще выпьем.
Они вернулись к своему столику. Вадим принес две рюмки коньяка и две порции лимона в сахаре.
– Слушай, Вадим, ты извини, что я так, – сказал Паша, – но жена у тебя не просто красивая. Она прямо светится вся изнутри, в ней словно горит что-то. По-моему, она чудесная. Правда, я стоял и смотрел со стороны. Вы такая пара, что я подумал: бывает же такое!
– Да уж, – сказал Вадим, улыбаясь.
Они помолчали.
– Вадим, – сказал Паша. – Я ведь с Эвелиной в этом кафе познакомился. То есть я ее знал, конечно, с первого курса, но здесь как бы все началось.
– В этом кафе?
– Да, в мае. Мы пошли сюда втроем – я, она, и ее подружка. Тут тогда стояли стулья, мы сидели, и нас обслуживал официант. Потом ее подружка ушла, и я сказал, когда мы вышли: «А ты не была на берегу Москвы-реки»? Она засмеялась и сказала, что конечно была, ведь она родилась в Москве. А я сказал, что имею в виду именно этот берег, возле университета. Вот так мы пошли бродить вдвоем. А потом еще сюда заходили, и в рюмочной я был, и все тут знаю… бред какой-то.
– Может еще коньяка по пятьдесят?
– Давай по пятьдесят. Слушай, Вадик, давай я заплачу?
– Да иди ты!
Вернувшись, Вадим поставил на стол две полные рюмки.
– Азербайджанский, дрянь, – сказал он ласково. – Ух, хорошо.
Они выпили.
– Ты извини, что я опять лезу, – начал Паша.
– Да-да, я понял – о жене, давай, – сказал Вадим, улыбаясь.
– Скажи, а где ты с ней познакомился?
– Ты хочешь спросить – как?
– Ну да.
Вадим задумался, посмотрел в сторону. Улыбка переместилась на правую сторону лица, придав ему черты другого человека.
– А ведь это и вправду история, – сказал он.
– Так расскажи.
– Но ведь через десять минут лекция?
– Вадик, не порть мне настроение.
Вадим засмеялся. Потом, улыбаясь, перевернул пустую рюмку вверх дном и посмотрел на Пашу:
– Тогда надо бы еще по пятьдесят.
– Ну конечно!
Вадим сделал шаг, но обернулся:
– Да… теперь ты уж, брат, извини – деньги у меня кончились.
– Ну конечно! – Паша вытащил бумажник и протянул Вадиму купюру.
Вадим вернулся, расставил коньяк, бутерброды.
– Теперь слушай… ты точно на пару решил не идти?
– Да точно, точно!
– А у меня и не спросил, ну, юморист! Ладно. Это было лет шесть назад, я как раз после армии разными способами деньги зарабатывал. Съездил в Германию, у бюргеров на ферме работал, приехал с кучей денег… ну, тогда казалось, что много. И решил летом поступить в Ленинградскую лесотехническую академию – я и сам не знаю, почему именно туда, кстати, я так и не поступил. В общем, приезжаю я летом в Питер во всей молодой красе – денег полно, одет с иголочки, всю ночь в вагоне-ресторане шампанское, болтовня… и – без вещей. Понимаешь, была у меня тогда такая лихая идея: выехать как-нибудь в путешествие без вещей, ну, то есть вообще без ничего – почему-то ненависть у меня была к сумкам, как посмотришь – люди едут вечно заваленные чемоданами, авоськами, рюкзаками… А тут берешь с собой в дорогу только бумажник, в пакете бритвенный прибор, и все. Рубашки, майки, носки, зонты и прочее просто покупается по дороге. Потом-то я понял, что без вещей даже миллионеры не путешествуют. Но тогда – поверь! Я просто летел по миру, мне казалось, что я всхожу на Джомолунгму во фраке и котелке.
Так вот. Выхожу я на Московском вокзале – лето, июнь, и холодина, слякоть, дождь. А у меня в голове хмель и так как-то легко и одновременно глубоко весело, знаешь, как бывает не после водки, а после шампанского. Иду и покупаю зонтик от дождя – просто так, на ходу.
Побродил по Невскому и часам к двум возвращаюсь на вокзал, чтобы билет на электричку купить – я хотел приятеля одного навестить и у него же остановиться. А в это время – обед, что ли? Перерыв был, и моя электричка только через два часа. А на улице – дождь. Купил билет и слоняюсь по вокзалу, ищу, где бы присесть. Вхожу в зал ожидания и… Знаешь, знакомо ли тебе такое чисто мужское чувство – даже если мужчина женат или нет, неважно, но заходя куда-нибудь, скажем в метро, всегда интуитивно ищешь место возле молодой девушки или напротив нее. Бывает? Ты с ней рядом садишься без всяких задних мыслей – просто рядом, и потом вообще про нее забываешь. Ну, окинешь ее взглядом пару раз – и все. Бывает?
Ты, конечно, догадываешься, к чему я? Я нашел такую девушку, она сидела одна, что-то читала, а возле неё – два свободных места. Я подхожу и сажусь рядом. Она была стройная, в длинном светлом платье, на полу возле ног – белая спортивная сумка, вот всё, что я увидел, больше не смотрел, а как только сел, сразу достал купленную газету и стал читать.
– Так значит, что она красивая ты сразу заметил?
– Да нет же. Говорю тебе, светлое пятно… даже лица не помню.
– Потом вспомнил, – Паша усмехнулся.
– Потом вот что было. Сидели мы так минут тридцать…
– Давай еще по пятьдесят? – вдруг сказал Паша.
– Ты, брат, прямо на глазах мужаешь! Давай, конечно. Паша вернулся с двумя полными рюмками.
– Сижу я, а напротив…
– Ага, – понимающе кивнул Паша.
– А напротив целое семейство заняло мест пять. Знаешь, такие семьи обычно в плацкартном вагоне ездят – куча детишек, и во главе толстая мама. Дети – лет по пять-шесть – всё время прыгают, дерутся, ползают по маме и по чемоданам, а вещей у них гора, я ещё подумал, как же они всё потащат? Дети бегают, а мамаша их успокаивает: то стукнет кого, то заорёт: «Пе-е-тя! Не трогай Машу!» Кстати, когда я пришёл, они ещё не так шумели, а то я бы точно нашёл себе другое место. Так что сижу и наблюдаю. Газету прочитал, про соседку забыл, что ещё делать? Да и в сон клонит. Я уже хотел было встать и пройтись по вокзалу, когда заметил, что за мною наблюдает один человек…
– Она, – быстро сказал Паша.
– Она сидела себе и читала, я же сказал. А на меня смотрел мужчина, он стоял через ряд, сразу за мамашей с детьми. Ну, думаю, сейчас подойдёт и поговорить захочет, знаешь, все эти вокзальные исповеди. Смотрю, а он уже идёт, обходит ряд – и к нам.
– К вам?
– Ну да. Мне сразу показалось, что смотрит он не только на меня, но и на неё, девушку слева. Он подошёл, улыбается, седой, высокий, и говорит так негромко, будто стихотворение для себя вспоминает: «Голубок и горлица никогда не ссорятся. Что она попросит, то он ей приносит».
– Что? – спросил Паша.
– Неважно… А потом он говорит…
– Он к кому, к ней, что ли, обращается?
– Да, к ней.
– И что же?
– Он сказал: «Глаза. Какие глаза!» И продолжает: «У вас прекрасные глаза, ребята. Я смотрю на вас издали, а кругом столько лиц, а вы одни влюблённые». Вы, говорит, если действительно любите друг друга, если это всерьёз, то никогда не расставайтесь. Надо, говорит, теперь всю жизнь быть вместе, если, конечно, у вас всё это по-настоящему.
– Ну, дед даёт, – сказал Паша. – А ты на неё-то хоть посмотрел?
– Нет, Паша. Хотя, конечно хотелось. Я только видел краем глаза её пальцы на подлокотнике сидения. Ну… платье ещё, ноги в босоножках.
– А она на тебя?
– Откуда я знаю. Наверное, тоже нет.
– А дед?
– Стоял и рассказывал нам о своей жизни, о том, что у него есть жена, с которой он живёт всю жизнь, и что кроме неё никого у него нет, что детей у них не было, что он бывший офицер, и поэтому ему всё время приходилось переезжать с места на место, в общем так… говорил.
– Вадик, а дальше?
Вадим морщась допил коньяк.
– Он говорил, мы слушали. А я… я всё посматривал на её пальцы. Знаешь, я вдруг почувствовал её всю…
– Ну а дед?
– Военный? Он в конце извинился, сказал: «Вы, ребята, не обижаетесь?» Тут я говорю: «Нет, что вы», – и она добавила: «Нет, конечно». Мы как-то одновременно это сказали. Он уже собрался уходить, а потом поворачивается и говорит: «И ещё, ребята. Обязательно надо детей. Нам с женой бог не дал. Обязательно надо». Попрощался и ушёл.
– Ну и…
– А мы продолжали сидеть. Мне, конечно, очень хотелось посмотреть на неё. Я даже думал: «Вот сейчас я это сделаю». И мне кажется, она хотела того же. А эти её пальцы… Ну ладно. Представь, сижу я так ещё минут двадцать и молча смотрю перед собой. И вижу мамашу и семейство. Вокруг вокзал, шум, гам, голос в динамике объявляет: «Прибыл поезд такой-то. Встречающих просим пройти туда-то». И она сидит, рука её на месте, не двигается. В общем, как будто ничего не было. И всё-таки меня одна мысль очень раздражала – а почему нельзя взглянуть на неё просто так, как на обычную незнакомую девчонку? Но я не мог посмотреть. Я мог разглядывать каких угодно девушек на вокзале, а на неё – нет, не мог. И представь, я вдруг почувствовал, что она встаёт! Встаёт, а я не оборачиваюсь, сижу как сидел. Она встала и… пошла.
– Ай! – вскрикнул Паша. – Что же, ушла?
– Надо выпить, Паша, – сказал Вадим.
– О-о… надо! – Паша быстро достал деньги и направился к стойке.
Вернувшись, он поставил рюмки на стол и спросил:
– А дальше?
Вадим понюхал коньяк, сморщился, отпил и сказал:
– Так… На чем я остановился? Ага, сумка!
– Какая сумка? Она же ушла!
– Да нет. Когда она ушла, я, честно говоря, хотел уже вскочить, да заметил, что вещи-то она оставила. Ту самую белую спортивную сумку, я её в самом начале приметил. Я думаю, чего же волноваться, сейчас она за сумкой вернётся, девушка вышла куда-то, ну мало ли, да и никакого поезда в это время не объявляли. В общем, я стал её ждать.
– Но…
– Вот именно. Я тоже спросил себя: «С какой стати она ушла и оставила свои вещи незнакомому мужчине?» Но, Паша, откровенно говоря, так я подумал уже потом, а тогда мне и в голову не могло прийти подобное, я забыл, что ли, что мы незнакомы. Да нет, я даже не думал об этом, я вёл себя так, как если бы за мной сейчас наблюдал тот военный. Я взял эту сумку, придвинул к себе и спокойно стал ждать…
– Что-то мне не нравится твоя история, – мрачно сказал Паша. – Конец у неё, по-моему, безобразный.
– Ты угадал, – сказал Вадим.
– Она не пришла за сумкой, ты потом дал объявление…
– Нет, не было у неё никакой сумки. Она была без вещей, как и я.
Вдруг Паша ударил себя двумя пальцами по лбу:
– Толстуха! Та, что с детьми!
– Правильно, – улыбка на лице Вадима застыла и слегка безобразила рот. – Когда объявили какой-то поезд, то мамаша стала спешно собирать чемоданы, хватать за руки детей, кричать им: «Быстро распределились, дружненько взялись, помогли маме!» Дети подхватили чемоданы, и всё семейство двинулось к выходу. Я от них отвернулся, как вдруг слышу крики: «Ай, ай!» Смотрю, а толстуха мчится на меня, хватает ту белую сумку и давай на себя тащить. Я сначала возмутился, но потом сразу догадался. И всё-таки спрашиваю: «А это что, ваша?» Толстуха глянула на меня – думаю, заорёт сейчас – и говорит: «Ну, знаете, молодой человек!» и как рванёт сумку к себе.
– А может и не её была сумка?
– Да ладно, ты не был там и не знаешь. А я сразу понял – девушка ушла, и не было у неё никакой сумки.
– Постой. Так что же – она ушла? – спросил Паша.
– Ушла.
– А ты что?
– Я сел на электричку и поехал к другу.
– И ты так её никогда и не видел?
– И я так её никогда и не видел.
Паше показалось, что Вадим его передразнивает. Он недоуменно взглянул на приятеля, увидел его кривую улыбку и почувствовал обиду.
Они помолчали.
– Ну, идём, – сказал Паша.
Они молча вышли. Вадим достал сигарету, закурил.
– Тебе куда? – спросил Паша.
– Мне – туда, – Вадим указал большим пальцем себе за плечо.
– Ну… давай.
Они пожали друг другу руки. Паша вдруг обернулся:
– Вадим!
– Что?
– Постой… А как же жена?
– Жена? – переспросил Вадим, безобразя улыбкой рот. – Жена у меня красавица.
ДВА ДНЯ ДО СМЕРТИ
Поезд прибыл в четыре утра, было ветрено и тепло, а рассвет еще только брезжил. Я пошел по Невскому, решил пройти его весь, шел и курил, отворачиваясь от ветра.
Миновав несколько каналов, я постоял на гнутом мостике, опираясь о парапет, бросил окурок в дрожащую воду, а потом вошел в открытое кафе. Там было еще сумрачно, душно, медленно вращался у потолка вентилятор, а бармен спал за стойкой лицом на раскрытой книге. Я сел в дальнем углу и сразу веки мои стали смыкаться. Чтобы не заснуть, я закурил, а потом смял сигарету и сплющил ее с неприятным скрипом в пепельнице. Подойдя к спящему, я тронул его за плечо, намереваясь спросить кофе. Бармен поднял голову и взглянул на меня широко открытыми глазами. На мятой влажной щеке этого человека я увидел слабые отпечатки букв книжного текста.
Некоторое время мы смотрели друг на друга. Он смотрел так, словно что-то читал во мне. Я же поневоле рассматривал отпечатавшийся на его щеке текст книги – но ни понимал ни слова.
Попросив меня обслужить, я вернулся за свой стол, достал письмо к Полине и стал его дописывать, вырвав для этого пятый листок из еженедельника. Я писал о том, что, кажется, придумал верное определение любви. «Любовь напоминает мне шагреневую кожу…»
Когда бармен принес кофе, я поднял голову и наши взгляды снова совпали. Он приподнял двумя пальцами чашку с кофе и вдруг уронил ее, опрокинув в блюдце. Несколько капель попали мне на брюки. Мне показалось, он сделал это нарочно. Помедлив, я громко спросил у бармена, что собственно во мне такого, а?
– Да у тебя такое лицо…
– Какое?
– Да такое, словно тебе, парень, жить осталось два дня, – он слегка выпятил губы и отвел взгляд. – Я сейчас принесу другую чашку.
Я выдохнул и понял, что медленно просыпаюсь.
Бармен стоял рядом и, насмешливо выпятив губы, смотрел на меня:
– Вот ваш кофе, – произнес он.
– Что вы сказали? – спросил я, выпрямляясь на стуле. Он облизал толстые губы и улыбнулся, качая головой:
– Я сказал – ваш кофе…
На улице было еще темно, а воздух серебрился. В выщерблинах асфальта сидели съежившиеся голуби и воробьи, женщина в куртке с капюшоном и в кроссовках медленно шла, толкая перед собой детскую коляску с поднятым верхом, рядом с ней семенила привязанная такса. Большой темно-синий «Линкольн» бесшумно прокатил мимо и завернул в арку подъезда. Мне хотелось найти зеркало или подходящую витрину, но потом я вспомнил о письме и зашел во двор, огороженный с четырех сторон желтыми домами с маленькими окнами наподобие бойниц. Здесь росли высокие деревья, я сел на скамейку под одним из них и стал дописывать письмо, забыв уже, где начало и где блуждает конец.
«Любовь сильно похожа на шагреневую кожу. Когда она съеживается, мы пугаемся, хотя на самом деле следовало бы радоваться. Когда кожа перестает съеживаться, мы сходим с ума от счастья – а ведь это говорит о том, что осуществленное уже нельзя осуществить».
Слева от меня, там, где была детская площадка, сидел на краю песочницы человек в грязном ватнике и вязаной шапочке. Воротник был наполовину оторван и свисал с его плеча будто офицерский погон. Человек курил, у его ног стояла недопитая бутылка вина. Я смотрел на него, думал о том, что же написать ей еще, а потом поднял голову. Ветка дерева висела прямо над головой, и было видно, как движется по листу прозрачная от утреннего света гусеница.
Мужчина, сидящий на краю песочницы, качнул головой и забубнил:
– И молодо-о-го, коного-о-на… несу-ут с разбитой го-ло-вой…
Взглянув на часы, я встал.
Я шел через дворы, скверы и детские площадки незнакомого мне города, а на одном из проспектов остановил такси и попросил отвезти меня к Финскому заливу. Водитель – седой человек со шрамом на затылке – спросил, первый ли я раз в Питере.
– Да нет… – сказал я, – раньше часто приезжал. Сейчас вот в гости на пару дней, а друзья еще спят.
Водитель кивнул и вдруг, заметив что-то слева, ткнул тонким указательным пальцем в окно:
– Эй, парень, вот здесь я родился, видишь?
– Где? Где?
– Сейчас развернусь…
Мы развернулись и медленно поехали мимо четырехэтажного дома.
– Этот дом, парень, так с войны и не тронули, – рассказывал водитель, – вот в этом самом подъезде, тогда блокада была, мать стала рожать, прямо на лестнице. Только из квартиры, парень, успела выбежать. В это время лейтенант один по лестнице поднимался. Видит, баба рожает, и принял роды. А потом он мне батей стал. Настоящий-то отец погиб, парень. Съездил в отпуск, мать мою оприходовал, и на обратном пути – под бомбежку. Вот как бывает, парень.
Он сбавил скорость и еще раз медленно объехал вокруг коричневого четырехэтажного дома.
– Вот какие дела бывают, парень, – говорил он, – вот… какие дела…
Мне показалось, ему не нравится, что я молчу.
– Ну а дальше? – спросил я.
– Что – дальше?
– Как дальше-то было?
– А… дальше… – я увидел в зеркале его маленькие сощуренные глаза. – Дальше жизнь была. Сын у меня на батю моего похож, на того, второго, который ненастоящий. Видишь, парень, чудеса какие бывают. Ты вот веришь в чудеса?
Я из вежливости кивнул.
– Ну, а сам как живешь, парень?
Я заставил себя улыбнуться.
– Да нормально.
– Жена есть?
– Нет.
– А невеста?
Я покачал головой.
Он внимательно посмотрел на меня, улыбнулся и подмигнул:
– Не переживай, парень, еще поживешь.
Когда мы приехали, я расплатился и пошел по мокрому песку и скользким камням к пристани, куда уже подходил, предупреждая гудками, пассажирский катер.
Одна из туч в небе стояла прямо надо мной и закрывала солнце. Я купил билет, поднялся по трапу и сел в кресло на левой стороне палубы. Пассажиров было не так много: пожилая женщина в дождевике с сумкой-тележкой, и компания молодых людей – трое парней и две девушки, они негромко смеялись и пили шампанское, передавая бутылку из рук в руки.
Катер отчалил и поплыл вдоль берега. На пристань, откуда мы только что отъехали, брызнули лучи солнца. Минут через пять солнечный свет догнал наш катер и один из лучей осветил кофейные пятна на моих брюках.
Было без десяти восемь.
Я расправил на коленях один из листков письма к Полине, начал его перечитывать, и не сразу понял, что читаю совсем не себя.
Это был невесть как попавший сюда кусочек письма младшего брата Полины, Сережи, который я случайно захватил, наверное, из ее квартиры, когда переночевал там в последний раз и перевернул вверх дном все ее бесчисленные шкафчики и шкатулки в поисках своих фотографий и писем.
«До подъема каких-то пара часов. Часы тянутся, словно тени на глубине. И темно. Сыро. Внутри, в теле, все дрожит, будто не выдерживает, рушится что-то там от слабости. И тогда я вижу, не разглядывая, свою душу – высушенный без оболочки коричневатый плод садового дерева, отнесенный вместе с легким семенем ветром за ограду. А в саду все по-прежнему: стоит беленький одноэтажный дом, сливы цветут, и нежится на солнце кто-то на раскладушке. А ведь это был когда-то я. Мальчишка, так надеявшийся на двадцать первый век. И везут за оградой – молча и незаметно – какого-то мужичка хоронить на телеге. Быстро везут, и торопливо идут вслед, еще не пьяные, пожилые, сухие и низкорослые женщины и старички. У одного в руке лопата. Прошли и невнятно поздоровались с моим отцом. Как теплые тени будущего Воскресения. И не верю-то я, а кладбище под боком. Заросло лопухами и даже подсолнухами. Внизу, если спуститься сквозь крапиву, коричневеет река. Всегда тихая, и противно опускать в эту воду ноги. Я сижу в позванивающей тишине на берегу, скользят по воде жуки, и мне ничего не хочется. Кроме одного только – забыть о тревоге, что начнется потом. Всегда, ежесекундно, тревожное состояние души. Понял наконец, что не обойтись только собою, а родные песчинки уже посеяны в общей пыли. Что взойдет? Если слабое – то простое и юродивое, а если сильное – то новое и насмешливое. И где же там буду я, что останется от меня? И похороны христианские, может, есть тоже собирание человека в одно место после его бессмысленных путешествий. Когда собирают его по частицам, вывозят из разных городов, из старых сердец и из комнаток и комнатушек, где раньше душу сводило от счастья, а утром вымытыми руками прикасался ты к каждой секунде дня. Победителей начинают судить, думаю я, начинают. И вот так все эти дни – первый, второй, третий – я живу рядом с жизнью как с нелюбимой женщиной, с которой зачем-то все сплю и сплю.
1 января 2000 года
Ничейный Серж»
Зажав все исписанные листы бумаги между коленями, я распечатал пачку сигарет, но закурить не удавалось – мешал ветер.
«Ничейный Серж» – так саркастично иногда говорил о себе младший брат Полины, протестуя против того, чтобы его в семье считали маленьким и называли «нашим Сержем».
Год в институте я преподавал младшему брату Полины римское право. Обычно Сережа не упускал случая воспользоваться нашим сомнительным родством, и бывало опаздывал на пару, или вообще просыпал на нее. Конечно, я закрывал на это глаза.
«1 января 2000 года».
В апреле девяносто девятого Сережа был все-таки отчислен из-за просроченной зимней сессии из института. А в мае его забрали служить в армию, в учебную часть под Москвой, в Чехов. Полина сильно жалела, что не успела съездить к брату на присягу. Через полгода, под Новый год, часть, где служил Сергей, перебросили в Чечню.
Я заметил, что катер догоняют чайки. Пять или шесть белых птиц быстро приблизились и застыли полукругом над палубой. Наверное, они ждали, что люди скоро начнут бросать им хлеб. Трое парней и две девушки, выкинув пустую бутылку в море, что-то негромко обсуждали; женщина в дождевике читала книгу.
На похоронах Сережи мать Полины рассказала, что ее сын попал в плен после боя днем 1 января 2000 года и прожил после этого еще два дня. И будто бы его убили потому, что Сережа не захотел отречься от своего Христа.
Но кто знает, что может или не может знать мать? И не сказка ли все это, вымысел? Ничейный Серж, я точно это помню, в одном из разговоров со мной с беззаботным смехом хвалился, что считает себя свободным от разных там церковных и семейных предрассудков, и никогда не будет носить ни креста, ни обручального кольца.
Но что могу знать или понимать я?
Я вновь посмотрел на чаек.
Одна из птиц летела в метре от моего плеча, и я видел, как подрагивают от встречного ветра кончики ее перьев. Смотрела она куда-то вперед, мимо. Мне казалось, что стоит протянуть к ней руку, и я дотронусь до ее крыла.
В ДОРОГЕ
Женщина, которую он думал что любит, осталась спать в номере брестской гостиницы «Беларусь».
– Любишь? – она вежливо исказила лицо. – А я не верю тебе. Почему ты раньше не говорил мне этих слов? Мы же вместе уже четвертый год.
– Не говорил, потому что…
– Что не любил?
– Нет… Просто рано было говорить.
– А сейчас поздно. Понимаешь?
– Ты…
– Что?
– Ты… Что, все зависело о того, скажу ли я эти слова? А ты сама любила, любишь меня?
– Люблю? – она весело зло рассмеялась. – Люблю ли я? Я – женщина, я – как дождь, сначала иду, а потом заканчиваюсь. Понимаешь? Сейчас я не иду, а вчера шла… надеялась. Я другая, и я бы умерла за тебя, если бы ты говорил мне эти слова.
– Даже если бы лгал?
– Мы дуры, и за вранье верны будем. Вот такие мы, понял?! Нас же просто, очень просто любить, только немного любить надо, чтобы дождик пошел, чтобы не душно было как сейчас.
Она резко зарыдала, как это в последнее время часто случалось с ней. И выбежала в ванную гостиничного номера.
Звезд становилось все больше. Они появлялись, словно кто-то вытирал с черного неба пыль. Сергею захотелось открыть рюкзак, достать плеер, чтобы послушать песню «Едущий в шторм». Но ему было приятно сидеть в автобусном сиденье вот так, не двигаясь, и он не стал шевелиться.
Когда он вошел вслед за ней, она не сидела как обычно в слезах на краю ванной и не смотрела в льющуюся из крана воду. Нет, она стояла перед зеркалом и смотрела на свое отражение так, словно увидела там что-то инопланетное.
– Как думаешь, – спросила она с пристальной полуулыбкой, – мой сын будет похож на меня?
Еще не понимая, что значит «будет», не сознавая, как больно толкнуло его это ее «мой сын», Сергей шагнул к ней и уже почти погрузил пальцы в ее длинные светлые волосы, чтобы взрыхлить их как всегда, когда он хотел ее успокоить. Но женщина резко взбросилась вверх, словно что-то взорвалось под ее ногами, схватила склянку с полки под зеркалом и швырнула в него:
– Сволочь! Гад! Ты убил нас обоих! Нет, трех! Трех убил! Меня, ребенка и нашу любовь! Я ненавижу тебя!
Баночка с кремом как пуля просвистела возле его виска и разбилась о дверь ванной.
Сергей вышел, не закрыв за собой дверь.
Ярость, перемежаемая волнами страха – такой он не видел ее никогда – бросали все в нем внутри, словно обломки разбитой лодки по штормовому океану.
Сергей опустил руку в рюкзак, нащупал плеер, вытащил его, воткнул наушники в уши, нажал «play»:
«Как собака без кости. Как актер без роли…»
Она вышла из ванной. Посмотрела на него, сутуло сидящего на кровати. Высокая, прямая, в длиной сорочке-мантии, закрывающей почти до пят ее длинные ноги.
– Ты – трус, – сказала она простым голосом, чуть помолчав. – Трусом ты был и тогда, когда разрешил мне аборт. И тогда, когда молчал о своей любви. Что? – она длинно и почти удивленно взглянула ему в глаза. – Да, я в самом деле верю, что ты любил меня когда-то. И я любила тебя, Сережа. Только мы не делали свою любовь, мы ее просто любили и боялись давать друг другу. Я боялась тебя, а ты боялся жизни. Но я не стесняюсь своего страха, он настоящий. А твой – бутафорский. Так вот. Теперь уже все. Я не хочу быть с тобой. Утром уеду. Хочешь, поехали вместе, хочешь, оставайся. Мне все равно. И еще. Не успокаивай меня, не гладь меня по волосам и не занимайся со мной любо… сексом когда я засну. Я хочу спать и больше ничего. Утро не мудренее вечера. Утром будет так же, как и сейчас. Пока.
Чуть виляя ягодицами и переставляя длинные ноги, она пошла в спальню, легла на кровать на свое место у окна, накрылась почти с головой и отвернулась.
«Не выключила свет», – подумал он.
Еще он подумал, что никогда уже не займется с этой женщиной сексом. Не войдет в нее сзади, когда она стоит на коленях, выгнувшись диким худым животным с вздернутым подбородком.
Странные мысли бывают у слабых мужчин, когда их бросают женщины. А может – и у всех мужчин в таких случаях.
«Как собака без кости. Как актер без роли. Убийца на дороге».
Горячий приступ ярости и стыда вдруг конвульсией пронзил его тело. Он представил, как бьет ее по лицу, как выступает на ее губах кровь. «Трус…» – вспомнил он.
Худшее, что женщина может сказать мужчине.
Выпил коктейль стыда с бешенством.
Худшее, что вообще может случиться с тобой.
Все нервные вспышки сегодняшних вечера и ночи, выпитые им полбутылки водки перед тем, как он собрал вещи и ушел из гостиницы, его бездумное брожение по ночному Бресту и посадка на случайный автобус – все это скопились в нем пустотой тяжестью и застыло сгустком высоко в груди, ближе к горлу.
«Убийца на дороге… Едущий в шторм… Едущий в шторм».
Где он, твой шторм?
Сергей вспомнил, что в юности, когда он любил читать Джека Лондона и Хемингуэя, он мечтал сесть в любой поезд или автобус, и уехать сам не зная куда.
Мечты сбывается в немечтательные времена.
Он смотрел сквозь оконное стекло на дорогу. Там была ночь, светлая от звезд и серебристых деревьев в свете автобусных фар. А его внутренняя темнота, стоявшая в горле и груди, сдвинулась, стала постепенно отставать от него, и выскочила где-то в районе ног. При этом он смутно понимал, что если остановится или сойдет, темнота его снова догонит.
Звезды смотрели на землю, люди взглядывали на них.
Дорога въехала в сон. И вот, уже с закрытыми глазами, он увидел выхватываемые из темноты светящиеся деревья.
И еще он видел медведя, идущего мимо с таким потерянным взглядом, будто внутри него был заключен несчастливый человек.
Хрустнула ветка, вспыхнул свет, Сергей открыл глаза.
– Предъявите паспорта… Таможня, граница. Одна, потом вторая.
– А здесь что?
– Ноутбук…
– Сколько стоит?
– Бесценный…
– Что?
– Не помню, покупал три года назад.
– Как надоели эти границы! – выдохнул кто-то слева. – Националисты, мать вашу…
Девочка лет пяти, сидящая через кресло впереди, смотрела на происходящее с таинственным и улыбчивым видом. Она еще не знала, что весь мир на свете, в том числе и ее собственный, состоит из границ.
В Ковель прибыли в пять с чем-то утра. Звезды в небе забились фонарным светом. Сергей купил билет на первый попавшийся поезд, в Симферополь, до которого было еще три часа.
– Как ждать? – озирался стоящий возле кассы поджарый лысый мужчина лет за сорок. – В Крым? – остановил он свой взгляд на Сергее.
– Нет. Раньше выхожу.
В дороге, когда знакомятся мужчины, обычно не принято врать. Никто особенно в душу не лезет, хочешь – молчи, хочешь – нет.
– Возьмем что-нибудь время убить?
– Давай.
– Антон, – протянул руку поджарый.
С Антоном и стариком – тем самым, кому в автобусе надоели границы и националисты – они прошли через вокзальную площадь к светящемуся в темноте зарешеченному окну магазина. Когда подходили, возле окошка близилась драка: двое махали руками против еще двоих и матерно что-то обсуждали. При виде их четверка умолкла, неохотно расступилась и молча наблюдала, как они покупали водку, сок и закуску.
– Я бы один сюда не пошел, – вздыхал на обратном пути старик. – Криминал один везде. Не то что при мне.
– При тебе это как, старик?
– Когда я был таким как вы, молодым.
– Ничего себе. Мне лично сорок шесть!
– И мне сорок, – сказал Сергей.
– А я в сорок втором родился. Пацаны.
Время убивали в углу вокзального зала ожидания, где людей еще не было. Закусывали яблоками и бутербродами. Антон оказался майором в отставке, дед – бывшим председателем колхоза.
– Вообще это здорово, что мы мужики, – мотал головой Иван Михайлович, – а то бабы одни кругом. Нам подружиться легче, чем женщинам.
– Точно, я женщин терпеть не могу, – кивал, жуя яблоко, Антон. – Люблю только мать, жену и сестру. Не как женщин, а как людей. Ну, еще на войне женщины – это женщины. А в мирняке нет.
– Ты воевал? – спросил Сергей.
– Приходилось.
– Где?
– Афган, в Африке.
– Сейчас войны не те, – перебил дед. – Вот я помню еще ту, настоящую, с врагами и с нашими. Мы воевали вместе, любой национальности вместе, с одним врагом.
– Да что ты помнишь, дед? Тебе сколько лет-то было? – ухмыльнулся Антон.
– Да помню я, помню! Немца помню, пленного. Я ему хлеб давал, он мне из дерева свисток вырезал. Еще помню, мы скелет убитого солдата, тоже немца, с автоматом в лесу нашли. Ох и страшно было автомат из его рук вынимать, но мы вытащили…
– Антон, как на войне со страхом? – спросил Сергей, когда они вышли вдвоем на перрон покурить. – Ну, если страшно, то что… Или не страшно?
– Страшно, конечно! Обделаться можно. Перед боем вообще лучше не есть. Не из-за того только, что если тебе в живот влепят. Чтобы кучу в штаны не навалять, вот для чего.


