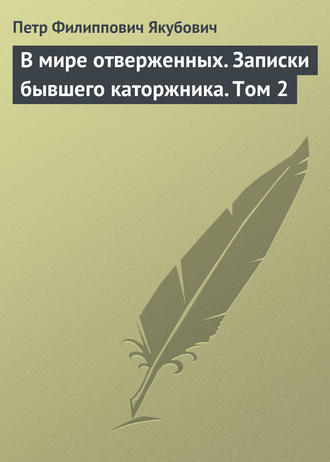
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
И Малайка удивил тюрьму. Раз, когда надзиратель отворил ворота, чтобы арестанты ввезли в них бочку с водой, он кинулся со всего разбега вон из тюрьмы, сбил с ног надзирателя – и не успел часовой опомниться и дать выстрел, как он уже скрылся в соседних кустах.
– Вот так молодчага, наш Малайка! – говорила изумленная и восхищенная шпанка, но самому молодчаге дорого досталось это молодечество. Когда месяц спустя он был наконец пойман, то следователь не мог уже отнестись к нему как к невинному младенцу; в глазах суда он тоже явился ловким и смелым до дерзости преступником. И вот не успел мой легкомысленный герой очнуться, как ни за что ни про что попал в Шелай. Теперь бедняга сделался, по-видимому, умнее и никакие подзуживанья кобылки уже не имели над ним власти.
– Нет, моя глупа была, – говорил он прямо, – вот и попала каторга… Четыре месяца высидки – айда домой. Нет, моя не хотела… Ну, так ступай каторга! Ну, как не глупа? Теперь Малайка умный, сидеть будет, строк ждать. Пришел строк – и начальник моя домой пущай!
– Дурачина ты, дурачина, – разочаровывали его арестанты, – да где твой дом-то? В Казанской губернии? Ну, а ты ведь после каторги поселен будешь в Забайкалье аль по Якутскому тракту. И понюхать тебе дома-то не дадут! На веки вечные простись теперь с своим домом!
Малайка слушал подобные речи хоть и с недоверием, но с затаенной тревогой.
– Дурак, все равно ведь с поселения-то бежать придется, так лучше же из тюрьмы, – со смехом продолжала подзуживать кобылка.
– Моя с населения айда домой! – радостно подхватывал Малайка и, лопоча что-то непонятное на своем языке, поспешно убегал прочь.
Татар, сартов, киргизов скопилось за последнее время в Шелайской тюрьме особенно много, но из всей этой массы наиболее выдавался как внешней, так и внутренней оригинальностью татарин Оренбургской губернии Ибрагим-Нуреддин-Сарафетдинов, прославившийся своими многочисленными побегами из-под стражи. Мудреное имя его с трудом выговаривали не только арестанты, но и надзиратели, и потому он всем известен был под коротким прозвищем Садыка. Высокого роста, превосходного сложения, с проницательными косыми глазами на красивом энергичном лице, Садык производил впечатление человека свирепого и в высшей степени отважного. Я никогда не видал его в спокойном состоянии – сидящим или лежащим на нарах; все в этом человеке жило, кипело и двигалось; сейчас он находился в одной камере, через минуту вы уже встречали его в противоположном углу тюрьмы на дворе. И всегда он был при этом одинок и угрюмо-молчалив. Странный характер носили также прогулки Садыка по двору: он не ходил тихим или быстрым шагом, как все прочие арестанты, а бегал дробной рысцой, низко наклонив вперед огромное тело и пугая встречных своими косыми огненными глазами, глядевшими неизвестно на кого и на что, и, подобно "доброму иноходцу", как выражалась кобылка, производил такой моцион иногда по целому часу.
Этого человека и казацкий конвой и тюремная администрация всегда держали на особой примете. В подозрении находились также Сокольцев, Чащин, Карасев все и другие, за кем числились в прошлом побеги. Однако лето, прошло благополучно, и начальство опять вздохнуло свободно: в конце августа, конечно, уж никто не вздумает бежать. К тому же завернули внезапно холода.
В одно из последних чисел августа, под вечер, я и Башуров совершенно неожиданно вызваны были в контору. Шестиглазый, увидав нас, просиял как солнце.
– Ну-с, позвольте вас поздравить, господа, – сказал он, торжественно поднимаясь с места, и это странное предисловие сдавило мне сердце не столько радостным, сколько болезненным предчувствием, – позвольте поздравить со свободой… Только что получилась почта с приказом. Вот читайте. К Валерьяну Башурову применен манифест, по которому он немедленно переводится в разряд ссыльнопоселенцев… Ну, а что касается вас, – обратился Лучезаров ко мне, улыбаясь, – то вы не могли, конечно, попасть сразу на поселение, но вы теперь же отправляетесь в вольную команду.
И Лучезаров торжествующим взором оглядывал меня, как бы стараясь прочесть на моем лице выражение радостного волнения. По-видимому, он немало удивлен был, услышав из моих уст один только холодный вопрос:
– Отправляюсь?.. Куда же это я отправляюсь?
– Да, я и забыл, то есть не успел сказать вам, – отвечал капитан, несколько нахмуриваясь, – признано неудобным оставить вас при этой же тюрьме в вольной команде… Были, знаете, разные соображения… Так что вы переводитесь в Кадаинский рудник.{41}
– Скоро ли мы будем отправлены? – полюбопытствовал Башуров.
– Это будет зависеть от того, когда придет сретенский конвой. Во всяком случае, с завтрашнего же дня вы освобождаетесь от каторжных работ.
Раскланявшись с бравым капитаном, мы отправились в тюрьму. Здесь с быстротой молнии разнеслось известие о нашем освобождении и арестанты с радостными улыбками то и дело подходили к нам с поздравлениями и добрыми пожеланиями.
В ожидании прихода сретенского конвоя нам пришлось, однако, прожить в Шелайской тюрьме еще целый месяц, и за этот последний месяц произошло столько важных событий, что в другое время их могло бы хватить на. целый год. Нельзя, впрочем, не принять здесь и того во внимание, что теперь мы с удвоенным любопытством приглядывались к своим сожителям, не без сожаления и грусти помышляя о том, что доживаем, в их обществе последние дни, и потому все, что происходило вокруг, врезывалось в память с удвоенной силой. В отношениях кобылки ко мне и к Башурову также чувствовалась какая-то небывалая мягкость, почти что любовность: на лицах самых суровых, самых неразговорчивых в прежнее время субъектов при встречах с нами неизменно появлялась теперь приветливая улыбка, шаги сами собой замедлялись, язык обнаруживал склонность к излияниям чувств… "Ученики" особенно искренно жалели о нашем отъезде, так как теперь в лице Штейнгарта на всю тюрьму оставался один только учитель; Луньков не уставал засыпать меня всевозможными вопросами, усиленно стремясь набраться за остающиеся дни всякой книжной премудрости.
В самом непродолжительном времени ожидалось между тем прибытие губернатора, и в тюрьме все опять волновалось, суетилось, скреблось, чистилось, приводилось в порядок. Был вечер последнего августовского дня. После проверки между Луньковым и Сохатым произошло обычное столкновение. Первый болтал без умолку, философствуя на ту тему, что будь он на воле грамотным, как теперь, ни за что бы не попал он в каторгу, "как иные прочие храпы и глоты". Сохатый ничего не говорил, он то и дело встречал насмешливым фырканьем хвастливые речи соперника. Это наконец раздражило Лунькова, и он обратился к Сохатому:
– Чего ты там фыркаешь, вечный ты тюремный житель?
– Кто? Это я-то вечный тюремный житель? – поднялся Сохатый с нар.
– Вестимо, ты! Ты об одном ведь и тужишь только, что двух аль трех жизней в тюрьме провести не можешь.
– Осел! Да я, может, захочу – завтра же с тюрьмой распрощаюсь!
– После дождичка в четверг, а завтра еще суббота только. Гремел ты когда-то Сохатым, а нынче гремишь, как у меня пустое брюхо гремит. Ну и выходит, что вечный ты тюремный житель!
– Повтори, трепач, что ты сказал!
– То и сказал – вечный тюремный житель, кухонный костогрыз!
Сохатый окинул Лунькова молчаливым, убийственно презрительным взглядом и вдруг повернулся ко мне:
– А вы, Иван Николаевич, такое же понятие обо мне держите, как и ваш любимый ученик?
Получив от меня обычно уклончивый в таких случаях ответ, он ядовито засмеялся и, замолчав, пошел спать в свой угол. Луньков долго еще с победоносным видом ораторствовал, но Сохатый не обращал уже на его слова никакого внимания. Остальные арестанты во время этого спора хранили безмолвный нейтралитет, и один только Годунов раза два хихикнул двусмысленно, очевидно сочувствуя Лунькову. Вскоре все полегли спать, заснул и я также.
Когда наутро, еще в совершенной темноте, надзиратель отворил камеры и выгнал арестантов в коридор на поверку, я, разоспавшись, поленился выйти вместе со всеми и, продолжая лежать с закрытыми глазами, слышал только сквозь сон оживленные восклицания кобылки, передававшей друг другу сенсационную новость: в ночь выпал глубокий снег… Никто не запомнил такого диковинного случая, чтоб снег выпадал на первое сентября, и все гадали о том, к добру это или к худу. Под этот говор я и заснул опять крепким сном.
Вдруг меня разбудил тревожный шум, крики… Кто-то коснулся меня, окликнул. Я поднял голову – было уже совсем светло – передо мной стояли Башуров и Штейнгарт.
– Слышали?
– Снег? Слышал…
– Какое снег! Выстрел, побег!
– Побег?
– На двор! Все на двор! – нечеловеческим голосом проревел кто-то, промчавшись по коридору. Кобылка давно уже была, очевидно, там, так как камеры оставались пусты. Одевшись второпях, пошел и я с товарищами.
– Кто бежал? – спрашивали мы встречавшихся по дороге взволнованных арестантов.
Но никто ничего не знал.
– Чащин бежал! – сказал кто-то, не совсем, впрочем, уверенно.
– Черти, дьяволы, да когда, каким путем?
– Ну, о пути-то ты его уже самого спроси. Жаль, с тобой не посоветовался!
– Надо думать, вовсе сею минуту бежал, потому во время поверки я его видел.
– Четверти часа не прошло, как выстрел слышали. Там, за больницей… Через ограду, надо быть, махнули!
– Вот так фунт!..
От яркого молочно-белого снега, устлавшего весь двор, лица арестантов казались необыкновенно бледными; но и внутренне, по-видимому, все страшно волновались; многие тряслись точно в лихорадке.
По рядам еще раз пронеслась фамилия Чащина.
– Ау! Тут я, чего вам занадобился Чащин, воронье вы безмозглое?
– Ах, шут его дери, да он здесь! Кто же набрякал, будто Чащин бежал?
– Может, и вовсе никто не бежал, а сами на себя петлю накидывают, – раздался чей-то скептический голос.
– Знамо, кобылка дурная…
Надзиратели между тем лезли вон из кожи, летая как угорелые по выстроенным шеренгам и лихорадочно пересчитывая арестантов. Но свести концы с концами им никак не удавалось: арестантов оказывалось, как это случалось, даже больше, чем нужно. Ворота поспешно распахнулись, и в них не вошел, а влетел красный как рак Лучезаров, впопыхах одевшийся в какую-то кургузую полинялую домашнюю куртку, которая лишала его обычной представительности и величия. Растерявшийся дежурный позабыл даже скомандовать: "Смирно!! Шапки долой!" – и кобылка стояла в шапках, смущенная, недоумевающая. Но бравому капитану было в эту минуту не до заботы о внешнем великолепии; не обратив никакого внимания на нарушение порядка, он быстрыми шагами кинулся к арестантскому строю.
– Ну что? – на бегу спросил он дежурного. – Кто? Каким образом?
– Ничего пока не известно, господин начальник, отрапортовал один из надзирателей, приложив к козырьку руку.
– Дурачье! – отрезал капитан и принялся сам пересчитывать шеренги.
– Двоих недостает, добавил он громогласно, бросив уничтожающий взгляд в сторону надзирателей, и вслед за тем гаркнул на арестантов:
– По камерам! Марш в одну минуту!
Все кинулись в беспорядке по своим номерам. Мне тотчас же бросилось в глаза отсутствие у нас Сохатого.
– А где же, господа, Петин?
– И в сам-деле, ребята, где же Сохатый? – переглянулись между собой арестанты. – Уж не он ли?..
– Ну да, ждите! – пренебрежительно возразил Луньков. – Я сейчас только видел его. Не таковский, не бежит!
– Где ты его видел? Когда?
– На поверке он рядом со мной стоял, да и сейчас, кажись…
– Ну разве что на поверке, а сейчас на дворе – это ты врешь, его не было, – в раздумье заметил Годунов.
– Не было?!
– Смирна!.
Дверь отомкнулась – и в камеру вошел раздраженный, как и прежде, Лучезаров с толпой бледных, смущенных надзирателей.
– Раз, два, три… Ну так и есть: здесь тоже одного недостает – значит, уж третьего! – почти взвизгнул он.
Надзиратели молчали, потрясенные, уничтоженные… – Кого у вас недостает, говорите? Староста, отвечай! У нас были и камерный и общетюремный староста, но и тот и другой мялись в нерешительности.
– Петина нет, господин начальник, – убитым голосом пролепетал наконец Проня.
– Петина? Гм! гм! Так и следовало, конечно, предполагать.
И Шестиглазый поспешил вон. Выходя последним из камеры, Проня хлопнул себя рукой по бедру и сказал довольно громко:
– Прямо сон наяву, да и только!..
– Кто бы мог, в сам-деле, подумать, ребята, на Сохатого, а? – заметил Чирок, когда мы снова очутились на замке.
– А ты как полагал об Сохатом? Его, брат, голыми руками тоже не щупай! – заговорил вдруг Годунов: и эти слова сразу дали тон общественному мнению. – Я сам не раз говорил, что у него дурная башка, – продолжал Годунов, обращаясь для чего-то в мою сторону и как бы в чем оправдываясь, – в глаза ему даже говаривал, потому что я люблю матку-правду резать. Я и теперь скажу то же самое: в некоторых смыслах у него, точно, дурная голова… Но кто из нас, однако, святой или кто умный? Про Сохатого же надо сказать, что он никому никогда вреда не причинял, а если кому вредил, так самому же себе. Ну, а что касательно отваги, арестантского, что называется, духу, ну так в этом Сохатый всегда может поддержать свою славу!
– Это чего и говорить, – согласился Чирок.
– Я всегда знал, – добавил Годунов, – что сидеть, как иные-прочие, в тюрьме он не станет! Ну, подождал, конечно, своей точки, но вот и дождался.
– Погодите еще с вашим Сохатым носиться, – попробовал охладить общее увлечение Луньков, – высоко залетел, да неизвестно, где сядет.
Но ему не дали и рта разинуть, вся камера, как один человек, встала на защиту Сохатого.
– Как же, однако, бежал он, братцы? И кто других двое? Ну и молодцы ж ребята! Как все шито-крыто сделали!
– Выстрел, вестимо, мимо был, коли такая тревога пошла. Настоящим манером бежали!
Но каким образом удалось беглецам перепрыгнуть через высокую каменную стену? На этот счет высказывались догадки, одна нелепее другой. Начальство между тем ушло из тюрьмы, а камер отворять и не думали.
– Да теперь и не отворят, напрасно ждете, – решил опытный в таких делах Годунов, – и на работу пускать не будут, покамест не кончатся поиски. Каждую сопку теперь, каждый кустик обыщут. Духам нашим задана Петиным хорошая задача: прежде чем раскусят, не один зуб сломают.
И Годунов оказался прав: целых четыре дня тюрьма провела под замком, из камер выпускали только старост да парашников, и то с величайшими предосторожностями. Это не помешало, впрочем, кобылке через несколько часов знать уже решительно все, что делалось вне тюрьмы. Тот же Годунов, выходивший в качестве общего старосты для получки провизии, принес нам следующие новости. С Сохатым бежали еще два человека; Садык и Малайка Кантауров.
– Да он с ума, что ли, спятил, Малайка-то? Ведь ему срок скоро кончался?
– Вот подите ж! Недаром говорили про Сохатого, что черт с младенцем связался: сумел, видно, окрутить!..
– Ну, а как бежали-то?
– Тут, я вам скажу, прямо чудеса в решете. Само начальство подставило нашим артистам лестницу.
– Что ты говоришь?!
– Верно говорю. Помните, братцы, будки-то солдатские?
– Ну?..
– Ну, так вот одну, что за больницей стояла, они подтащили к стене – да и марш. Часовой и стрелять даже по-настоящему не мог, потому что побежали они прямо на надзирательский дом. А за домом этим, сами знаете, тайга поблизу начинается… Казачишка растерялся и вначале кричал только: "Лови! Держи!" и лишь потом, как проснулся, дал выстрел на воздух. Ну, да уж поздно было… Теперь форменная облава по всей округе идет: крестьяне, говорят, из всех соседних деревень согнаны, из завода солдатская команда в поход отправлена… А Шестиглазый сидит и то и знай телеграммы отбивает…
Чирок беспокойно зачесал брюхо.
– А ведь нашим-то плохо, пожалуй, придется? Снег-то – главное дело, следы видны…
– Снег – это действительно не в их пользу… Ну, да кто же мог знать, что как раз в эту ночь его по колено навалит?
– Отложить было бы…
– Отложить! Это ты, брат, своими телячьими мозгами рассуждаешь – ну, а Садык разве такой человек? Или опять взять Сохатого? Ребята, можно сказать, духовые, огонь-ребята… Все к делу налажено – и вдруг бросать? Ты думаешь – это легко?
В желании, чтоб беглецы не были пойманы, арестанты сходились единодушно. Но вдруг все встревожены были странным открытием, что бродни Сохатого, Садыка и Малайки самым мирным образом покоились и их камерах под нарами. Кобылка пришла в недоумение: как же так? В чем же они побежали? Неужто босиком? По снегу-то?
– Для легкости, значит, – догадывались одни.
– Так-то оно так, – отвечали другие, – да только легкости этой не позавидуешь, брат… Сгоряча-то оно и ничего, пожалуй, покажется, ну, а через час другой – запляшешь трепака!
– Вздор, – говорили третьи, – у них, наверное, с кем-нибудь условие было, кто вольную одежду и обувь в тайгу им доставил.
– Ну, разве что так.
К вечеру получились утешительные вести: беглецы точно в воду канули. Что особенно приводило начальство в недоумение, так это полное отсутствие следов на свежевыпавшем снегу.
– Словно по воздуху полетели, мерзавцы! – говорили надзиратели.
Радостное чувство разлилось по сердцам арестантов; все свободно вздохнули, все горделиво приподняли головы.
– Знай, мол, наших! Вот тебе и Шелайская образцовая тюрьма! Вот тебе и Шестиглазый!
– Они об одном, братцы, позабыли, что у арестанта на плечах три головы и в кажной из них три думки сидят: воля вольная, тайга-матушка и Байкал-батюшка… Вот что!
И "они", то есть надзиратели, все духи, все начальство, в самом деле глядели в эти дни на арестантов с видом явного конфуза и посрамления.
Даже что-то вроде почтения к себе внушала теперь недавно еще забитая, презренная, а теперь все выше и выше "загибавшая нос" шпанка…
– Ни в жисть не поймают Сохатого! – говорили оптимисты. – Лиха беда в первый день от погони отбиться, вольную одежду раздобыть, а уж потом дорога скатертью вплоть до самого Верхнеудинска.
Пессимисты в эти дни молчали. Одна только новость, принесенная Годуновым, произвела не совсем приятное впечатление: в погоню за беглецами отправился, между прочим, казак Заусаев, на днях только поступивший в надзиратели и уже получивший от арестантов за свой мрачный и суровый вид прозвище Монаха. Он слыл замечательно искусным охотником, стрелял без промаха, имел зоркий глаз ястреба и нюх гончей собаки; он сам выпросился у Шестиглазого в командировку, и с револьвером за поясом, в сопровождении тех двух злополучных казаков, близ караульного поста которых совершен был побег и которые ждали себе дисциплинарного батальона, поехал по такому направлению, которое всеми другими ищейками оставлено было без внимания.
– Вот этот чертов Монах мне кажется страшнее всех шелайских казаков, вместе взятых! – заключил Годунов свое сообщение.
Наступил первый после побега вечер, и тюрьма легла наконец спать, утомленная треволнениями дня; и никто, решительно никто в ней не подозревал, что в эту минуту беглецы, собственно, еще начинали только свое опасное путешествие!
Дело происходило таким образом.
Взобравшись с помощью будки на тюремную ограду и спрыгнув с нее чуть не на голову стоявшему внизу часовому, они понеслись, как ветер, вперед, не задерживаемые ни кандалами, которые, разумеется, сброшены были еще в тюрьме, ни тяжелыми арестантскими броднями. Вместо последних у них надеты были на ноги высокие меховые чулки. Такие чулки были вообще в моде у шелайских каторжных; их шили наши портные из остатков казенных шуб, выдававшихся экономом в качестве починочного материала, и пускали в продажу по самой дешевой цене. Для побега эти чулки действительно казались замечательно подходящей обувью, но Сохатый с товарищами одно упустил из виду – их недостаточную прочность: не прошло и нескольких часов, как чулки разорвались по всем швам, так что по холодному снегу пришлось идти босиком…
Между надзирательским домом и начинавшейся за ним в некотором отдалении тайгой лежала небольшая котловина, покрытая редкими кустиками и глыбами камней. Когда-то на этом месте поднимался лесок, но в видах воспрепятствования побегам перед устройством Шелайского рудника кругом всей тюрьмы были вырублены деревья и оставлено пустое, хорошо доступное глазу пространство. На другом берегу этой котловины чернелась настоящая густая тайга, и она-то манила взоры наших беглецов, обещая им спасение. Но едва только достигли они дна лощины, как у Сохатого – оттого ли, как уверял он впоследствии, что зашибся, соскакивая с высокой стены, или же, что всего вероятнее, от сильного внутреннего волнения внезапно отнялись ноги: он вдруг почувствовал, что не может ступить ни одного шага больше… И он лег на землю. Бежавший рядом Садык остановился в испуге и знаками торопил товарища скорее встать и идти дальше; но Сохатый наотрез отказался идти вперед и предложил скрыться где-нибудь тут же, в кустах. Предложение это казалось прямо безумным, так как лощина была совершенно открытая, кустарник на ней мелкий и редкий, каменья также недостаточно велики, чтобы скрыть взрослого человека. Садык стоял в нерешительности; он почти ни слова не знал по-русски, и главный расчет его был на Сохатого, который, сам будучи "челдоном", знал Сибирь как свои пять пальцев и к тому же пользовался славой опытного бегуна. Но, помимо этих личных соображений, Садык отличался и рыцарственным характером: бросить товарища в беде ему казалось невозможным преступлением. И потому, обругав Сохатого еще раз собакой и всеми теми отборными словами, какие находились в его восточном лексиконе, он с фатализмом настоящего азиата покорился судьбе и, прекратив спор, пополз прятаться среди кустов и камней. За ним последовал и Малайка, которому, в сущности, безразличны были все способы бегства, так как он и затеял-то его больше из удальства и товарищества, чем из серьезного убеждения. Все трое приняли вид каменных изваяний и, решительно ничем не прикрытые, не защищенные, лежали таким образом "на виду у всего белого света", почти не веря сами в возможность спасения. Утренние сумерки между тем кончились, и совсем рассвело.
С бешеным визгом и гиканьем, с ружьями наперевес, вылетел весь караул из-за угла двухэтажного надзирательского дома и, брякнув ружьями, остановился как вкопанный на берегу лежавшей внизу котловины. Все в ней было пустынно; лишь там и сям лежали серые каменные глыбы, запорошенные наполовину снегом, да торчали между ними сухие кустики тульника и боярышника, а в отдалении чернела густая тайга… Сомнения не могло быть: арестанты уже успели до нее добежать и скрыться. Не раздумывая долго, казаки ринулись в погоню. Впоследствии Сохатый рассказывал, что они пролетели в каких-либо двадцати шагах от него, что он явственно слышал не только топот их ног, но и ускоренное дыхание (лежа ничком, уткнувшись лицом в снег, видеть их он, конечно, не мог) и уже считал себя погибшим. Но караул пробежал как сумасшедший мимо, потому что "дураку только" могло бы прийти в голову искать так близко и так просто… В течение целого дня, который беглецы провели в своем нелепом убежище, эта удивительная история повторилась не один раз: отряды освирепелых казаков один за другим пробегали в нескольких шагах от полузамерзших и застывших от страха арестантов – и не замечали их присутствия. Конечно, если бы факт этот не был вполне достоверным, не подлежащим ни малейшему сомнению фактом, то я сам назвал бы его плохо придуманной сказкой.
Вслед за дежурным конвоем в погоню ударились сначала вся казацкая сотня, а затем надзиратели и шелайские крестьяне. Сделано было предположение, что беглецы для отвода глаз изменили принятое первоначально направление; тщательно обыскивались поэтому все ближайшие окрестности, где только были лес и скалы; находились смельчаки, лазившие в самые опасные места старинных выработок, в давно заброшенные штольни и шахты – но нигде не отыскивалось решительно никаких следов побега.
Это последнее обстоятельство вначале сильно смущало преследователей: куда исчезли на свежевыпавшем снегу следы ног? Однако в начавшейся суматохе на снегу появились скоро по всем направлениям десятки и сотни всевозможных отпечатков ног, так что разобраться в них стало совсем нельзя. Шестиглазый рвал и метал в буквальном смысле слова; он кричал надзирателям, что "убьет их и отвечать не будет", рассылал в разные стороны вестовых с подробными приметами бежавших и кончил тем, что поссорился с есаулом из-за вопроса о том, кому из них принадлежали будки, стоявшие в тюрьме, и кто был обязан позаботиться об их уборке. Настроение бравого капитана было тем отвратительнее, что со дня на день ожидался приезд губернатора.
Так прошел в тщетных поисках день и наступила ночь, когда беглецы решились наконец покинуть свою засаду и потихоньку отправиться в путь-дорогу. Они легко могли бы, конечно, наткнуться на казацкие пикеты, все еще бродившие по шелайским окрестностям, но казаки сами позаботились о том, чтобы на них нельзя было наткнуться: они развели в разных местах костры и громко перекликались друг с другом. Утомленные, раздраженные неудачей, они продолжали поиски чисто формальным образом, уверенные, что беглецы находятся уже далеко. Последним ничего поэтому не стоило пробраться через караулы и уйти от них на вполне безопасное расстояние. Их мучило теперь одно только – начинавшийся голод и отсутствие обуви. Импровизированные меховые чулки быстро порвались о каменья и сучья, так что приходилось ступать по холодному снегу почти голыми, израненными в кровь ногами. Стуча зубами, арестанты бежали без оглядки вперед, торопясь дойти до какого-нибудь жилья. На рассвете они добрели наконец до какого-то зимовья: здесь в одинокой убогой юрте жил старый тунгус с женою. Хозяева еще мирно спали, когда незваные гости вломились к ним. Они провели здесь целый день, отогреваясь кирпичным чаем, занимаясь починкой обуви и с жадностью пожирая молочные продукты скудного тунгусского хозяйства. Поживиться одеждой, к сожалению, не пришлось, так как тунгус и сам ходил чуть не нагишом.
Снег между тем не думал стаивать, и зима, казалось, серьезно вступила в свои права. Стоял большой холод. Зарезав у хозяев их единственного ямана{42} и изжарив на дорогу (тунгусы не смели слова пикнуть и рады были тому, что их самих не изжарили и не съели), наши путешественники в сумерки отправились наконец дальше, пригрозив старикам, что в случае болтовни им плохо придется. Вторая ночь бегства прошла еще благополучнее, так как нигде не слышно уже было криков облавы, не видно было сторожевых огней. Погоня осталась, очевидно, далеко в стороне. Совсем уже рассветало, когда Садык вдруг остановился и удержал товарищей: он услыхал запах дыма… Все полегли моментально на брюхо и, как змеи, поползли сквозь кусты. Скоро причина переполоха объяснилась: на опушке леса, возле самой дороги, у костра сидело, варя в котелке чай, трое крестьян, и подле двоих из них лежали ружья; однако по всему было видно, что это не облавщики, а простые охотники. Один был тщедушный на вид старик, все время немилосердно кашлявший и ворчавший на товарищей за неудачную охоту; второй – широкоплечий мужчина с рыжей бородой и добродушными серыми глазами. Он то и дело улыбался себе в бороду и говорил: "Ну ладно, ладно, чего тут… Чего здря ворчать!" Третий из охотников был мальчик лет пятнадцати. У всех троих на плечах висела ветхая рваная одежонка; но зато внимание наших путников всецело приковали к себе ноги охотников, обутые в прекрасные теплые ичиги. Беглецы начали шепотом совещаться (причем Малайка являлся, как всегда, толмачом-посредником между Сохатым и Садыком). Садык предлагал средство простое, но верное: броситься неожиданно на сидевших крестьян, обезоружить их и перебить… Но Сохатый отверг этот план, как чересчур рискованный, и предложил свой: выскочив тоже внезапно из засады и похватав лежавшие возле охотников ружья, порешить с ними миром. Так и было сделано. Застигнутые врасплох, охотники отнеслись к своей беда довольно благодушно и даже пригласили наших беглецов принять участие в чаепитии. Последние от чая не отказались, и тогда начались разговоры; Сохатый не запирался, что он с товарищами бежал, он прибавил только, что бежал из вольной команды.
– Ну, коли из вольной команды, так плевое дело! – сказал рыжебородый и потрепал Садыка по плечу.
– А славные, я погляжу, на вас куртки, – прибавил старик, ощупывая рукой бушлат Сохатого.
– Давай меняться, – с живостью подхватил Петин, – нам к тому же и не с руки эта одежа… Да, кстати, вот и ичигами поменяемся!
– Чудные, брат, у тебя ичиги, я в жисть таких не видывал, – подивился старик, разглядывая чулки Сохатого.
– То-то что не видывал! Да что вы тут и видите в своей Тратотонии? Эти ичиги, брат, московского изделия, смотри, какой тонкий, нежный товар… Ну, а теплота, я тебе скажу, – страсть!
Старик покачал не совсем доверчиво головой, однако от мены не отказался, быть может не без основания полагая, что добровольность этой менки вещь совершенно фиктивная и что арестанты в случае отказа прибегнут к насилию. То же самое думали, по-видимому, и его товарищи. Поэтому, нимало не медля, приступили к переодеванию. Сохатый был в полном восторге и, чтоб выразить свои чувства, пустился даже приплясывать вокруг костра; Садык и Малайка тоже оживленно и радостно лопотали что-то по-татарски. В пылу ликования захваченные ружья опять побросаны были на землю… Никто из беглецов и не заметил, как в выражении лиц охотников произошла внезапно странная перемена: все трое вдруг насторожились и, как-то неестественно и напряженно продолжая улыбаться, словно готовились ринуться на своих новых приятелей.
– Ни с места, коли жить охота! Арестую! – раздался вдруг громовой голос…
В трех шагах от костра, верхом на лошади, точно из-под земли вырос мрачный Монах и целился в Садыка. из револьвера, а за его спиной, тоже верхами, высились две дюжие фигуры казаков, вооруженных берданками… В то же мгновение охотники похватали свои ружья и нацелились в беглецов с другой стороны. Все это произошло до того неожиданно и скоро, что о каком-либо сопротивлении или бегстве не могло быть и речи. Даже отчаянный Садык не подумал бежать и стоял на месте, словно оглушенный ударом грома с ясного неба. Всем троим молодцам живой рукой скрутили руки – веревки оказались наготове. При этом "казачишки" с большим, конечно, удовольствием отвели бы над пойманными душу, намяв им хорошенько бока, но с Заусаевым шутки были плохие: он не дал "пальцем тронуть" беглецов, заявив, что "было бы раньше зорче караулить, теперь же он их поймал, и он над ними хозяин"…
– Ну, однако, в дорогу, ребята, мешкать нечего! – скомандовал надзиратель и даже не позволил охотникам вновь разменяться с арестантами одеждой. Оригинальное шествие тронулось. Впереди всех плелись, понурив головы, со скрученными назади руками, одетые в "вольные" лохмотья Сохатый, Садык и Малайка Кантауров, а сзади – шестеро конвойных, из которых трое были в клейменых каторжных куртках.







