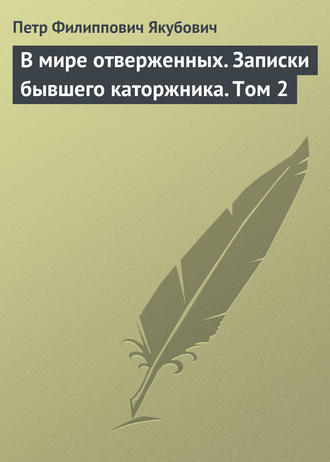
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Была суббота, холодный, ненастный день того же марта месяца. Пронизывающий ветер дул во все щели нашей убогой кузницы, бросая в лицо снежную пыль, а над порогом наметая целые сугробы снега. Мех гудел с каким-то особенно злобным шумом, изрыгая из пылающего торна столбы бешено пляшущих искр; не хуже его изрыгал Пальчиков потоки своих обычных проклятий, а я, съежившись под холодной арестантской шубой, молчаливый и ко всему на свете безучастный, не уставал кланяться и дуть мехом. Ноги нестерпимо зябли, и мне казалось в такие часы, что начинает застывать и самый мозг, что я превращаюсь постепенно в глыбу бездушного камня, веками лежащего на одном месте без цели, без дум и желаний… В этот день я был почему-то особенно мрачно настроен и не обращал ни малейшего внимания на то, что Петушков уже несколько раз подозрительно вертелся возле меня, точно желая сообщить что-то и в то же время колеблясь. Наконец, когда Пальчиков, взяв корзину, вышел за дверь кузницы, чтобы принести новый запас углей, он быстро нагнулся ко мне и прошептал:
– Сегодня!
Я равнодушно посмотрел на него.
– Говорю, сегодня…
– Что такое?
– Прибудут.
– Кто прибудет?
– Да будто не знаешь?.. Двое… товарищев тебе. Один, сказывают, дохтур, такой, мол, дохтур, что у нас в Сибири и не видали таких. А сам вовсе еще молодой. Вот не могу только припомнить, чьих он, халудора его возьми… Фамилия-то трудная, не руськая… Ну, вспомнил, вспомнил: Штенгор! А другой – Башуров. Не знаю, кем этот был, а только, надо быть, тоже из больших дворян, в ниверситете служил. Ну да, словом сказать, не нашей кобылке чета, а прямо говорю – товарищи тебе. И как только, скажи ты мне пожалуйста, этакий народ в каторгу попадает? Ах, чтоб вас язвило!
– Да вы правду говорите, Ильич?
– Ну вот еще врать стану!
У меня перехватило дыхание и потемнело в глазах… Я опустился поспешно на скамейку. Пальчиков вернулся с полной корзиной углей. Петушков беспокойно метался по кузнице, видя, какое сильное впечатление произвел на меня своим сообщением. Из-за спины кузнеца он пристально глядел на меня и делал умоляющие жесты. Я понял, что он просит держать новость в строгом секрете, и кивнул головой в знак согласия.
– Ах, халудора!.. – излил он свои чувства в любимом словечке и торопливо удалился в светличку.
Неописуемое волнение между тем овладело мною. Я считал часы, минуты, когда должны были окончиться горные работы, и то и дело забегал в светличку посмотреть, не вернулись ли рабочие из шахт; Петушков старался при этом не глядеть на меня – и вел о чем-то оживленную беседу с казаками. Очевидно, он трусил и порядком раскаивался в том, что сболтнул мне великую тюремную тайну… Я чувствовал, как у меня дрожали колени и приятный озноб пробегал по всему телу, когда арестанты наконец выстроились и, по обыкновению, очертя голову понеслись по направлению к тюрьме. Я всегда внутренне сердился на эту торопливость, но сегодня мне казалось, напротив, что мы бежим все еще недостаточно быстро. Скоро мне стало жарко, так что я расстегнул шубу. И застывший мозг начал оттаивать – светлые, бодрые мысли наполнили его, точно горячие лучи вышедшего из ночного тумана солнца… Недавно еще чувствовал я себя почти стариком, бессильным и жалким калекой, а теперь был опять молод и силен, опять хотел жить, надеяться, верить!
И снова горячо любил мир, где всего несколько часов назад видел одну лишь бесцельную и бессмысленную сутолоку явлений, – любил жизнь и людей, которых недавно еще презирал, как жалких, цепляющихся за свое жалкое существование, смешных марионеток!
– Еще поживем, еще поборемся… – шептал я про себя, все ускоряя шаги и почти наступая на ноги шедших впереди конвойных. – Теперь-то легче будет жить… с товарищами!..
II. Желанные гости
Когда горная партия подошла к тюрьме, от внимания ее не ускользнуло, что среди стоящих у ворот казаков есть два-три новых, "нездешних" лица и что в караульном доме также происходит какое-то движение.
– Братцы, а ведь партия, надо быть, пришла?
– Да вон, смотрите, и подвода стоит! Ну, стало же, и партия – полтора человека с ребром… Обыскивают.
Самые зоркие, умевшие не только через окно, а даже, как говорила кобылка, сквозь штык видеть, узнали тотчас же и все подробности обыска.
– Двое!.. Молодой и старый… Молодой – белый, старый – чернявый… Ну и вещей же, вещей, братцы мои, разбирают – разобрать не могут. Надо думать, не из простых, потому и одежа господская. Смотрите-ка, смотрите, часы золотые с одного сымают… Они думали, молодчики, что, как в другой тюрьме, всё в камеру пропустят, в вольной одеже ходить дозволят… Нет, шалишь! Шестиглазый всех уравняет! Поживите-ка на шелайской баланде, а вещи – в чихаус пожалуйте!
– Ребята, да у них книги! Это уж не Миколаичу ль товарищи будут? Вот славно-то. Может, опять Чичикова привезли?
Такими замечаниями перебрасывались между собой вслух арестанты, пока надзиратель обыскивал нас, как всегда, подле окна караульного помещения, где происходила приемка новичков. Но любопытство шпанки не было слишком напряжено, и, как только ворота растворились, она, что дождь, рассыпалась по камерам, торопясь обедать.
Я остался один у ворот. Затворявший их надзиратель осклабился.
– Чего ждете?
– Кто принимает новичков?
– Каких новичков?
– Ну, чего же хитрить? Все равно сейчас узнаю. Начальника нет?
– Нет, только старший один. Сию минуту выйдут.
И точно, несколько минут спустя из караульного дома вышла целая толпа людей, и в воротах тюрьмы появились две фигуры новичков-арестантов. Я бросился к ним со словами привета… Но, к моему удивлению, старший надзиратель, он же и эконом – красный как кирпич, смешно шепелявивший толстяк – тотчас встал между нами и. громко запротестовал:
– Нельзя, естё нельзя! Начальник сетяс плидет, нам наголит!
Его поддержали другие надзиратели, тоже поднявшие крик. Я поневоле ретировался. Новички осматривались вокруг с растерянностью и недоумением. Грубая форма обыска, очевидно, уже произвела на них свое действие, и оба глядели затравленными волками; жалкий, комичный вид придавала им и только что надетая, мешковато сидевшая арестантская одежда. Я с жадностью вглядывался в лица, отыскивая в них интеллигентные, симпатичные черты… Кобылка не ошиблась: один, совсем еще юноша, был блондин, другой, значительно старше, брюнет. Блондин показался мне коренастым и широкоплечим; у него было безусое, моложаво розовое лицо с большими, полными доброты глазами; он был взволнован и явно смущен первыми шелайскими впечатлениями… Его товарищ, высокий худощавый мужчина с шелковистой черной бородою, напротив, скорее – раздражен; темные глаза его сердито глядели из-под густых, почти сросшихся у переносья бровей; он и на меня тоже смотрел с недоверием и ни разу не улыбнулся… "Ну, этот со мной не сойдется, пожалуй, – невольно подумал я с грустью, – он-то, должно быть, и есть доктор".
Когда надзиратели взошли с арестантами на крыльцо тюрьмы перед главным коридором, молодой человек обернулся в мою сторону (я шел сзади, в некотором отдалении) и, улыбнувшись, послал мне воздушный поцелуй; но товарищ его даже не оглянулся, весь погруженный в свои мысли. Затем оба скрылись в дежурной комнате, где их заперли в ожидании прихода Лучезарова. Когда надзиратели после этого удалились, я подбежал к замкнутой двери, и тут между мной и заключенными произошел первый торопливый, отрывочный, но оживленный обмен вопросов.
– Как ваша фамилия? – послышался суровый голос, очевидно, старшего из новичков.
Я назвал себя.
– Как! Вы-то и есть Иван Николаевич? Это правда? – Почему вы так удивляетесь? Представляли меня иным?
– Нет, я сейчас же догадался, что это, должно быть, вы, – отвечал молодой голос.
– А я почему-то думал, – сказал первый, – что вас здесь нет и мы будем совершенно одни с арестантами.
– Ах, вот почему вы показались мне таким страшным и неприветливым!
– Ваша тюрьма нагоняет ужас!
– Погодите, это еще начало только…
– Лучезаров, говорят, зверюга?
– Господа, а ведь я-то ваших фамилий еще не знаю.
– Да, да, конечно; я – Штейнгарт, Дмитрий Петрович Штейнгарт, студент-медик четвертого курса.
– А я – Валерьян Башуров, юрист-первокурсник.{4}
– Вы, значит, очень еще молоды?
– Да, конечно… Двадцать два года…
– Да и вас, Дмитрий Петрович, кобылка напрасно, кажется, стариком окрестила?
– Разве уже окрестила? Впрочем, что же, мне двадцать восемь лет, и кое-где есть уже седые волосы…
Мы перебросились затем несколькими фразами о делах, за которые очутились в Шелае, и опять перескочили к данному положению вещей. Лихорадочно быстрые вопросы так и перебивали один другой.
– Что здесь всего неприятнее? Шапочный вопрос?
– Ага, вы уж слыхали!
– Какие у вас отношения с арестантами?
– И с начальством?
– Постойте, господа, на столько вопросов сразу невозможно ответить.
– Вы не ответили: точно ли такая зверюга Лучезаров, как про него говорят? Как вы посоветуете нам держаться с ним?
– Можно ли тут вообще жить?
– Как видите, я жил… А теперь, с вашим прибытием, и подавно стану жить!
– А нельзя ли с вами в одну камеру попасть?
– Если Лучезаров будет с вами любезен – попросите его об этом.
– Будет ли он с нами на ты? Мы хотим в таком случае отвечать ему молчанием. Вы как думаете?
Но, прежде чем я успел сообщить свои мысли об этом предмете, на дворе раздался пронзительный, тревожный свисток, возвещавший о вступлении в тюрьму начальника, и я поспешил удалиться в свою камеру. Однако волнение мое было так сильно, что к обеду я не притронулся. Прием кончился скорее, чем я ожидал, и новый свист возвестил об удалении Шестиглазого. Тогда я бросился опять в коридор и увидал уже идущими мне навстречу Штейнгарта и Башурова, с мешками казенных вещей в руках. Здесь мы впервые обнялись и расцеловались… Высыпавшая из камер шпанка с любопытством и сочувствием наблюдала эту сцену.
– Ну, как и что? В какие камеры назначены?
– Представьте, Лучезаров был необыкновенно любезен, джентльмен да и только! Произнес маленькую речь в похвалу своей гуманности и тюремной опытности и советовал нам одно: терпеть, терпеть и терпеть! Кроме того, выразил большую радость по поводу того, что я медик и могу быть полезен в тюрьме.
– Да, ваша слава как замечательного доктора заранее здесь гремела.
– Я получил этот титул уже в Сибири, во время этапного путешествия, от благодарных пациентов. На самом деле, я уже говорил вам, я всего лишь студент четвертого курса…
– Говорили вы с Лучезаровым о камере?
– Как, же. С большим удовольствием согласился, чтоб я поселился вместе с вами, Валерьяну же назначил другой номер. "У меня, говорит, общее правило: по возможности дробить на мелкие части все группы, какие только могут замечаться среди арестантов, – татар, скопцов, раскольников…" – "Позвольте, – спрашиваем мы, – да ведь мы не татары и не скопцы?" – "Вас, – отвечает, – я назову группой образованных людей".
Я ввел новых своих товарищей в мою камеру, и арестанты тотчас же, не дожидаясь просьбы, похватали у. них из рук мешки и кинулись очищать на нарах место рядом с моей постелью, а когда узнали, что один только Штейнгарт будет жить здесь, стали выражать сильное огорчение.
– И чего им помешало, варварам, всех троих вместе поселить! Нар, что ль, не хватило? – возмущался приятель мой Чирок. – То-ись во всем вреду одну видят, утеснить везде норовят!
Я порекомендовал Чирка вниманию новичков, как старинного своего сожителя, с которым очень дружен.
– Должно быть, он без вины попал сюда? – спросил Валерьян Башуров. – И по лицу видно сейчас, что честный человек!
– Ну, как вам сказать, – засмеялся я, – арестанты почему-то говорят про его честность: черт его чесал, да и чесалку сломал.
– Вишь ведь какой вредный человек этот Миколаич! – обеими руками заскреб свою голову Чирок. – Как меня перед товарищами своими ремизит! Не верьте ему, не верьте – первый во всей тюрьме волынщик!
– Вы тоже учить нас будете, как Иван Николаевич, – подошел к новичкам, заискивающе улыбаясь, Луньков. – Вы не знаете, у нас тут ведь целое училище основано, господа, и я в нем первый ученик.
Сохатый презрительно фыркнул в своем углу, но промолчал.
– Одна беда, – продолжал Луньков, – Иван Николаевич прилениваться что-то зачали, не кажный вечер нас обучают.
Я рассказал Штейнгарту и Башурову о своей школе; она их живо заинтересовала. А когда я заговорил и о бывших одно время в тюрьме чтениях вслух, арестанты поддерживали меня громким сочувственным ропотом, стали ворчать и ругать Шестиглазого даже те, кто очень мало интересовался, бывало, книжками.
Между тем Чирок вызвался сбегать в кухню заварить для нас чаю. Я дал ему свой котелок, в который засыпал чай, а сам повел товарищей в камеру, назначенную местожительством Башурова. Жившие там арестанты встретили нас с тем же гостеприимством, причем произошел приблизительно такой же обмен мыслей, как и в моей камере. Здесь жил, между прочим, и общий староста Юхорев.{5} Он тотчас же появился возле нас и, развязно и дружественно поздоровавшись за руки с новичками, уселся рядом и вступил в разговор. Представительная наружность Юхорева, открытый, умный вид и гигантский рост произвели, видимо, на них внушительное впечатление, и они долгое время Недоумевали, с кем имеют дело. Человек этот действительно мог производить такое впечатление. Он весь, казалось, состоял из одних мускулов, могучих и крепких, как сталь; большие серые глаза глядели отважно и решительно, и трудно было, вынести их прямой пронзительный взгляд; длинные усы окаймляли энергично очерченные губы. Зато подбородок, круглый и несколько выдающийся, а также и щеки всегда тщательно выбривались с помощью стекла или тайных арестантских бритв. Лоб был замечательно низкий, и в середину его правильным треугольником вдавались жесткие черные волосы. Это придавало смуглому длинному лицу суровый, почти свирепый вид, хотя нимало не уменьшало впечатления большого, неоспоримого ума, видневшегося в каждой черте и в каждом жесте этого сильного человека. Будучи совершенно неграмотным, Юхорев говорил так умно, плавно и даже красиво, пересыпая свою речь массой оригинальных эпитетов и поговорок, что если последние не были чересчур откровенны, то вы могли беседовать с ним битый час и даже не догадаться, что имеете дело с простым, необразованным мужиком, а не с каким-нибудь барином средней руки, земцем, помещиком. Непреклонная воля чуялась во всей этой железной, богатырски скроенной фигуре, в ее порывистых и вместе сдержанных движениях, в быстрой, всегда торопливой, легкой походке. Дорисовывая внешнюю физиономию Юхорева, скажу еще, что я был однажды немало удивлен, увидав в бане его голую спину, покрытую густыми, мохнатыми волосами… "Вот богатая пища для ломброзоических выводов!"{6} – невольно подумал я.
Арестанты поголовно уважали и боялись Юхорева, но отнюдь не потому только, что он был старостой, и я не видал случая, чтобы кто-нибудь серьезно сцепился с ним, вступил по какому-либо поводу в грубую перебранку.
Впрочем, Юхорев и не терпел противоречий. С мелкой шпаной, которой случалось чем-нибудь прогневить его, он расправлялся по-своему: быстро вскакивал с нар и своими жилистыми руками гиганта начинал, не говоря худого слова, мять и тузить (сопротивление было, конечно, немыслимо), так что жертве оставалось одно – обратить ссору в шутку или молить пощады. С "серьезными" арестантами Юхорев держался зато в высшей степени политично и осторожно.
– Ваши вещи, господа, – обратился он к моим товарищам, – отнесены в чихаус. Я сам и положил. Если что нужно достать, мне только шепните. Я ведь часто хожу туда с косноязычным чертом и что угодно сумею взять – не заметит. "Ты сьмотли у меня, Юхолев, не стяни цего". А я, покамест он в одно место глаза таращит, рыжий пентюх, я уж в двадцать сторон успел повернуться. Раз! Раз! – и готово, взял, что мне нужно. В одном из ящичков лежат там у вас, я видел, чернила, перья, почтовая бумага… Только глазом моргните мне!
Мы поблагодарили Юхорева за любезное предложение, но отклонили его.
– С Лучезаровым у меня тоже дружба… Я ведь каждый день ношу ему в контору пробный обед – ну и тут разговоры у нас всякого рода происходят. Наливаю ему, само собой, так, чтобы жиру плавало больше сверху… Вот Иван Николаевич по этому случаю претензию мне раз высказывали: зачем я так делаю? Надо, мол, напротив, самый худший сорт пищи начальству показывать… Но это потому только, господа, что Иван Николаевич – не в обиду ему будь сказано – десять лет проживет в тюрьме и все-таки ничего не поймет в нашей сволочной жизни! Ум их не тем вовсе занят, вот они и думают, что правдой можно всего добиться. А я по опыту знаю, что все заботы начальства о нашем брате – одно только показание вида. Как мы есть для него каторжные, варнаки, так и. будем ими до скончания века! Ведь что ж, пробовал я показывать и настоящую баланду. Затопает ногами, зарычит: "А! ты, значит, вор!" Скажите на милость – вор. Да чтоб ему самому и на том и на этом свете так наживаться от воровства, как я здесь наживаюсь! Небось без штанов ходить будет. Я не спорю – я ворую, но только не у своего брата; довольно с меня и того, что эконом прозевывает, когда к весам с ним хожу. Вот, господа, после такой ерунды я и решил носить Шестиглазому на пробу один только верхний навар. И теперь мы живем друзьями. Жалко, что баня у нас сегодня не топлена, печку поправляют. Ну уж зато в следующую субботу я самолично вас, господа, выпарю, так выпарю, как, пожалуй, сам губернатор не парится… Ха-ха! Баня – это моя, можно сказать, специальность.
– Однако Чирок уж, пожалуй, заварил нам чай, – поднялся я с места, – пойдемте, господа!
Юхорев тоже вежливо встал.
– Значит, мы будем с вами на одних нарах лежать, в товарищах жить, – обратился он к Башурову. – Вот и отлично. Об чае никогда не будете заботиться: у меня тут сто дьяволов найдется к услугам в кухню сбегать. Эй ты, чувырло чухонское! – крикнул он вдруг на арестанта, лежавшего рядом с постелью Валерьяна. – Убирайся-ка отсюда подобру-поздорову, я тут лягу!
– А мне тут разве худо? – пробормотал чувырло. Но Юхорев, как кошка, прыгнул на нары, и не успел арестант опомниться, как уже перелетел вместе со своей подстилкой на другое место, а подстилка Юхорева очутилась рядом с башуровской. Кобылка одобрительно загрохотала; подумав немного, рассмеялся и потерпевший, решив, что благоразумнее всего отнестись шутливо к своему невольному salto mortale…[1]
Рассмеялись и мы, выходя вон из камеры.
– Что это за личность? – спросил меня Штейнгарт.
– Общетюремный староста, второй здесь царек после Лучезарова.
– Оно и видно. Но разве староста пользуется такой властью?
– Не всякий, конечно, но этот, как сами видите, не из дюжины.
– Он кажется мне очень симпатичным. А вам? – спросил Башуров.
– Ничего себе… Впрочем, я очень мало его знаю, не приходилось жить в одной камере.
Чирок уже оборудовал свое дело, и котелок о чаем, приправленным, как оказалось, невесть откуда взявшимся молоком, стоял на нарах, укутанный со всех сторон халатом.
– Чтоб не стыл, – сказал Кузьма, осклабясь и услужливо раскутывая чай.
– Ну, значит, пируем, господа! – пригласил я гостей. Но только что началось пиршество, как дверь шумно растворилась, и в камеру вошел, в шапке набекрень и в франтовато накинутом на. плечи халате, улыбаясь во всю рожу и как-то уморительно выкидывая в стороны колени, тюремный скоморох и дурачок Карпушка Липатов. Рыжие, как морковь, волосы, такая же рыжая бороденка, выходившая из-под шеи и оставлявшая голым подбородок, некрасивое веснушчатое лицо с небольшим вздернутым носом и плутоватыми серыми глазами, потешные ужимки и чисто канканные телодвижения – все было в Карпушке своеобразно и в высшей степени забавно. Одни из арестантов считали его прямо сумасшедшим, другие, напротив, хитрым пройдохой, находившим выгодной роль дурачка. Трудно было решить этот вопрос, тем более что Липатов вовсе не стремился к тому, к чему стремились обыкновенные тюремные симулянты, то есть к освобождению от работ и к помещению в больнице. Иногда, попав туда, он начинал очень скоро рваться обратно в тюрьму, а на работе был скорее излишне трудолюбив, чем ленив и хитер.
– Здравствуйте, господа поштенные, – начал Карпушка, присаживаясь с нами рядом, – не примете ль и меня в вашу хеврю? Я ведь тоже дворяньская кровь, потому – хоть мать у меня и мещанка, а отец-то был чиновник.
– А как же вы говорили, Липатов, что отца и не видали никогда, что вы – незаконный?
– Я и теперь не говорю, что я законный, а все ж хоть и не с того боку, а кровь-то дворяньская свое обозначает. Верно я говорю! У меня ведь и обличье-то настоящее дворяньское… Нешто можно меня сравнить вон с его аль с его харей? – кивнул Карпушка в сторону арестантов. Последние захохотали.
– А я ведь по делу пришел-то к вам, господа. Который тут из вас, говорят, дохтур есть?
– Ну, положим, я, – отозвался Штейнгарт.
– А позвольте узнать, как величать вас?
– Дмитрий Петрович.
– Так вот с тобой, Митрий Петрович, мне нужно с руки на руку поговорить.
Карпушка при этом многозначительно подмигнул.
– В чем же дело? Или вы стесняетесь посторонних?
– Нет, мне чего стесняться! Я нигде не обробею! Я и самому Шестиглазому на каждой поверке все свои мысли выражаю. Вот жду еще не дождусь окружного дохтура, с ним тоже хотелось бы словечком-другим перекинуться.
– У вас болит что-нибудь?
– У меня внутри настоящая-то боль сидит. Видите ли, Митрий Петрович, я так полагаю, у меня косточки одной в спине нет. А фершал здешний, Землянский,{7} говорит: "Врешь, собачий сын, у тебя есть косточка". А какое там есть, когда я хорошо знаю, что нет.
– Знаете что, Липатов, – предложил я, – вы в другое время когда-нибудь посоветуетесь с Дмитрием Петровичем: тогда он хорошенько осмотрит вас. А теперь он, видите, с дороги, дайте ему покой. Мы и сами-то не успели еще поговорить как следует.
– И в сам-деле, пошел вон, Карпушка! – закричали на него арестанты. – Чего ты дурочку-то из себя оказываешь? Проваливай восвояси!
Карпушка равнодушно плюнул в сторону и продолжал сидеть.
– Хитрые вы, Иван Миколаич, спулить от себя Карпушку хотите. Вам-то – поговорить меж собой, в хевре своей чайку напиться, а у меня, можно сказать, о жизни аль смерти дело идет. Говорю, косточки у меня в спине нет! Я сказываю фершалу: давай ты мне настоящей ханании, такой, чтобы она, значит, болезнь из костей вон выгоняла. А он, цыганская его морда, калидатом да калидатом все меня пичкает! А калидат – я знаю, что такое. Он ведь болезнь в нутро, в кости вгоняет…
– Это что же такое за калидат и какой-такой ханании ему нужно? – в недоумении обратился ко мне Штейнгарт.
Мне уже достаточно известен был Карпушкин словарь, и я объяснил, что хананией он называет, по-видимому, хину и вообще всякое лекарство, а калидатом – кали-йодат.
Штейнгарт и Башуров громко засмеялись, их поддержал и сам Карпушка.
– В том-то и дело… Вот сейчас видно, что дохтур настоящий – все понимают. Я уж знаю, что они мне настоящей ханании пропишут. Сейчас замечаешь хорошего человека, не то что Иван-Николаевич; проваливай, мод, Карпушка Липатов! Ты к моей хевре не подходишь… А почему я не подхожу? У меня тоже дворяньская ведь кровь. Вот дали бы вы мне, господа, чайку дворяньского испить. Байховый чай – он, знаете, хорошо тоже по жилам расходится, особливо ежели с молоком. Лучше всякой ханании.
Дали Карпушке чашку чаю. Своей беседы нам так и не удалось вести: скоро послышался свисток дежурного и его же взволнованный крик по коридору:
– Вылазь на поверку! Скорей на поверку! Сам начальник будет!
Лучезаров давно уже не появлялся на поверках собственной персоной, и сегодня готовилась, очевидно по случаю прибытия новичков, – торжественная церемония.
– Любезен-то он любезен был с вами, а попугать все-таки хочет, – заметил я товарищам, выходя с ними на двор тюрьмы, и поспешил предупредить относительно того, что следовало делать во время поверки.
С Башуровым мы тут же простились, думая, что до утра уже не увидимся больше. Он направился к своей камере, которая "строилась" в другом конце длинной арестантской шеренги. Там Юхорев тотчас же принял его под свое покровительство, поставив за своей могучей спиной. Повел и я Штейнгарта на то место, где шевелились наши сокамерники. Всегдашняя моя пара – Чирок уже стоял в переднем ряду, поджидая меня и энергичной бранью прогоняя всякого, кто по забывчивости пытался занять позади его мое место. Впереди Штейнгарта, стоявшего рядом со мною, вытянулся гигант Петин.
Надзиратель беспокойно метался перед строем арестантов, делая им предварительный счет. И только теперь ударил звонок на поверку; но и после звонка мы мерзли еще около пяти минут, а Шестиглазый все не показывался.
– Выстойку нам, как хорошим жеребцам, делает, – острили неунывающие арестанты.
Наконец за решетчатыми воротами произошло движение, и на глазах у всех появилась величавая фигура в большой мохнатой папахе и широко развевающейся шинели. Мы трое уже стояли давно без шапок. Распахнулись широко ворота. Точно проглотивший аршин, надзиратель проревел неестественно зычным голосом слова команды:
– Смир-р-на! Шапки дол-лой!
Сотня голов моментально с шумом обнажилась. – Шапки надеть! – торопливо, почти не дав кончиться надзирательскому крику, произнес Лучезаров.
– Продолжает быть любезным, – шепнул я Штейнгарту и с любопытством посмотрел на товарища. Я заметил, как лицо его потемнело и то и дело поддергивалось нервными судорогами… Лучезаровская любезность, очевидно, мало утешала его. Дальнейшая часть поверки прошла с обычной помпой по раз установленной форме и, к счастью, без всяких неприятных инцидентов. Наряда на работы не читалось, так как день был субботний.
– По камерам шагом мар-рш! – прогремела заключительная команда, и ровным ритмическим шагом попарно арестанты двинулись к тюрьме. Штейнгарт шел впереди меня, бледный и сумрачный, понуря голову. В коридоре к нам подбежал Валерьян Башуров.
– Это ужасно, господа! Какое унижение! – прошептал он, конвульсивно стискивая себе пальцы рук. Юношески розовое лицо его от волнения еще более разрумянилось. Штейнгарт упрямо молчал.
– А разве вы лучшего вдали, господа? – сказал я успокоительным тоном. – Глядите на эти вещи философски. Если можно, запаситесь даже юмором…
Мы еще раз пожали друг другу руки и расстались. В камере между тем арестанты опять выстроились в шеренги. Мы с Штейнгартом, как и прежде, встали позади Чирка и Сохатого, возле своих нар.
Дверь быстро распахнулась, человек пять надзирателей влетели как ураган, и один из них прокричал обычное:
– Смир-р-на!
Внушительно замедленными шагами вошел Лучезаров, окидывая пытливым взглядом лица арестантов и, видимо, кого-то отыскивая. Упитанное, румяное лицо его, по обыкновению, чуть-чуть улыбалось иронически; в бравом штабс-капитане не произошло вообще никакой перемены с тех пор, как читатель видел его в последний раз, за исключением одного только: он носил уже полные капитанские погоны, и это обстоятельство, конечно, придало ему еще больше внушительности и величавости.
Наконец он увидал Штейнгарта и, приблизившись, молча подал ему письмо, которое вынул из бокового кармана. Затем круто повернулся к надзирателям и произнес сердито:
– Вы слышите запах? Есть тут запах?
– Не можем знать, господин начальник, – подобострастно ответил кто-то в нерешительности.
– Как не можете знать? Носа надо не иметь, чтобы не слышать! Гадкий, отвратительный запах!
– Да, оно точно, чижоловатый воздух, господин начальник, – согласился тот же надзиратель.
Тяжелый запах в нашей камере за последнее время сделался почему-то предметом постоянных наблюдений и раздражения бравого начальника. Он слышал его даже в такие дни, когда у нас подолгу стояла открытой форточка и когда атмосфера других камер, наверное, была вдвое удушливее, и ни за что ни про что распекал и надзирателей и несчастного старосту. Точно так же и теперь он бросился за перегородку, где помещались камерные параши. За ним последовала и вся свита.
– Откройте! – услышали мы оттуда повелительный голос начальника. – Понюхайте!.. Нет, вы понюхайте хорошенько!
Слышно было, как надзиратели один за другим подходили и нюхали. Кобылка, тихонько смеясь, переглядывалась.
– Вот что! – заговорил Лучезаров, появляясь опять в камере. – Староста и парашники плохо знают свои обязанности. Мало чистоты и порядка! Смотрите, я строго буду взыскивать.
И быстрыми шагами почти выбежал в коридор; со стуком и грохотом проследовала за ним свита, дверь захлопнулась, и замок щелкнул. Арестанты зашумели, засмеялись и принялись за свои обычные беседы и занятия.
Штейнгарт, склонившись над столом, читал при тусклом свете лампы полученное письмо, и мрачное лицо его с густыми нахмуренными бровями напоминало мне первый момент нашей встречи. Сердце мое болезненно сжалось… Я чувствовал себя опять одиноким, ревниво размышляя о том, что у этого человека есть и всегда будет свой особый мир, в который я никогда не проникну и в котором он будет страдать и радоваться один, замкнуто и молчаливо. Я лег в свой угол, предаваясь этим грустным думам; а товарищ долго еще сидел над письмом, чтение которого, по-видимому, давно было окончено. Затем, поднявшись, он стал ходить в глубокой задумчивости взад и вперед по камере. Луньков и Сохатый, разложив свои тетради, сидели за столом и переругивались.







