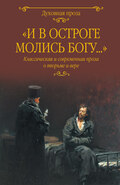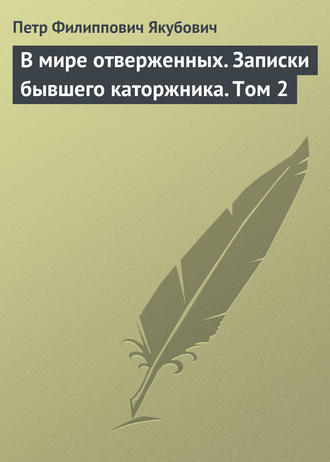
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
– Прочтите, пожалуйста! – умоляющим голосом заканчивал Котиков свои признания и, предварительно оглядевшись кругом, вынимал из кармана листок махорочной бумаги, густо исписанный карандашом, и подавал мне, а сам торопился куда-нибудь улизнуть. Вскоре он выпущен был в вольную команду, и я так и не успел расспросить его о смысле и значении его странных стихов. Один из листков у меня сохранился, и я воспроизвожу его здесь с буквальной точностью:
Достоевский описал
Мертвых дом нам в прозе,
Я его переплясал
В поэтичной – позе!
Представляю: мертвых дом
В наилучшем вкусе.
Смысл и рифма, блеск и гром
В чувственном – казусе!
Фантастический герой,
Генеал искусства!
С дома мертвого второй
Воскрес гений чувства.
Над героем герой-туз!
Попрал смерть, конфузы!
Композитор: гимных муз!
Фортопьяно, музы!
А. Котиков
Рядом с поэтами-стихотворцами не уставали сочинять и прозаики. Среди них не было, однако, ни одного беллетриста, и все без исключения занимались, подобно Шустеру, писанием своих биографий. Тот же Петин-Сохатый представил мне целых восемь тетрадок, в которых успел, впрочем, изобразить лишь свое раннее детство. Между всеми этими биографиями было одно общее сходство: авторов их занимал и мучил один и тот же вопрос – о причинах, толкнувших их на путь преступления и разврата, и все они одинаково скорбели о том, что не сумели или не могли жить честно в среде неиспорченных, хороших людей, и – что самое важное – от этой скорби, от этих дум веяло всегда несомненной, глубокой искренностью…
Что же заставляло этих людей, спросит, быть может, читатель, писать и заваливать своими писаниями? Этот вопрос, признаюсь, и меня сильно интриговал. У меня мелькало даже первое время подозрение, что им хотелось реабилитировать себя в моих глазах, во что бы то ни стало доказать, что они осуждены неправильно и страдают в каторге безвинно; но первые же прочтенные страницы исповедей убеждали, в грубой ошибочности такого подозрения. Ни один из авторов не делал ни малейшей попытки представить в сколько-нибудь смягченном виде свою преступность, скрыть какую-либо черту своего темного прошлого, вся грязь которого, напротив, выволакивалась наружу с беспощадной почти циничной откровенностью. Очевидно, причина, побуждавшая этих людей писать, была совсем другая, и не стоило особенного труда доискаться ее, так как она резко бросалась в глаза и даже откровенно указывалась самими авторами мемуаров; этим несчастным не только хотелось облегчить душу исповедью перед человеком, который, как они надеялись, все сумеет понять, но и думалось, что он сумеет поведать свету о пережитых ими заблуждениях, ошибках, испытаниях и мучениях!..
Уже несколько раз упоминал я в этих записках, что относительно меня составилась среди арестантов какая-то странная уверенность, что когда-нибудь, выйдя из тюрьмы, я непременно опишу в печати все, пережитое мной в каторге, все до малейших мелочей, причем изображу не только тюремную администрацию, но и кобылку. Из этой именно уверенности вытекали, например, и шутки по отношению к Чирку, которого стращали тем, что я будто бы записываю все преступления, когда-либо совершенные ими на воле. Правда, мне приходилось где-то упоминать также, что некоторые из выдающихся арестантов, читавших "Записки из мертвого дома", крайне неодобрительно и почти враждебно относились к их автору, предполагая, что он сильно повредил каторге раскрытием ее мнимых тайн и секретов; однако эти же самые люди к моему предполагаемому плану написать подобные же записки относились вполне благосклонно, очевидно уверенные в том, что я сделаю это иначе, то есть возьму на себя лишь прославление страданий каторги и изобличение ее притеснителей, и многие из этих людей, по-видимому, не прочь были сами попасть на страницы будущего сочинения… Наивные души! Что-то сказали бы вы, если бы когда-нибудь и как-нибудь узнали, что я на самом деле исполнил ту миссию, которую вы на меня возлагали, но исполнил не совсем так, как вам бы хотелось: изображая ваши поистине великие горести, я высказывал временами и горькую для вас правду…
Некоторые из моих учеников-приятелей не. только "не прочь были", но положительно сгорали жаждой попасть в мои будущие записки! Говорю это без тени преувеличения. Особенно часто вспоминается мне из этих мечтателей-славолюбцев один арестант по фамилии Пенкин, во всех отношениях производивший впечатление человека выдающегося и необыкновенно симпатичного. Даже и внешность у него была незаурядная. Длинные белокурые усы свешивались вниз, прикрывая собой красивые губы, в углах которых лежала печать постоянной грустной иронии, светившейся также: и в умных синих глазах. Низы щек уже подернуты были заметными морщинами, хотя Пенкину было не более сорока трех лет; когда-то он был, по-видимому, человеком очень веселого нрава, потому что и теперь еще не прочь был пошутить, побалагурить, рассказать смешной анекдот, но главной чертой его была теперь уже не веселость, а тихая грусть, задумчивая серьезность. Да и мудрено ли? Ровно двадцать три года сидел уже Пенкин в тюрьме, и лишь один раз за все это время ненадолго "срывался", для того чтобы еще прочнее засесть после того "в стены каменные". Признаюсь, меня охватывала каждый раз дрожь ужаса, когда я думал, что этот человек не знает свободы с начала 1870 года, то есть с того года, в который я едва начал сознательную человеческую жизнь, маленьким десятилетним мальчиком готовясь поступить в гимназию! Ведь с тех пор прошла, думалось мне, вечность не только для отдельных людей, но и для целых поколений, для целых народов! А человек, живой, способный страдать и чувствовать человек, все это время провел в душной, кошмарной атмосфере каторжных тюрем! Но и в будущем положение Пенкина казалось вполне безнадежным. Ему двадцатипятилетний каторжный срок считался почему-то со времени вторичного осуждения после побега, и вольной команды, по объяснению бравого капитана, ему совсем не полагалось.
Вся тюрьма поголовно относилась к нему с уважением, и слово Пенкина во время всяких арестантских треволнений (в которых он, впрочем, не любил принимать участия) отличалось в ее глазах особенной вескостью; ценило его и само начальство как тихого, солидного арестанта, прекрасного к тому же мастерового-плотника.
К сожалению, мне как-то ни разу не удавалось жить с Пенкиным в одном номере. Еще задолго до того времени, как по тюрьме прошла волна повального увлечения писательством, он не раз говаривал мне, оставаясь со мной наедине в горной светличке:
– Вот мою бы вам жизнь прослушать, Миколаич! Думаю, не пожалели б. Потому не всякому столько пережить удается. И по воле и в тюремной участи чего только я не видел, чего не испытал… Эх, кабы все это описать! Некому только описать-то (сам Пенкин был малограмотен)… Умру – так все и пропадет, словно ничего и не было.
Эту мысль и это сожаление много раз высказывал Пенкин, и нужно ли говорить, что я от души был бы рад выслушать рассказ об его жизни, тем более что, как я слыхал от арестантов, он был бесподобным рассказчиком; но обстоятельства складывались для этого как-то особенно неблагоприятно, и случая долго не выходило. Наконец однажды в нашей камере понадобилась какая-то небольшая переделка, и всех ее обитателей, а в том числе и меня, начальство "перегнало" на одни сутки как раз в тот номер, где жил Пенкин. Я поспешил, разумеется, воспользоваться этим случаем и попросил Пенкина, не откладывая, приняться за рассказ. Он не стал кобениться и, усевшись после вечерней поверки рядом со мною, начал говорить своим тихим, задушевным, приятно певучим голосом саратовца, рассказывая точно не собственную жизнь, а где-то слышанную или вычитанную из книги стародавнюю быль или сказку. Не прошло и нескольких минут, как рассказ этот захватил меня, и я уже не слушал, а буквально горел, весь отдавшись во власть этого странного человека, продолжавшего говорить мерно-спокойным, слегка только грустным голосом. Да и не я один увлекся – в камере наступила гробовая тишина – все слушали Пенкина с пожирающим вниманием, и когда рассказ наконец окончился часа в два ночи, я чувствовал себя потрясенным до глубины души, до дрожи во всем теле… Мне казалось в ту минуту, что никогда в жизни ни одна книга не производила на меня такого сильного, такого жизненного впечатления; этот рассказ был сама действительность, ужасная, полная всякого рода кошмаров, похожих на мрачную сказку, но как бы живьем запечатлевшаяся в памяти пережившего ее человека и теперь вновь воскресшая перед изумленным слушателем… Мне казалось, что запиши я тогда же дословно этот рассказ, полный беспощадно правдивого самоанализа, – он был бы замечательным литературным произведением, которое произвело бы и на читателей такое же сильное впечатление. Но я его, к сожалению, не записал… Две-три недели прошло с той памятной ночи, а я все собирался занести слышанное на бумагу – и никак не находил духу сделать это; то, что выходило из-под моего карандаша, было так бледно, так вяло, что мне становилось досадно и стыдно… А Пенкин несколько раз обращался ко мне с вопросом:
– Ну что, Миколаич, все еще не записали?
И когда я горячо принимался обнадеживать его, что вскоре непременно исполню обещание, он отвечал, грустно усмехаясь:
– Где, поди, записать! Так все и пропадет, словно ничего и не было…
И он оказался прав в своем пессимизме. Прошли годы, а я так и не исполнил своего задушевного желания. Да и исполнить его становилось с каждым месяцем все труднее и труднее, так как многое постепенно и незаметно забывалось, из памяти то и дело выскальзывали те или другие важные черточки и штрихи, и в настоящее время, когда я помню уже один только голый, бледный остов рассказа, когда-то произведшего на меня столь глубокое впечатление, я уже не могу отважиться на попытку вдохнуть в этот остов живое дыхание, расцветить мертвый труп красками жизни. И если Пенкину не удастся когда-либо встретить другого образованного человека, который будет счастливее меня, то его горькое пророчество исполнится в самом буквальном смысле, и поучительная, богатая внешним и внутренним содержанием жизнь исчезнет бесследно, словно ее никогда и не было…
Гибелью и проклятием этого человека был прежде всего тот порок, от которого гибнет на Руси столько лучших, талантливейших людей: страсть к водке овладела им еще в ранней юности. Но к этому прибавлялась еще бурная строптивость темперамента, принимавшая под влиянием винных паров размеры чего-то таинственного, напоминавшего черты наших былинных героев, – строптивость, ни за что не хотевшая считаться с ложью установившейся морали и обычаев; вполне естественно, что мелкая, буднично-пошлая современность, в свою очередь, не могла мириться с колющей ей глаза правдивостью и бунтарскими выходками этой неугомонной натуры. На каждом шагу, в среде даже самых близких людей, создавались все новые и новые враги, и трагическая развязка являлась почти столь же неизбежной, как древний рок: в пьяном виде Пенкин зарезал родного дядю и двоюродного брата…{36}
Дальнейшая судьба Пенкина сложилась не менее печально, чем и вся его жизнь. Каким-то чудом (все называли это чудом) Лучезаров выпустил его в вольную команду, и восторгам Пенкина не было пределов. По-видимому, он искренно мечтал начать новую жизнь… Но вот пронесся откуда-то слух, быть может и ложный, будто выпустили его по недоразумению и скоро опять посадят в тюрьму. Тогда в один бурный осенний вечер надзиратели, явившиеся в вольнокомандческий барак на поверку, не нашли там Пенкина – он скрылся. Меня уже не было в Шелайском руднике, когда я узнал, что около Верхнеудинска его поймали и что он снова отправлен в каторгу…
Не менее страстным желанием поведать свету о своем бурном прошлом отличался и Годунов. С глубоким презрением глядел он на то, что я интересуюсь рассказами такой тюремной мелочи, как, например, Луньков, и говорил ему с обычным самодовольством:
– Ежели сотню, тыщу таких описаний собрать, как твоя жизнь или жизнь какого-нибудь Сохатого, то все они вместе не будут стоить и одной страницы биографии моей жизни. Потому я по совести могу сказать, что вкусил и сладкого и горького, сквозь железные и медные трубы прошел, и обо мне не мешало бы в журнал написать. Ну, а вы что с Сохатым? Вороний корм – ничего больше. .
Задетые за живое, Луньков и Сохатый вступали между собой в оборонительный союз и горячо схватывались с Годуновым, но, краснобай по натуре, он никогда не лез за словом в карман и в этих спорах всегда загонял своих противников, как выражаются арестанты, в самый маленький пузырек… Когда Годунов тоже принялся наконец за писание мемуаров, то он, по-видимому, страшно волновался и тетрадкам своим придавал огромную цену, быть может, потому еще, что самый процесс писания давался ему довольно трудно, слова для выражения мыслей подыскивались нелегко. Зато, когда труд был доведен до последней точки и прочитанные мною тетради отнесены были в цейхгауз и там спрятаны в моих вещах в ожидании лучших времен, – Годунов сиял, как никогда, и часто ораторствовал перед камерой:
– Пусть только Иван Николаевич напечатает когда-нибудь мои записки, тогда мы увидим, что из этого выйдет! Тогда поймут, что такое жизнь ссыльного человека! Потому в настоящее время ничего этого не знают. Думают, что мы идем на преступление так себе, с легкой душой… Так пусть же знают, что ссыльный тоже человек, что у него иной раз кровью сердце обливается, – когда он поднимает руку на чужое добро! Пусть узнают, кто настоящий виновник всего зла!
Сомнительно, конечно, чтобы эти мысли и речи имели достаточное отношение к действительному содержанию "записок", но важно то, что Годунов мечтал поведать обществу историю своих ошибок и злоключений…
Мне не раз уже приходилось определять этого человека как тюремного дипломата, человека себе на уме, а также изрядного хвастуна и самодовола. Казалось бы, эти характерные личные качества должны были неблагоприятно отразиться и на записках, лишив их прежде всего самого главного и ценного свойства – правдивости.
Но что всегда поражало меня, в людях малокультурных – как только берут они перо в руки, так сейчас становятся большею частью замечательно правдивыми и откровенными. Происходит это, быть может, оттого, что, не имея никакого понятия о так называемой красоте формы, художественности изложения, они встречают и меньше соблазнов отступать от правды, тогда как образованные писатели часто жертвуют ею в погоне за красным словцом, за округленностью периодов и прочими аксессуарами литературности… Личный характер Годунова, правда, отражался на его произведении, но в форме не только невинной, а почти комической: чувство самоуважения до того проникало в его записки, несмотря на их покаянный тон, что оказывалось – его, Годунова, любили и уважали решительно все, кто только сталкивался с ним в жизни, не исключая чинов полиции и чуть ли не тех даже, кто бил его и порол розгами… Он вообще ужасно любит себя и чуть не на каждой странице проливает слезы о своей злосчастной судьбе, эта однобокая чувствительность доходит до того, что, описав, как однажды ради грабежа ему пришлось убить человека, он тоже плачет… только, увы, не о жертве, а о самом себе!
И тем не менее фактическая сторона рассказа производила, повторяю, впечатление несомненной, искренней правды, тем более что герой записок, в общем, не обелял, а скорее обличал и бичевал себя. В скобках маленькое замечание: этот самобичующий тон сильно напоминал записки несчастного Шустера; многие мысли и даже самые выражения как будто были заимствованы одним автором у другого, хотя на деле люди эти никогда даже не разговаривали между собой. Этот факт кажется мне в высшей степени характерным.
Зато в другом отношении жизнь Годунова напоминает мне жизнь Пенкина: как того, так и другого в каторгу привели какие-то роковые силы, таившиеся в глубине их души; за неимением более подходящего слова я назвал бы эту силу – тоскою… Какая-то природная неугомонность и ненасытность ни тому, ни другому не давала примириться со спокойной и ровной действительностью, толкая на борьбу с нею… Но разница натур сказалась в различии форм этой борьбы. Пенкин имел натуру сильную, властную и вместе с тем глубоко правдивую. В другой исторический момент и при других общественных условиях из такого человека легко мог бы выработаться общественный или религиозный протестант-фанатик, но наша серенькая действительность создала из него простого пьяницу-буяна и затем невольного убийцу. Натура более мелкая и менее чистая толкнула Годунова на путь легкой наживы, сделав из него жулика-бродягу и, наконец, корыстного убийцу.
Годунов – мужчина еще, можно сказать, в цвете лет. Он недурен собою, брюнет с окладистой бородой и умным, широким лбом, степенный в манерах, словах и поступках, большой краснобай и резонер. Он, как видит читатель, – сам прекрасно анализирует свое прошлое и знает, что шел по дурному пути. Но возможно ли для него отыскать другую дорогу – дорогу честного труда и мирного благополучия по окончании каторжного срока и по выходе на поселение?
По совести сказать, я не думаю этого, читатель… Темная дорога этой печальной, поистине кошмарной жизни точно, злым роком намечена была еще в самые ранние годы, и последняя ее роковая точка, наверное, не за горами!.. Дай, конечно, бог, чтобы я ошибся.
XVII. Кошмары
Всю последнюю зиму я бурил в верхней шахте. За три с лишком года пребывания моего в Шелае она углубилась, впрочем, не больше как на одну сажень. Дело в том, что бурение часто прерывалось за недостатком в тюрьме арестантов, а когда рабочие руки снова отыскивались, шахта оказывалась уже настолько погруженной в воду, что последнюю приходилось недели две откачивать. Начиналась опять сказка про белого бычка. Тем не менее при Петушкове работы в руднике подвигались несравненно успешнее, чем при его предшественнике. Этот человек не только умел пленять кобылку либеральным заигрыванием, но и держать ее в ежовых рукавицах, брать с арестантов все, что с них полагалось брать. Хотя, при мне и не случалось, чтобы он отсылал кого-либо к Шестиглазому "с запиской", но почему-то его побаивались.
– Да лучше б он меня – душа из него вон! – в карей, посадил, чем языком своим мягким жилы из нутра выматывал! – отзывались о Петушкове те, на кого обрушивалась порой гроза его ласкового красноречия. – Чего только не наскажет ведь, собака его заешь!.. И насчет поштеления закинет – Монахов, мол, лишит – и насчет того, что до Шестиглавого через нашего же брата кобылку донесется: тогда его, мол, – самого прогонят, а нам всем хуже станет. Жалобно таково да тоскливо на душе станет. Нет, куда легче все десять верхов в самой твердой породе отбухать, чем его жалобы слушать!
Нельзя, однако, сказать, чтобы Петушков и к прямым угрозам не прибегал. Я сам видывал, каким злым огоньком загорались его чахоточные глаза, когда он с деланной мягкостью и кротостью в голосе объявлял лодырничавшим, по его мнению, арестантам, что не станет больше брать их в рудник. А это для большинства кобылки было одной из самых внушительных угроз, так как рудник, действительно, имел много преимуществ перед всякой другой работой. Прежде всего здесь можно было хоть на короткое время забыть о том давившем ум и сердце гнете шестиглазовского "прижима", который ежесекундно давал знать о себе на всех так называемых домашних работах, происходивших вблизи тюремных стен; на лоне природы тут во всех отношениях легче дышалось, не говоря уже о том, что и самая работа, всегда урочная, была несравненно легче. Немаловажную, разумеется, роль в предпочтении арестантами рудника играло также и денежное поощрение, которое Монахов, хотя и редко, все же выдавал: больше всех получали кузнец, столяр, плотники (крепильщики), но перепадало кое-что и простым рабочим, бурильщикам и даже буроносам. Даже я, последний из последних рабочих, за несколько лет пребывания в Шелайском руднике получил около шести рублей… Заработанные таким путем деньги горное ведомство передавало в тюремную контору, и на ближайшей вечерней поверке Шестиглазый громогласно прочитывал, за кем сколько было записано. Хорошо помню, какое удовольствие испытал я, в первый раз в жизни заработав несколько рублей чисто физическим трудом…
В большинстве шелайских забоев почва была необыкновенно мягкая. Однако выпадали недели и даже целые месяцы, когда камень вдруг начинал, по выражению арестантов, дурить: он становился таким твердым, что в одну минуту расплющивались самые острые буры; буроносы не успевали таскать их в кузницу; Пальчиков не находил на своем энергичном языке достаточно слов для выражения негодования против "закона, веры и жизни". Случалось в такие незадачливые дни, что даже силачи, вроде Быкова или Сохатого, выбуривали не больше шести вершков, за весь день почти не отходя прочь от забоя, а менее сильные и умелые бурильщики не одолевали и четырех вершков. Обо мне нечего и говорить: я помню случаи, когда за два, за три дня самой адски прилежной работы я едва успевал выстукать полтора-два вершка!.. Руки при этом почти отказывались служить и дрожали, как у горького пьяницы, а правое плечо так мучительно ныло, словно после серьезного вывиха. В таких твердых породах не помогало даже и знаменитое арестантское средство – бурить с помощью "тепленькой водицы": средство это, казалось, только ухудшало дело. Я насчитал однажды, что молоток Быкова со всего размаха и без роздыха опустился на бур восемьсот раз, и, погрузив после того в шпур чистку, Быков с проклятием объявил, что почти ни капли муки, не набилось… Вообще в такие дни шахте приходилось выслушивать более нежели достаточное количество самых заковыристо-сильных выражений и добрых пожеланий!.. Арестанты были мрачны, сердиты и до того грозно-молчаливы, что я остерегался даже обращаться к ним с какими-либо вопросами; настроение у всех было тягостное, подавленное, точно в присутствии покойника. О песнях в такое время забывали и думать, и только молотки нервно и упрямо продолжали свою однообразную щелкотню. Под могучими ударами настоящих бурильщиков без конца и без передышки раздавалось напряженное, гневное "тук! тук! тук!". У меня, напротив, выходило унылое, минорное "тук да тук! тук да тук!" – и под эти минорные звуки сама собою складывалась грустная песня:
Там, где, холодом облиты,
Сопки высятся кругом,
– Обезличены, обриты,
В кандалах и под штыком,
В полумраке шахты душной,
Не жалея силы рук,
Мы долбим гранит бездушный
Монотонным "тук да тук!"
Где высокие порывы,
Сны о правде, о добре?
Ранний гроб себе нашли вы
В темной каторжной норе.
Счастья кончены обманы,
Знамя вырвано из рук.
Заглушая сердца раны,
Мы стучим лишь: "тук да тук!"
С нелюдимого востока,
С плачем снежных непогод,
Этот стук пройдет далеко —
В грудь отчизны западет
И на гибнущее дело
Вышлет сотни свежих рук…
Бейте ж, братья, бейте смело,
Неустанно: "тук! тук! тук!"{37}
Однажды попалось мне такое твердое, место, что пробурив уже целых три дня и не подавшись дальше полутора вершков, я находился в отчаянии. В пылу работы я забыл про осторожность, заставлявшую почти всех арестантов расстилать под собою во время бурения шубу, и работал, стоя коленями на голом, холодном, как лед, граните. Несмотря на наступивший уже март месяц, морозы продолжались сильные. На следующий день с раннего утра у меня чувствовалась головная боль и какая-то разбитость во всем теле, едва позволившая мне дождаться окончания работ; к вечеру открылся жар, и Штейнгарт поспешил перевести меня в лазарет.
И вот опять, не помню – в который уже раз, лежу я в хорошо знакомой маленькой каморке, одинокий, обвеянный со всех сторон мирной тишиною, и грежу. Больничный служитель несколько раз уже обращается ко мне с вопросом, не нужно ли горячего чаю, но я отвечаю одно: "Ах, дайте еще немного полежать… Я вам скажу потом". И сладкая истома постепенно разливается по телу, и хочется лежать так, не шевелясь, часы, дни и годы. Да и точно, не пронеслись ли надо мной целые годы? Что это? Ведь я покинул уже когда-то тюремные стены, я был свободен, а между тем… ведь это опять тюрьма, опять каторга?.. Да, вот они, страшно знаковые камеры, коридоры; только люди совсем другие… Какие-то все мрачные, враждебные лица… Как неприветливо они встречают меня, с каким злым недоверием! Но пусть! Зато в собственной груди я несу солнце; зато дивно-прекрасная мысль согревает и возвышает мою душу! Эта мысль – желание возродить их, озлобленных и несчастных, примером и словом любви и братства. Ради этой великой идеи я ведь добровольно вернулся в проклятые стены, где когда-то столько страдал, добровольно надел на себя клейменую куртку каторжного, с тем чтоб теперь найти здесь покой и счастье. И грезится мне, что я не один пришел сюда с подобной задачей, что у меня есть здесь друзья, такие самоотверженные, восторженные мечтатели; встречаясь иногда украдкой, мы робко озираемся по сторонам (точь-в-точь как иной раз во сне) и шепчем один другому: "Осторожнее! Никто не должен знать, что мы не настоящие каторжные… Об этом только там знают", Там означает Россию, Петербург…
И мы не устаем делить с назваными товарищами все их труды, лишения, страдания, делить без гнева и ропота, без желания взять на себя ношу полегче, укрыться от какой-нибудь общей беды или обиды; а каждую свободную минуту посвящаем проповеди. И как горячо, с какой пророческой силой и убедительностью умеем мы говорить, как слова наши проникают в самую глубину темных, загрубелых сердец и как эти сердца постепенно размягчаются, злые, темные глаза светлеют, а гневно сжатые кулаки разжимаются и протягиваются для братского пожатия наших рук! Однако что за странная форма наших речей – ведь это стихи, настоящие звучные стихи, с размером и рифмами? Удивление, впрочем, на мгновенье только мелькает в. мозгу. Очевидно, так полагается говорить здесь, и стихотворная импровизация продолжает свободно литься из моих уст, горячая, светлая, уверенная в себе, и неизъяснимое счастье продолжает наполнять душу…
– Иван Николаевич, успокойтесь, – тихо говорит, наклоняясь ко мне, кто-то из каторжных, высокий брюнет с красивыми глазами и бледным лицом. Он, вероятно, боится, что речь моя будет услышана надзирателем и мне придется плохо; я хорошо и сам понимаю, что мне может прийтись плохо, так как местное начальство считает меня настоящим каторжником, но какое мне дело до угроз и опасностей, когда предмет моей речи есть что-то такое прекрасное, от чего дрожит собственное мое сердце, а глаза слушателей блестят слезами.
– Однако и задали же вы мне хлопот, Иван Николаевич! Я уже серьезно думал, что вы ad patres[20] решили отправиться.
Ну да теперь-то я уж не выпущу вас из своих рук! – сказал Штейнгарт, ласково склонившись надо мной, когда дня четыре спустя я пришел наконец в себя. В ответ я мог только улыбнуться и, слабо пожав товарищу руку, крепко заснуть. Но я уже был спасен, и новый сон только подкрепил мои силы.
– И дернула же вас нелегкая, – укоризненно говорил опять Штейнгарт, – стоять коленями на голом камне! В марте-то месяце? Ну, вот и схватили острый сочленовный ревматизм… Теперь вам долго с этой штукой повозиться придется.{38}
Во время выздоровления меня мучило, впрочем, не столько сознание нажитой, быть может, на всю жизнь неприятной болезни, сколько упорное, неотвязное желание припомнить что-то: не то удивительно прекрасный сон, не то открытие безмерной важности для меня самого и чуть ли не для всего человечества. Мне казалось, что, забыв об этом, я утратил неоцененное сокровище, обладая которым стал бы и велик и счастлив, тогда как теперь был жалок, слаб и достоин презрения… Но я долго не мог вспомнить своего странного сна.
Вероятно, не многие из выздоравливающих больных не испытывали того приятного состояния душевного размягчения, когда и люди, и жизнь, и все в мире кажется таким светлым, таким прекрасным, а в собственном сердце чувствуется столько доброты и любви, что надеешься победить с ними все зло и весь мрак вселенной! Я испытывал теперь именно такое душевное состояние; с благодушной улыбкой встречал я даже надзирателей, входивших ко мне во время поверки и тоже, в свою очередь, широко улыбавшихся. Хорошо помню, как первым арестантом, которого я увидал после своего бреда, был повар-поляк Пендраль, круглое, лукавое, заискивающее лицо которого очень мало внушало мне раньше симпатии, но когда теперь лицо это просунулось однажды утром в мою дверь и льстиво-вкрадчивый голос спросил: "Цо пан хочет в обяд – чи зубчик, чи бульон?" – то я чуть не кинулся к этому человеку с распростертыми объятиями, чуть не расцеловал эту плутоватую жирную рожу! Говорить ли после этого, с какими чувствами встречал я навещавших меня испытанных, настоящих приятелей, вроде, например, Кузьмы Чирка.
– Ну, как можешь, Миколаич? – входил он ко мне, всегда радостно осклабляясь. – Слава богу, что поправляешься. Кобылка дюже тебя жалела… Как сказал Митрий Петрович, что, мол, шибко плох ты, так меня, веришь ли, инда слеза прошибла!
До глубины души трогало меня такое отношение ко мне тюрьмы, и мне казалось в эти минуты, что я начинаю припоминать то светлое и прекрасное, что так долго и напрасно усиливался вспомнить; мне казалось, что когда я оправлюсь и вернусь в тюрьму, то стану совсем иным человеком – весь, весь безраздельно отдамся любви к этим трижды несчастным людям, которых судьба послала мне в товарищи. Присев на краешек моей постели, Чирок рассказывал между тем тюремные новости: Сохатый подрался с Милосердовым; Огурцов посажен вчера в карцер, а надзиратель Змеиная Голова женился… Потом он переходил к больному своему месту: в ноябре месяце кончается срок его каторги, но кобылка стращает, что, мол, Шестиглазый ни за что его не выпустит, так как срок ему будто бы увеличен за побег.
– Будешь, говорят, сидеть без срока… Да еще что ведь, подлецы, говорят: в ноябре, говорят, отошлют тебя в Верхнеудинский централ на вечное одиночное заключение!.. Да с какой стати? Разве я отца али мать убил?
– Вы правы, Чирок, – с какой же стати!
– А они говорят, подлецы этакие, душа из них вон, будто от тебя, Миколаич, слышали?..
Я спешу, конечно, уверить Чирка, что никогда и никто ничего подобного не мог от меня слышать.
– Ну и я то же говорю: Миколаич, мол, друг мне, не станет он этак говорить!.. Да и какая может быть набавка, коли под судом я не был и никто мне никакой набавки не объявлял.
– Не объявляли, говорите?
– Вот те крест святой, не объявляли! Дали пятьдесят… Об этом нет спору – дали… Ну, посадили опять в тюрьму – и все тут. Да и побег-то мой вовсе не побегом был зачтен, а простой отлучкой.