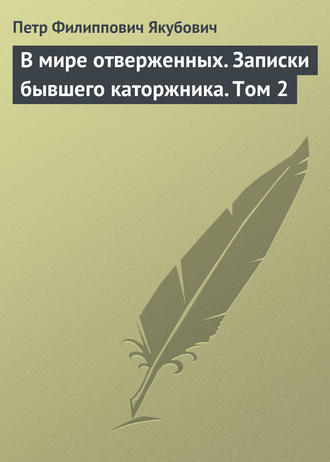
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
– Ничего. Галлюцинации проклятые не дают покоя… Вот она, вот, вот!
– Кто? Что ты там видишь?
– Вода, чтоб ее…
– Господа, сойдите с окна! Нам строго-настрого запрещено! – жалобным, почти умоляющим голосом заговорил внизу подошедший надзиратель.
Но мы еще несколько минут продолжали беседовать, не обращая на него внимания; побрякивая ключами п ежась от холода, он молча стоял перед карцером, не зная, что предпринять.
Мы спрыгнули наконец с подоконника. Валерьян был бледен и на глазах его дрожали слезы. Он крепко стиснул мою руку.:
– Иван Николаевич, чего же мы ждем, точно истуканы какие? Ведь так нельзя дольше оставить; он умереть может!..
Мной тоже овладел ужас и негодование на самого себя. Как! Товарищ гибнет на моих глазах, угасает страшной, медленной смертью за дело, которое всех нас одинаково близко касается, – и я не шевелю пальцем для того, чтобы спасти его, а если невозможно спасти, то хоть разделить его участь? Я только бесплодно ною, наяву и во сне предаваясь болезненным грезам, мрачным кошмарам, и ничего, ничего не делаю… И уже упущено столько драгоценного времени, уже идет шестой день, как живой здоровый человек не ест и не пьет, между тем как известно, что одной недели абсолютной жажды совершенно достаточно для того, чтобы погубить человеческий организм? Да это тоже какой-то сон, какой-то дикий кошмар, что я живу, безмолвно на все это глядя, спокойно дожидаясь роковой и неизбежной развязки! Эти мысли, как молния, пробежали в моем мозгу; я весь вздрогнул и точно стряхнул с себя гнетущие чары гипноза… Действовать! Спасать, пока еще не поздно! Погибнуть самому, но исполнить долг чести и товарищества!
Потрясенные, взволнованные, побежали мы к тюремным воротам с твердым решением в душе, хотя и без всякого определенного плана в голове…
– Пожалуйте к начальнику! – крикнул дежурный, растворяя перед нами ворота.
– Ага, вот кстати! Обоих?
– Нет, пожалуйте вы одни.
Приглашение относилось ко мне. Все последнее время надзиратели обращались с нами с какой-то усиленной, еще небывалой вежливостью и любезностью… Казак с ружьем тотчас же повел меня в контору. Только что переступил я порог хорошо знакомой комнаты, где за письменным столом восседал один Лучезаров (писаря находились в других комнатах), как бравый капитан порывисто г вскочил на ноги. Сегодня он показался мне бледнее обыкновенного; внутри его, видимо, клокотало раздражение, и глаза метали молниеносные взгляды.
– Да чего же вы домогаетесь, господа? – почти закричал он, сильным движением руки бросая на стол какую-то бумагу. – Сами делаете целый ряд… неосторожностей! Затеваете какие-то протесты! Голодные бунты! Чего же вы ждете? Этим вы себе только вредите, тем более что кто же верит нынче в голодовки!
– То есть как это "нынче"?
– Ну, да после этого, как бишь его? доктора, Таннера, что ли… Сорок дней человек голодал – и все-таки жив остался!
– Странным мне кажется делать столь смелые выводы на основании газетных анекдотов. Это во-первых. А во-вторых, если уж на то пошло, Таннер, помнится мне, все время своего поста употреблял воду.
– Да? Ну, а разве Штейнгарт… разве он серьезно? Ведь я же велел каждый день ставить ему воду.
– Так неужели вам докладывают, что он пьет эту воду? Это – ложь. Он не притрагивается к ней!
– Так скажите, ради бога, что же мне делать? Что я могу поделать?
– Прежде всего немедленно выпустить Штейнгарта, а затем…
– Выпустить! А знаете ли вы, – тут Лучезаров подошел ко мне вплоть и сказал почти шепотом, – знаете ли вы, что на меня и без того уже донос послан?
– Ну, этого я не могу вам сказать – кем, хотя и знаю, конечно, кем… Но факт тот, что он уже послан. Я выпустил Башурова из карцера по истечении трех суток, когда назначено было пять…
– Вами же самими назначено!
– Я сделал вам в последнее время крупные послабления, которых вы не могли, разумеется, не заметить…
– Какие же это послабления?
– Мой помощник не ходит больше на вечерние поверки, хотя это его прямая обязанность.
– Что это не прямая его обязанность, доказывает трехлетний пример его предшественника, который сидел себе в конторе и никогда не заглядывал даже в тюрьму. И было все тихо и прекрасно.
– Ах, вы затрагиваете мое больное место! – Лучезаров подошел к столу и с гневом подбросил лежавшую на нем бумагу. – Прежний мой помощник был таков, что его нельзя было посылать в тюрьму, не унижая престижа администрации, но он знал по крайней мере конторское дело. Теперешний… Положительно какая-то ирония судьбы меня преследует! Его нельзя ведь ни к какой серьезной бумаге подпустить, все тотчас же изгадит! Самого простого рапорта в десять строк без двадцати грамматических ошибок составить не может. Вы видите, вся работа лежит теперь на мне одном. Я положительно измучен, я скоро должен буду в постель слечь… Я не привык гнуть спину за письменным столом!
Гнев овладел опять бравым капитаном, круглые щеки его нервно колыхались, и мне снова казалось, что он был бледнее и худее обыкновенного.
– Чем же мы-то виноваты, что вам дан негодный помощник? – сказал я, пользуясь благоприятным моментом. – Мне кажется, выход из этого положения один: возможно скорее устранить подпоручика Ломова… И для вас самих и для тюрьмы это будет во всех отношениях полезно.
– Да, если бы от нас с вами зависели такие вещи… Лучезаров нахмурился и забарабанил по столу какой-то марш.
– Во всяком случае, – решил он, – надо потерпеть. Будем нести наш крест и ждать лучших времен.
– К сожалению, – возразил я, горько усмехнувшись, – наши с вами кресты неравной тяжести, и потому нам ждать невозможно. Какой ни на есть выход должен быть теперь же, сейчас же придуман. Иначе сегодня будет умирать в карцере Штейнгарт, а завтра я…
– Ну, этого я не хотел бы!
– Однако это неизбежно будет!
Снова завязался менаду нами горячий спор. От непосредственных фактов мы перескакивали к теориям и принципам, от теорий опять к действительным фактам. Лучезаров взывал к моему благоразумию и привычной сдержанности, которую осыпал похвалами; я, напротив, взывал к его гуманности. Тогда мой собеседник очень недвусмысленно намекнул на возможность самых суровых репрессий, которые мы можем на себя накликать и мысль о которых приводит его, капитана, в невольный трепет… Я отвечал на это, что не закрываю глаз на будущее, но полагаю тем не менее, что во всем и за все явится ответственным один он, как начальник тюрьмы, и под конец разговора – да простят мне боги Олимпа это, быть может, неуместное рассыпание священного бисера – я напомнил бравому капитану о суде потомства и о "Русской старине" XX века…{25}
Шестиглазый был, казалось, подавлен неожиданным натиском моего красноречия. Мысль о том, что он является в своем роде историческим человеком, ударила ему в голову – он весь побагровел и надулся, как индейский петух.
– Я подумаю… Штейнгарта я сегодня выпущу…Мы там посмотрим.
– Нет, он сейчас, сию минуту должен быть выпущен, иначе будет поздно. С ним уже делаются галлюцинации… Мы не пойдем на работу, пока вы его не выпустите!
– Я выпущу сейчас же, как только вы уйдете на работу. Это условие.
– Вы даете слово?
– Да. Но вы должны идти на работу. Чем ближе подходил я к тюрьме, тем сильнее омрачалась и остывала моя радость. И когда снова растворились знакомые решетчатые ворота и я увидел перед собой мрачное здание и не менее мрачный двор, столько уже лет бывший свидетелем всякого рада обид и унижений, этот огромный двор, по которому, корчась от холода, сновали там и сям угрюмые, исхудалые фигуры; мне стало опять так горько и страшно за будущее. Что значат все эти эфемерные и непрочные словесные победы, когда впереди предстоит еще целый ряд длинных, ужасных лет? Хватит ли сил их вынести? Суждено ли нам когда-нибудь снова увидеть "вольный белый свет", где люди гордо и прямо носят на плечах голову, живут, не зная унижений и страха?
Не успели мы с Валерьяном вернуться в этот день из рудника, как надзиратель, принимавший от конвоя арестантов, приятно осклабившись, объявил нам:
– А господин Штенгор уже выпущены!
– Да? Где он?
– В больнице-с… Очень, говорят, слабы…
Мы тотчас же направились в больницу и там действительно нашли Штейнгарта: бледный, исхудалый, он весело нам улыбался и пожимал руки.
– Есть приятная новость, – сказал он.
– Что такое?
– Мне по секрету сообщил один надзиратель, что Шестиглазый совсем запретил Ломову посещать тюрьму.
Мы громко ликовали. Я стал рассказывать подробности своей утренней баталии.
– Да, вероятно, и друг наш, со своей стороны, не дремлет.
– Еще бы! Надо бы к нему записочку отправить.
И мы погрузились в наши повседневные заботы и интересы. Несмотря на категорическое известие о том, что Ломов окончательно "отставлен" от тюрьмы (об этом уже и кобылка знала и болтала), полной уверенности у нас еще не было, и вечерней поверки мы ждали с обычным волнением. Но вот ударил звонок, и подворотный дежурный прокричал внутреннему надзирателю: "Поверяйте! Никого не будет!" Вслед за тем ворота распахнулись, и в них с шумом и хохотом ввалилась толпа других надзирателей. Они тоже, очевидно, радовались свободе.
– Командуйте на молитву! – закричал кто-то из вошедших, и кобылка, не дожидаясь команды дежурного, запела, что называется, спрохвала, торопясь и мало заботясь о верности напева.
И вдруг все вздрогнули и разом подтянулись; певчие на мгновение словно поперхнулись, а затем начали петь, как следует. За воротами неожиданно для всех появилась мрачная фигура Ломова… Мы с Валерьяном переглянулись: "Что же это значит?"
Замедлив шаги и сняв при звуках молитвенного пения шапку, он вошел в дежурную комнату. Мы все увидели его тотчас у окна, выходившего на тюремный двор, – он с жадностью приник к стеклу и весь, казалось, превратился в созерцание… Не смея ослушаться прямого запрещения Шестиглазого входить в тюрьму, он хотел хоть издали полюбоваться сладостным его сердцу зрелищем арестантской субординации…
Изо дня в день мы были с этих пор свидетелями все той же умилительной картины: каждый раз во время вечерней поверки Ломов заходил в дежурную комнату за воротами тюрьмы и, став там под окном, изображал из себя преступного духа, изгнанного из рая. Днем он также не появлялся больше в тюрьме и всю деятельность свою перенес в вольную команду, где открывал всякого рода "беспорядок" и нарушение дисциплины. Там Шестиглазый предоставил ретивому помощнику полную свободу действий, и мрачный подпоручик проявлял свою власть в самых широких размерах, прибегая даже к помощи розог. Слух о телесных наказаниях в вольной команде то и дело достигал теперь наших ушей, не менее болезненно действуя на нервы, чем в былое время, когда я был в Шелае еще один и на Лучезарова нашла однажды полоса дикого самодурства. Чрезвычайно характерно было для Ломова, что он лично присутствовал при каждой телесной расправе и сам считал число отвешиваемых ударов.
– Смирно! – раздавалась команда надзирателя, когда он приближался к месту экзекуции на задворках своей квартиры. – Шапку долой!
И приговоренный к розгам арестант, покорно сняв шапку, молчаливо ожидал дальнейших приказаний.
– Раздеваться!.. – командовал Ломов, и несчастный, дрожа всем телом, раздевался. Два дюжих казака принимались за заплечную работу, причем Ломов то и дело взвизгивал:
– По-настоящему!.. Как следует!.. Без лукавства!.. Кончалась "работа", и он удалялся домой с сознанием честно выполненного долга. Передавали, между прочим, будто он крайне сожалел о том, что в Шелае не имелось своего палача и для наказаний плетьми по суду арестантов отсылали в Алгачи. Последнее было, конечно, большим счастьем для кобылки, так как подобный ревнитель законности, наверное, не одного присужденного к плетям загнал бы в гроб: ведь известно, что и одного удара плетью "по-настоящему" вполне достаточно для того, чтобы вышибить дух из человека…
Внутри тюрьмы воцарилось, во всяком случае, отрадное спокойствие. Мы уже начинали довольно легкомысленно думать, что только что пережитый мрачный период нашей жизни навсегда отошел в область преданий и больше не вернется… Тем неприятнее было внезапное пробуждение от светлых грез. Раз утром мы с Башуровым собрались идти в рудник на работу (Штейнгарт все еще лежал в больнице, медленно поправляясь от сильного нервного расстройства), как вдруг надзиратель, чрезвычайно встревоженный, промчался по коридору, крича:
– Горные рабочие, стройсь! Живой рукой! Сейчас помощник будет…
Кобылка поспешно строилась на дворе по рабочим группам. Недоумевая, отправились и мы двое на свое место. Замок нервно щелкнул, ворота угрожающе распахнулись – и грузными, торопливо стучащими шагами Ломов направился прямо к нам.
– Смир-р-на! Шапки дол-лай! – скомандовал надзиратель. Все головы моментально обнажились.
Приподняли свои шапки и мы с Башуровым, чтобы через мгновение надеть их снова. Этого только и нужно было Ломову.
– Бес-па-ря-дак! – послышался тотчас же визгливый крик. – Кто там? Кто в шапке?
Он очутился возле Башурова.
– Я ведь вам поклонился, – объяснил последний, – разве вы не видали?
И он, сняв еще раз шапку, опустил ее и снова надел на голову. Это было таким неслыханным беспорядком, что Ломов на несколько секунд, казалось, языка лишился и растерял все мысли. Наконец он нашелся:
– Мы не товарищи… Здесь не знакомство, а субординация… Надзиратель, в карцер его!
– Арестуйте и меня также, я тоже в шапке стою, – выступил я вперед, подозревая, что Ломов хочет удовольствоваться одним Башуровым.
– Ну, так и его взять! – взвизгнул, точно ужаленный, Ломов и, повернувшись на каблуках, пошел к воротам.
Каким образом попал он в это утро в тюрьму, получил ли дозволение Шестиглазого, решился ли самовольно проникнуть в потерянный эдем, об этом мы так и не узнали никогда; как бы то ни было, но Ломов достиг своей цели и был, вероятно, вполне доволен собою. Нельзя, впрочем, сказать, чтоб и я не чувствовал некоторого нравственного удовлетворения. Точно гора свалилась с плеч, когда дверь карцера затворилась на замок и я впервые очутился в низенькой темной каморке, лишь слабо освещенной падавшим из коридора в дверную форточку светом. Окно, выходившее на тюремный двор, всегда было плотно закрыто спущенным ставнем. Не успел я собраться с мыслями и чувствами, как из другого конца коридора послышался смех Валерьяна:
– Иван Николаевич, как поживаете? Что думаете спросить себе на завтрак – бифштекс или ростбиф?
– А, шутки в сторону, как вы думаете насчет пищи поступить?
– Сказать вам правду, я не особенно люблю с пустым желудком сидеть…
– Оно так, но, знаете, после того как Штейнгарт….
– Я и сам то же думаю. Попробуем, ведь не боги горшки обжигают!
Так перекликались мы довольно долго. Наконец под окном послышался голос Штейнгарта. Он пришел из больницы расспросить нас о событиях утра. После него кто-то другой постучал в ставень:
– Миколаич, друг!
Я узнал голос Чирка.
– Мяса не хошь ли? Огурцов с Луньковым караулят, я живой рукой подам.
С трудом убедил я своего приятеля оставить это намерение.
– Да ты не так ли уж, как Штенгор, задумал?
– Как это?
– Да так, не исть… Чудак, ведь замрешь!. Какая польза, кому надо?
Но, не дождавшись ответа на свой вопрос, добряк соскочил поспешно с подоконника, и я слышал, как он своей грузной, ковыляющей походкой улепетывал со всех ног; должно быть, подан был сигнал о близкой опасности…
Томительно потянулись часы за часами. Вот прозвенел колокольчик на обед. С веселым говором прошли по двору вернувшиеся из мастерских арестанты, торопясь в камеры обедать и отдыхать. Я явственно различал голоса некоторых из них; разговаривали всё о вещах посторонних. У большинства не было, очевидно, острого интереса к нашему делу, мало для них понятному и потому мало вызывавшему сочувствия.
– Степша! а ты продай мне свое мясо, я больно что-то жрать захотел сегодня.
– А он и говорит мне: "Ты, говорит…"
– Я тебе кайлу в боковину запущу, коли в другой раз слово такое услышу!
С такими речами кучка за кучкой проходили арестанты под нашими окнами, и наконец все затихло. Начался обед и затем отдых. Артельный староста в сопровождении дежурного надзирателя принес и нам хлеб с водой.
– Не обессудьте, Иван Николаевич, сегодня вам горячей пищи не полагается, а уж завтра беспременно подадим, – ласково, почти искательно сказал Годунов, всовывая ко мне в форточку свое красное лицо.
Я отвечал, что все равно не стану ничего есть.
– Это вы напрасно, право, напрасно! – в один голос заметили и староста и надзиратель. Форточка захлопнулась на задвижку, и шаги смолкли.
Переговариваться с Валерьяном я вскоре бросил – приходилось очень громко кричать, и это надоедало. Попытался я было лечь на короткую и жесткую лавку, неподвижно прикрепленную к стене, но лежать было слишком неудобно, и сон не шел. Голова пылала и болела от сильного нервного возбуждения; мысли, одна другой бессвязнее и нелепее, копошились в мозгу. Я опять вставал на ноги, пытался ходить взад и вперед по карцеру, но и ходьба не доставляла ни малейшего удовольствия, так как свободно можно было сделать всего лишь два шага.
Снова прозвенел звонок на работу, и снова с шумом прошли под окном толпы арестантов. Через час после того, слышно было, вернулись горные рабочие. И опять все затихло, как в могиле, только кровь громко стучала в висках: "Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!" Несколько раз в течение дня подбегал к окну Штейнгарт, хотя свидания эти ни ему, ни нам не доставляли отрады. Сообщить друг другу было решительно нечего.
Я начинал между тем ощущать мучительный голод: как на грех, поутру я вышел на работу, не притронувшись ни к хлебу, ни к чаю. Впрочем, пить у меня еще не было особенного позыва. Зато Башуров давно уже жаловался на сильную жажду, которую увеличивало еще соседство жарко натопленной печки. Штейнгарт пробовал было убедить нас обоих не подражать ему – и пить по крайней мере воду, но мы остались при своем решении. Ударил наконец колокольчик на вечернюю поверку. В эту самую минуту кто-то торопливо вскочил на подоконник.
– Господа!
– Это вы, Дмитрий Петрович?
– Сейчас слышал новость: решено будто бы расселить нас по разным рудникам. Слух этот исходит, впрочем, от кобылки – быть может, и врут. А вот утром обещано письмо – вероятно, от друга – тогда все узнаем.
Штейнгарт поспешно ушел, и вслед за тем послышалась команда на молитву: значит, на поверке присутствовали опять одни только надзиратели.
Ночь прошла без сна, в тягостном томлении и невеселых думах. Койка была так коротка, что мозжившие и без того ноги невозможно было протянуть на ней, да и в изголовье нечего было подложить. В противоположность Башурову, которого страшно пригревала соседняя железная печка, мне было холодно. Карцер представлял собой настоящую маленькую мышеловку, в которой нельзя было ни лежать, ни ходить. Голодный червяк перестал сосать под ложечкой, и только голова болела нестерпимее прежнего, точно собиралась лопнуть по всем швам…
– Как это все глупо, обидно глупо! Какое подлое положение! – вырывался то и дело крик из груди, и в бессильном бешенстве я пытался сделать по своей клетке два неполных шага. В камере товарища было тихо. "Счастливец, – думал я с завистью, – он может спать и не думать!" Только под самое утро, согнувшись в три погибели, полулежа, полусидя, забылся и я на некоторое время тупым, свинцовым сном; но мне показалось, что длился этот сон всего лишь одно мгновение. Я проснулся, дрожа всем телом и стуча зубами от невыносимого холода, а в ушах моих еще гудел какой-то металлический отзвук. "Ага! Это, должно быть, звонок на поверку". Из коридора не проникало еще ни луча света: на дворе было темно. Но вот послышался шум голосов, топот ног, бряканье кандалов и ключей. Громко зазевал и Башуров в конце, коридора. Голодный червяк опять завозился внутри.
– Как почивали, Иван Николаевич? А представьте, что мне всю ночь снилось: великолепнейший ужин! Дичь, холодная телятина, вина, но главное – вода… Ах, что это была за вода! Свежая, прозрачная, ароматная… Клянусь вам, я никогда ничего подобного не пил! А вы что во сне видели?
– Приблизительно то же самое.
– Ха-ха-ха! Что же это, однако, Дмитрий долго не показывается? Спит, что ли? Хоть бы по рудникам поскорее развели нас! А то здесь от одной скучищи пропадешь.
Штейнгарта нам действительно пришлось долго ждать. Уже совсем рассвело и арестанты разошлись по работам, когда послышались наконец его лихорадочно торопливые шаги. Не успев еще вскочить на подоконник, он громко закричал:
– Ур-ра, господа! Радуйтесь: по-бе-да!
– Что случилось? В чем дело?
– Ломов уходит… Совсем! Вас сейчас выпустят…
– Да ты не брешешь?
– Я нарочно не шел раньше, чтоб дождаться верных известий. Друг сообщает, что получена сегодня ночью телеграмма с предписанием Ломову в двадцать четыре часа покинуть Шелай и ехать на новое место. По полиции какая-то должность…
– Вот так штука! Это действительно победа!
– Так вот что значило "друзья действуют"…
– Ну и молодец же эта Анна Аркадьевна! Знаешь что, Штейнгарт? В первый же раз, как увидишь ее, ты расцелуй ее от меня… Хорошо?
– А насколько все это, Дмитрий Петрович, не подлежит сомнению?
– А! вы и здесь не утратили вашего обычного скептицизма, Иван Николаевич? Успокойтесь, однако. Я уже и от надзирателей слышал, что Ломов сегодня уезжает. Рано утром он уже заказал столяру ящик для вещей…
– А может быть, умирать хочет с горя – так гроб для себя? – пошутил Валерьян.
– Уж не знаю. Вряд ли, впрочем… Он, кажется, не из таковских, чтоб духом падать.
Разговор наш был прекращен загремевшим в коридоре карцера замком. Штейнгарт оказался прав, и дежурный надзиратель, приятно ухмыляясь во все лицо, явился освобождать нас, а самого Штейнгарта вслед за тем вызвал за ворота. Он вернулся оттуда, только часа через полтора.
– Лучезаров, что ли, вызывал? – накинулись мы на него еще на середине двора.
– Не угадали: на практику ходил!
– Как так? Значит, опала кончилась?
– Совершенно, и без остатка. И знаете, к кому ходил? К другу.
– Ну, рассказывайте все по порядку!
– Анна Аркадьевна, оказывается, еще третьего дня получила телеграмму иносказательного содержания, из которой узнала, что дело ее выиграно и тюремная карьера Ломова окончена. Впрочем, она объясняет этот успех не одним только своим влиянием; тут действовали довольно сложные махинации… Дело в том, что и сам Шестиглазый заваливал в последнее время начальство доносами на Ломова: он называл их контр доносами, так как подозревал, что Ломов на него посылает доносы… Я лично смекаю, что и тут дело не обошлось без милейшей Анны Аркадьевны.
– Каким образом?
– Мне кажется, она сумела внушить бравому капитану такие подозрения насчет Ломова, на самом же деле он, быть может, невиннее грудного младенца был…, Впрочем, я не настаиваю на своем предположении. Во всяком случае, сам того не зная, Шестиглазый играл нам на руку. Анна же Аркадьевна выказала огромный дипломатический талант.
– Господа, надо ей поднести благодарственный адрес.
– Ну продолжайте, Дмитрий Петрович!
– Официальная телеграмма об отставке Ломова получилась вчера в двенадцатом часу ночи, и Лучезаров прежде всего прибежал с нею к Анне Аркадьевне. За последние дни они вообще сильно опять подружились… Он сиял, словно будто одержал величайшую в жизни победу и точно будто Ломов вовсе и не был детищем его собственных рук! Однако, когда Анна Аркадьевна предложила ему немедленно же выпустить вас на свободу, он отклонил это предложение: "Пускай просидят ночь, радость будет потом сильнее". Она сочла, конечно, за лучшее не настаивать. Зато под конец свидания ей сделалось дурно, она начала стонать и жаловаться на внезапный приступ сердцебиения. Старик муж встревожился, Лучезаров того пуще и тут же вызвался пригласить меня… Но Анна Аркадьевна и здесь проявила гениальный такт. Ей вовсе не любопытно было видеть меня в присутствии бравого капитана, и она заявила, что нет настоятельной нужды тревожить меня ночью, что ей стало лучше, а что если утром опять сделается хуже, тогда… Ну, утром ей стало, разумеется, хуже, и вот я очутился за воротами.
– А как отнесся Ломов к своей внезапной отставке? Неизвестно?
– Как неизвестно! Муж Анны Аркадьевны видел его и счел нужным выразить соболезнование.
– Ну и что же он?
– "Воля, говорит, начальства, наше дело не рассуждать, а повиноваться".
– Вот дубинища!
– Нет, Валерьян, он, по-моему, молодец. До конца остается себе верен. Ио я не все еще рассказал, господа. Представьте: я уже собирался уходить, как вдруг влетает… сам великолепный Лучезаров! Весел, румян… Ну и одет довольно небеспечно, а одеколоном так и залил всю комнату… Прямо ко мне: "Желаю здравствовать! Как находите нашу больную? Не правда ли, она молодцом сегодня глядит? Ну, а ваше как здоровье? Надеюсь, теперь не станете больше хворать?" Последняя фраза говорится с приятнейшей улыбкой, а взгляд так и играет. Я, конечно, отвечал выражением тоже надежды, что теперь все пойдет по-новому, по-лучшему, и мы с любезными поклонами расстались… Однако я заметил, что он сильно, поморщился, когда затем Анна Аркадьевна схватила меня за руку, несколько раз крепко пожала ее и выразила вслух ряд самых добрых пожеланий мне и моим товарищам. В довершение всего только что вернувшийся откуда-то есаул, не раздумывая долго, тоже подал мне руку. Шестиглазый совсем был сражен!
– А теперь, господа, – закончил Штейнгарт, – пойдемте-ка в мою каморку и отпразднуем счастливое избавление от гибели трех библейских отроков,{26} брошенных в пещь огненную (тебя ведь, Валерьян, не шутя, кажется, поджаривали вчера?). У меня молоко есть, заварим байховый чай и станем кейфовать!
Предложение это было единогласно одобрено, и с веселым смехом и громкими разговорами мы отправились в больницу.[12]







