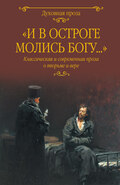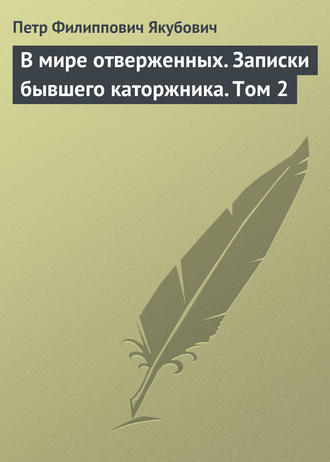
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
XIII. Жизнь опять входит в нормальную колею
Давно уже не было в Шелае такого мягкого режима, какой воцарился после удаления Ломова. Вечерние поверки стали производиться большею частью в присутствии одних надзирателей; камеры с утра до вечера стояли незапертыми; карцера пустовали; сам Шестиглазый совсем перестал показываться в тюрьму – по-видимому, она опротивела ему после столь неудачной попытки установить идеально образцовый порядок. Пресловутые печатные правила висели теперь на стенах камер в полном пренебрежении и забвении; сначала на них появились откуда-то грязные, жирные пятна, затем сама бумага начала лопаться и прорываться, и в конце концов от больших, красивых листов остались лишь жалкие, невзрачные обрывки.
Впрочем, нужно и то сказать, что все эти благие результаты нового веяния чувствовались главным образом мной и двумя моими товарищами, арестантская же масса, сравнительно, мало их замечала, по-прежнему жалуясь на тяжесть шелайской жизни и мечтая о других рудниках. Главное, что всегда отличало Шелай от этих последних, питая в кобылке непримиримую злобу, было запрещение частных улучшений пищи: запрещение это и до сих пор оставалось во всей силе. Самые богатые арестанты принуждены были довольствоваться тем, что давалось в общем котле, отдельно же могли выписывать лишь чай, табак и сахар, да и то в установленных раз навсегда максимальных размерах. Заработанные в тюрьме или полученные из дому деньги никогда не выдавались на руки, и все это" вместе делало невозможным ни существование в тюрьме майданов, ни процветание картежной игры. Арестанты по натуре вообще большие индивидуалисты, и даже те из них, для кого право свободного пользования деньгами было бы, казалось, ни к чему, бедняки и всякого рода неудачники, плохие ремесленники и еще более плохие игроки, даже и они не иначе как с величайшим раздражением отзывались всегда о шестиглазовском "прижиме".
– Да откуда ж бы у вас и в другой тюрьме деньги взялись? – спрашивали мы иных из таких неудачников. – В карты вы всегда, говорят, проигрываете, заработать ничем не можете…
– Эх, господа, господа, – слышалось обыкновенно в ответ, – мне ведь шесть лет еще в тюрьме-то сидеть. Так неужто ж за эстолько годов ни разу у меня копейки бы лишней не завелось?
– Ну и куда бы вы эту копейку дели?
– Куда? Эхма, куда!.. Купил бы я, к примеру сказать, фунта два-три мяса и сам бы, в собственном котле, наварил себе щей! Знал бы, по крайности, что свое собственное ем.
Так рассуждала кобылка. Но нам троим, конечно, жилось и дышалось сравнительно легче прежнего. Штейнгарт снова имел обширную практику вне тюремных стен и нередко приносил оттуда даже газетные новости, производившие каждый раз в нашем маленьком кружке огромную сенсацию… Одного только не удалось нам добиться, несмотря на всю мягкость наступившего периода, – это возвращения отобранных некогда книжек. Шестиглазый, когда мы обращались к нему по этому поводу с прямыми вопросами, не отвечал, правда, категорическим отказом; напротив, не давая нам синицы в руки, он сулил даже целого журавля в небе.
– Я давно уже послал формальный запрос относительно чтения арестантам светских книг, и ответа нужно ждать со дня на день. Я думаю, ответ будет благоприятный… Скажу даже больше: вас ожидает приятный сюрприз! В тюрьме будет, по всей вероятности, устроена официальная библиотека (конечно, на средства арестантов), и один из вас будет под моим наблюдением заведовать ею.
– Но в ожидании такого сюрприза, – приставали мы, – вы могли бы временно собственной властью разрешить пользование теми книгами, какие уже имеются… Прежде вы могли же это сделать?
– Мог потому, что тогда я не делал еще формального запроса. Теперь я обязан следовать букве закона.
Так говорил нам бравый капитан; и в это же самое время на вопросы других арестантов, тоже просивших иногда "книжечек", отвечал совсем в другом духе:
– Я вот покажу вам книжечки! Вздор, вздор! Единственной духовной пищей арестанта должны быть Евангелие и Библия.
Словом, Лучезаров не изменил себе и продолжал и в это мирное время оставаться все тем же великолепным Лучезаровым. О книгах поэтому много мечтать не приходилось.
Зато на некоторое время тюрьма почти вся поголовно увлеклась опять обучением грамоте. Наиболее популярным преподавателем из нас троих сделался в эту пору Штейнгарт, в котором действительно открылся и большой учительский талант и еще больший такт в обращении с учениками. Он как-то удивительно умел избегать всех тех сцилл и харибд,{27} о которых столько раз разбивались мои усилия, вроде самолюбия или зависти одних учеников к другим. Одного его слова оказывалось, бывало, вполне достаточно, чтобы прекратить возникавшие распри, и заявление одного арестанта другому (в каком-нибудь "ученом" споре), что так, мол, сказал Дмитрий Петрович, – перевешивало нередко всякий иной довод. В отношениях Штейнгарта с арестантами не было никогда и тени какого-либо желания подладиться к их нравам или понятиям; в общем, он отличался скорее молчаливостью и несравненно охотнее отвечал на вопросы, нежели сам задавал их; мягкий и терпимый к людским недостаткам, он никогда не брад на себя роли моралиста и проповедника; однако всем было отлично известно, что существует граница, за которой терпимость эта кончается, и Штейнгарт может вспылить и наговорить кучу самых резких вещей. И для меня было всего удивительнее то, что никто никогда не обижался на резкие выходки товарища, и что, напротив, они только увеличивали, казалось, уважение к нему кобылки. Тот самый Грибский, которого он так грубо оборвал за цинизм, положительно благоговел перед Штейнгартом и во время шестидневной его голодовки со слезами на глазах умолял меня предпринять что-нибудь для его спасения… Меня крайне занимал также вопрос: оставалось ли для арестантов тайной еврейское происхождение Штейнгарта, и влияло ли оно сколько-нибудь на их отношения к нему? Мне кажется, тюрьма отлично знала, что он еврей, – знала это и от надзирателей и от самого Штейнгарта, и тем не менее даже во время известных столкновений наших с кобылкой из всей арестантской массы один только сумасшедший Жебреек, разносивший медицину и докторов, припутывал временами к своим филиппикам и какую-то чепуху о жидах, но отклика себе не находил. Вообще мне думается, что в понятии простолюдина слово еврей или жид решительно не вяжется с представлением о человеке образованном, лучше его самого говорящем по-русски. Поэтому-то сведения о еврействе Штейнгарта проходили как-то совсем мимо ушей и понимания кобылки, и мне самому не раз, помню, задавались вопросы:
– А что, Иван Николаевич, родитель господина Штейнгора, надо полагать, тоже из больших помещиков был?
Другие называли его сыном генерала, сенатора и пр.
Замечательно, что в числе учеников Штейнгарта был одно время еврей, с которым нам придется еще познакомиться, человек, пользовавшийся в тюрьме очень дурной славой; кобылка нередко бранила его "жидом". Штейнгарту, как и мне с Башуровым, случалось брать под свою защиту этого несчастного юношу, и тогда арестанты говорили ему:
– Стоит ли вам, Дмитрий Петрович, заступаться за такую сволочь? Одно ведь слово – жид.
– Я сам еврей, – возражал Штейнгарт, – но разве это какой-нибудь грех?
Тогда арестанты конфузливо чесали у себя в затылках и не знали, что сказать.
– Эх, Митрий Петрович, нашли с кем сравнить. Сволочь тюремную взять али вас!
Я думаю, что вообще было бы неблагодарным делом отыскивать даже и в подонках нашего простонародья какие-либо антисемитские тенденции в том смысле, какой они имеют у разных наших доморощенных Дрюмончиков и Рошфориков.{28} Антисемитизм и юдофобство этих последних – явления чисто культурные, создаваемые известного рода воспитанием и книжной пропагандой. Русская каторга абсолютно чужда всякой религиозной, а тем более расовой нетерпимости. Вот народ, про который действительно можно сказать, что для него не существует ни эллина, ни иудея, и который знает лишь две породы людей – угнетателей, и угнетенных. Правда, вы на каждом шагу можете услыхать из его уст такие ругательства, как "цыганская образина", "чухна проклятая", "польская" или "хохлацкая морда" и т. п., но все это лишь результат обычного пристрастия русского человека ко всякого рода крепким словам, и никакого серьезного смысла за ними не кроется. До чего еще мало, к счастью, развиты в нашем простонародье квасные патриотические чувства, показывает и тот, например, курьезный факт, что во многих глухих местностях России совсем неизвестно или известно очень смутно самое слово "русский", и нередко какой-нибудь двадцатилетний парень на вопрос о том, на каком языке он говорит, наивно отвечает вам: "на красном"… Очень многие из арестантов, я помню, говаривали:
– В верхней шахте сегодня нас пятеро русских работало.
Оказывалось, в числе этих "русских" был один поляк, один цыган, один мордвин, один хохол и только один великоросс, но зато не было ни меня, ни Башурова, ни Штейнгарта, и именно это-то и хотел выразить арестант своим замечанием. Очевидно, в понятиях этих людей слово "русский" обозначало главным образом принадлежность к простому, необразованному люду – и ничего больше.
Возвращаюсь, однако, к своим воспоминаниям о мягком периоде, наступившем после удаления подпоручика Ломова. Чаще всего рисуется мне нерабочий праздничный день. Все камеры растворены настежь, дежурный надзиратель пропадает неизвестно где. Никто не спит, так как время близится к обеденному часу. Заглянешь в одну камеру – там совсем пусто, и только два-три человека где-нибудь в углу, полулежа на нарах, пьют собственный чай и тихо разговаривают. Это какие-нибудь солидные, флегматичного темперамента приятели, мало интересующиеся шумной общественной жизнью и предпочитающие ей интимную беседу о стародавних временах и о разных случаях из своей жизни на воле. Заходишь в другую, в третью камеру – и там все пусто, словно все вымерло. Но зато из следующего номера доносится оживленный говор и шум. Здесь целая толпа народу – трудно протискаться. Что же это за зрелище, которое привлекло сюда почти всю тюрьму?
Две камеры, моя и Штейнгарта, устроили сегодня состязание между собой, "екзамент": чьи ученики сделали больше успехов в науках? Состязаются, конечно, одни только "ученики", но живейшее участие принимают в деле и их неграмотные сожители. Одно и то же стихотворение ("Ласточки" Майкова) я диктую ученикам Штейнгарта, он – моим. Большой камерный стол выдвинут на середину комнаты, и с него убрано все, что могло бы мешать экзамену: чашки, ложки, бачки, хлеб. Лица пишущих серьезны и степенны; одни, видимо, волнуются, другие имеют мрачный вид, но все хранят строгое молчание и только таинственно шепчут губами, повторяя про себя слова диктанта. Неграмотные зрители, напротив, шумно суетятся вокруг стола, кричат, толкаются, жестикулируют и даже переругиваются с противниками; желая всячески ободрить свою сторону, они только мешают ей криками и неуместными наставлениями.
– Наша камера, смотри не оплошай, не осрамись, – кричит один, – не то такие банки отрублю!..
– Ты, Егорка, знатче выводи гуквы-то, а то опять спор выйдет: ты говоришь – о, а Митрий Петрович говорит – а… Так чтобы без сумленья было!
– Нет, это что! – заявляет третий. – Своим банки не штука поставить. А вот ежели ваши ученики слабже наших окажутся, так мы и из камеры своей вон не выпустим: всем вам, собачьи дети, ложки отпустим: и ученикам и не ученикам! Не ходи на екзамент, не бахвалься!
Дружный хохот встречает это предложение.
– Ну да ведь и у вас брюхо-то есть. Еще неизвестно, кому ложки получать…
– Не согласен я, ребята, на банки, – вдруг отрывается от своей тетради мой неизменный ученик Луньков, – хоть бы Сохатого взять… Он, большой дурак, худо напишет, а я за него отвечай. Я за себя только, старики, отвечаю, ни за кого больше…
– Ах ты, трепач-мараказина! – огрызается на него Сохатый, – поглядим еще, кто больше ошибок наделает!
Штейнгарт сурово прекращает спор:
– Пишите, господа, я сорок раз повторять не стану:
Взгляну ль по привычке под крышу —
Пустое гнездо под окном.
Я вижу между тем, что дело Сохатого плохо; он озирается по сторонам, как травленый волк, и пялит глаза на тетрадки соседей; больше всего смущает его, по-видимому, окончание слова, "взгляну ль", которого он никак не может взять в толк. В это самое время ученики Штейнгарта, которым диктую я, успели уже дойти до стиха: "Как весел был труд их, как ловок".
– А ты чего же, Ногайцев, не пишешь? – спрашивает кто-то третьего из старых моих учеников.
Ногайцев лежит в углу камеры, прикрывшись сверху шубой, и не принимает в экзамене никакого участия.
– Брюхо болит, – отвечает он слабым, больным голосом.
– Скажи лучше, гайка заслабила, банок испужался?
– Не, в сам-деле болит…
Но вот диктовка наконец окончена. Учителя предлагают ученикам еще раз пересмотреть написанное.
– Чего тут смотреть, готово! – хвастливо восклицает Луньков и подает мне свою тетрадку, но многие другие, и в том числе Сохатый, долго еще сидят за столом, углубившись в свое писание и храня угрюмое молчание. Сохатый совсем притих и то и дело бросает на меня недоумевающие взгляды, словно ища помощи и защиты. Это не ускользает, конечно, от внимания публики, и она делает по его адресу ряд ядовитых замечаний. Наконец и Петин сердито свертывает тетрадку и, показав кому-то кулак, подает свою работу. Мы с Штейнгартом приступаем к просмотру диктантов, и тут в камере начинается невообразимое волнение, происходит страшная давка; ученики и зрители взлезают буквально на спины и на плечи один другому, каждому хочется хоть глазком посмотреть, что будут делать учителя. Даже и мы сами заражаемся общим волнением… Я не без чувства зависти замечаю огромные успехи, сделанные учениками Штейнгарта. Некоторые из них в самое короткое время научились отличать предлоги, стоящие перед именами существительными, от таких же предлогов, стоящих перед глаголами, и первые всегда пишут раздельно, а вторые слитно (для моих учеников различие это всегда составляло главный пункт преткновения). Один из пятерых учеников Штейнгарта, явившихся на экзамен, умудрился не сделать ни одной грубой ошибки даже в запятых (у нас заранее было самым точным образом условлено, какие именно ошибки считать грубыми и подчеркивать). Этот ученик был, впрочем, грамотным еще на воле, и я предлагал поэтому не допускать его на экзамен, но мои ученики из самолюбия не захотели его "отводить", хвастливо заявив, что в "дихтовке ни перед кем не сробеют". Теперь они должны были пожать плоды этого хвастовства. Из остальных учеников враждебной стороны у троих оказалось от десяти до двадцати грубых ошибок у каждого; пятый сделал всего лишь семь ошибок.
– Несправедливость! – закричал вдруг Сохатый, все время внимательно следивший за тем, как мы подчеркивали ошибки, и грозно засверкал своими телячьими глазами. – Явное попустительство!
– Где? Что такое?
– А вот, что тут у Милосердова написано? Нуль-то пропущен? Подчеркнуть надо! Потворствует Иван Николаевич Штейнгору!
– Какой нуль, где вы тут нуль нашли?
Сохатый молча тычет пальцем в слова "взгляну ль".
Мы с Штейнгартом весело смеемся, и вслед за нами все ученики, а затем и все зрители (неграмотные даже более грамотных) разражаются громовым хохотом. Сохатый сначала ошеломлен, потом переконфужен: он делает движение схватить со стола свою тетрадку, в которой у него, очевидно, красуется "взгля 0", но публика не дает ему этого сделать.
– Нет, шалишь, брат! Чужие ошибки считать лезешь – и за свои умей расплачиваться.
Сохатому пытаются скрутить руки, он рычит и отмахивается кулаками, поднимается невообразимый гвалт, драка; с трудом удается восстановить прежнюю тишину. Дело моих учеников оказывается безнадежно проигранным, и все благодаря тому же Сохатому: он один умудрился наделать в своем диктанте пятьдесят две грубых ошибки (хотя в другое время и в другом настроении мог бы написать вдвое и даже втрое лучше).
– Банки, банки отсекать! – раздается дикий вопль, и в начинающейся вслед за тем сумятице трудно даже разобрать, кто кому хочет ставить банки. Я и мои товарищи успели уже очутиться у дверей камеры – нас моментально оттерли от стола, и никакие наши уговоры и упреки уже не имеют ровно никакого значения, никто нас не слушает и даже не может слышать. Нам остается с грустью смотреть на происходящее побоище.
– Сохатому отрубайте! – кричат одни голоса.
– Всем! Всей камере! – вопят неистово другие. Посредине камеры на полу уже лежит, барахтаясь и кусаясь, маленький Луньков, красный, потный и разъяренный, а на нем сидят верхом несколько человек. Но вдруг на эту кучу налетает ватага других борцов: это человек десять арестантов, обхватив со всех сторон гиганта Петина, пытаются свалить его с ног. Запнувшись о лежащего на полу Лунькова и сидящих на нем палачей, вся эта ватага моментально летит вниз; одни тут же растягиваются во весь рост, другие кувырком летят в сторону. Освободившийся во время этого падения Сохатый быстрее всех вскакивает на ноги и, стрелой пробежав мимо нас, кидается вон из камеры…
– Лови его! Держи его! – слышится бешеный рев двадцати голосов, и вдогонку бежит несколько человек.
А в камере свалка между тем продолжается. В числе отвешивающих Лунькову "ложки", к удивлению своему, я замечаю и его сокамерника и товарища по учению Ногайцева, у которого перед тем "болело брюхо"…
Штейнгарт сердится.
– Никогда больше не стану устраивать экзаменов. Безобразием только всегда кончается… А сегодня еще слово мне дали, что все прилично будет!
Но вот раздается звонок на обед, и староста показывается из кухни с баландой в руках.
Все сразу затихает.
После обеда тюрьма поголовно спит мертвецким сном часа полтора и даже два. Редко кто из арестантов прошмыгнет по коридору, направляясь в кухню или больницу. Зато к вечеру все опять оживает. Везде пьют чай, ведут оживленные беседы, поют хором песни. Надзиратель, лишь изредка появится и попросит "потише драть глотку".
Однако что за необыкновенный шум происходит в четвертом номере? Туда вся тюрьма бежит, как на интересное зрелище, а выходящая оттуда кобылка заливается веселым смехом. Из камеры доносятся звуки балалайки и какой-то странный мотив неизвестной мне песни. Откуда могли взяться в тюрьме скрипка или балалайка?
– Что там такое? – спрашиваю я первого попавшегося навстречу арестанта.
– Это Чащин – чтоб его язвило – волынку с Михайлом Иванычем трет!
Михаило Иваныч – мой приятель Ногайцев, и я с любопытством захожу в камеру. Чащин – арестант, по общему признанию, не из "дешевых", да и на мой взгляд это человек недюжинного ума и силы. Он рецидивист, осужденный навечно, родом сибиряк, из той же знаменитой всякого рода фартовцами местности Енисейской губернии, откуда были и Семенов, и Гончаров с Ракитиным, и многое множество других шелайских обитателей. Роста он немного выше среднего, худощавый, жилистый, весь точно из стали вылитый, слывет первым силачом в тюрьме; на лишенном всякой растительности испитом лице лежит всегда печать солидности, но в серых умных глазах светится веселая ирония; за словом Чащин никогда не лезет в карман, и остроты его отличаются большой ядовитостью. В общем же, характер его не совсем для меня ясен.
Балалаечные звуки, оказалось, исходили из простой роговой гребенки и из собственных искусных губ Чащина. Степенный и важный, без тени усмешки на губах, он грузно приплясывает перед "Михаилом Ивановичем" и не перестает наигрывать свой странный – то веселый, то вдруг раздирательно-плаксивый мотив.
– Балаган ты, мой ба-а-а-лаган!.. – вырываются по временам из его груди хриплые, несколько гнусливые звуки, и их сопровождает взрыв веселого хохота публики.
Толстяк Ногайцев в шапке и в шубе сидит на краешке нар, молчаливо пыхтя, широко раздувая ноздри и, видимо, с каждой минутой все больше и больше свирепея. Но он еще сдерживается и хочет казаться в высшей степени равнодушным, для чего сам иногда смеется натянутым, неестественным смехом.
– Вот дурак-то! Вот дубина-то! – подает он пренебрежительные реплики, и, слыша их, кобылка пуще того веселеет.
– Б-бала-га-ан ты… – выделывает опять на губах Чащин, уморительно топчась на одном месте и все поглядывая на свою жертву; и Ногайцев все больше надувается, краснеет, пыхтит и наконец выпаливает:
– Остается только в кухню пойти да полено хорошее взять!..
Гомерический хохот заглушает эти негодующие слова. Чащин, конечно, не унимается.
– В чем тут у вас дело, господа? – подхожу я к своему приятелю, желая его поддержать.
– Да вот посмотри, Миколаич, на дурака, – с живостью обращается он ко мне, – посмотри, какие туесы у нас в Сибири на плечах растут! – И он указывает мне на Чащина.
– А это вот в чем дело, Иван Николаевич, – дает мне объяснение сам Чащин, – я пою ему, видите ли, песенку родную… Как челдон наш, сибирячок любезный, кверху брюхом в балагане лежит, когда пельменей напрется, и поет, знай: "Б-ба-ла-га-а…"
– Тьфу, скотина! – не выдержав, посылает ему плевок прямо в лицо вскипевший Ногайцев. Новый гром неистового смеха встречает эту его выходку. Но дальновидный Чащин вовремя успел заметить намерение Михаилы Ивановича: извернувшись как уж, он получил по своему адресу лишь несколько незначительных брызг слюны, весь же плевок пришелся как раз в самый рот стоявшему позади него одноглазому татарину Зулкарнаеву. Последний заплевался, заругался на своем гортанном наречии, а отскочивший прочь Чащин уже опять пиликает на гребенке и тянет бесконечно-монотонную песню лежащего кверху брюхом, объевшегося челдона. "Челдон" и сам, он бесподобно передает и комически преувеличивает манеры и интонацию сибиряка.
"Михаиле Иваныч", дав исход накопившемуся в нем гневу, уже опять сидит на нарах с деланной невозмутимостью и ждет нового представления. Я собираюсь уйти, видя здесь себя лишним. Но дверь внезапно отворяется, и на пороге показывается Штейнгарт.
Он уже слыхал, конечно, обо всем, что здесь происходит, хотя делает вид, что ничего не знает, – и кричит, не заходя в камеру:
– Ногайцев, не хотите ли прогуляться со мной? Ведь уж скоро поверка.
Ногайцев чрезвычайно обрадован этим неожиданным избавлением. Весь просиявший, он тотчас же встает с нар и идет, переваливаясь, к дверям, не обращая внимания на смех и тюканье кобылки. Только на пороге он на минуту останавливается и, оглянувшись на Чащина, с добродушной укоризной говорит:
– Ну, что взял, дурачок? Что взял?
Кобылка в последний раз разражается громоподобным хохотом, а Чащин берет на своей самодельной балалайке прощальный аккорд:
– Б-ба-ла…
Штейнгарт молча увлекает Ногайцева, и тот, плотнее закутываясь в шубу и комично перекидывая с боку на бок свое неуклюжее тело, поспешно выходит вслед за ним на тюремный двор. Зрелище окончено, кобылка весело расходится по своим местам. До вечерней поверки остается уже какой-нибудь час, и вот полтюрьмы высыпает на двор подышать свежим воздухом и поразмять застоявшиеся ноги. Большинство арестантов разгуливает в это время попарно; у каждого именно для этих прогулок раз навсегда заведен неизменный товарищ. В остальном, по-видимому, и нет между людьми особенной дружбы – живут в разных камерах, работают различную работу, а как только выйдут под вечер гулять, глядишь – и очутились вместе. И ходят, ходят, не уставая, кругом тюрьмы или больницы в глубоком молчании или обмениваясь незначительными фразами. Так, Чирок гуляет обыкновенно со Степкой Челдончиком, Сохатый – с общим старостой Годуновым, с которым в другое время постоянно ссорится и грызется, Луньков – с Мишкой Звездочетом, и т. д., и т. д. Ногайцев за последнее время, к общему удивлению, сильно сдружился со Штейнгартом и не отстает от него ни на шаг… Да и самому Штейнгарту, видимо, по сердцу пришлось общество почтенного Михаила Иваныча, так как он редко подходит во время прогулок ко мне или Башурову, и последнего обстоятельство это немало огорчает, Валерьян нередко даже беседует со мной на эту тему.
– Какой странный стал Дмитрий в последнее время! Он точно дичится нас с вами, а эта дружба его с Ногайцевым положительно на какую-то загадку походит…
– Он просто устал, – пытаюсь я защитить Штейнгарта, – в мирные времена каждый вправе жить так, как хочет, своей внутренней жизнью.
– Так-то оно так, – возражает Башуров, – но почему же нас вот с вами и теперь друг к дружке тянет, а не к какому-нибудь, положим, Карпушке Липатову?
Впрочем, и Валерьян, в сущности, отлично понимает, что все "странности", которые замечаются в последнее время в Штейнгарте, его молчаливость, нелюдимость с товарищами и мрачный, подавленный вид имеют, по всей вероятности, одну главную причину: вот уже около полугода, как он не имеет никаких известий о любимом человеке… Нас тоже тревожит временами это долгое, кажущееся непонятным отсутствие писем, и втайне мы сами строим всевозможные мрачные догадки, хотя и не высказываем их друг другу. Человек, лишенный свободы, лишенный всего дорогого ему на свете, одиноко страдающий вдали от родины, от близких ему людей, так мало склонен бывает объяснить их молчание какими-либо нормальными, естественными причинами: ему всегда грезятся болезни, смерть, забвение… Там, за стенами угрюмой тюрьмы, жизнь плетется себе обычной бледной колеей: разливаются реки, надолго задерживающие почту; точно назло, письма пропадают без всяких видимых причин или, еще проще, пишутся позже обыкновенного; но бедный узник ничего этого не знает и ходит мрачный как ночь, со смертью в душе…
Как велика была радость Штейнгарта, когда и его страхи оказались наконец напрасными и он сразу получил целый ряд славных, полных надежды, жизнерадостных писем. Вся его отчужденность мигом опять исчезла, и однажды, когда я вдвоем работал с ним в верхней шахте, а прочие арестанты ушли наверх пить чай, он уселся возле меня и, как в первую памятную ночь знакомства, оживленно, долго и с задушевной откровенностью рассказывал мне о своем недавнем душевном состоянии.
– Неужели вы не понимали, почему я сторонился от вас с Валерьяном? В ваших глазах я ловил постоянные вопросы: "Что с тобой? Не можем ли мы чем помочь тебе?" И это было так тяжело, так невыносимо тяжело… Когда от самого себя готов убежать и скрыться, то общество подобных еще меньше может удовлетворить. Ну, а вот какой-нибудь Ногайцев… Ах, это совсем другое дело! Поверите ли, Иван Николаевич, я только теперь научился ценить как следует эту простую, чуждую всяких хитрых затей душу. Если б вы знали, сколько нежной чуткости открыл я в сердце этого полузверя, убийцы трех человек! Раз вечером – как сейчас помню, перед поверкой – сижу я на завалинке под кухонным окном, в стороне от публики, смотрю – он прямо ко мне ковыляет, ухмыляется: "Чего затуманился, дружок? Аль уж все пути-дороженьки запали?" И я не сумею вам передать, как он это просто, как задушевно-просто сказал!.. У меня от этих слов по сердцу такая теплая волна прошла и в глазах все сразу просветлело… Неужто ж, подумал я, и в самом деле, все пути-дороженьки для меня запали? Разве человек, стоящий этого имени, исчерпывается одним каким-либо интересом, чувством? И если бы даже погибли все мои. личные привязанности и радости, то разве не, продолжала бы мне светить звезда идеала, которой я посвятил свою жизнь и свободу? К ней-то, во всяком уж случае, не запали пути-дороженьки!..
Так вот видите, – закончил Штейнгарт с радостной улыбкой, – какие сложные мысли и чувства разбудил во мне самый простой и немудрый вопрос нашего забавного, толстого увальня Михаила Иваныча… И с этого дня началась наша нежная дружба!