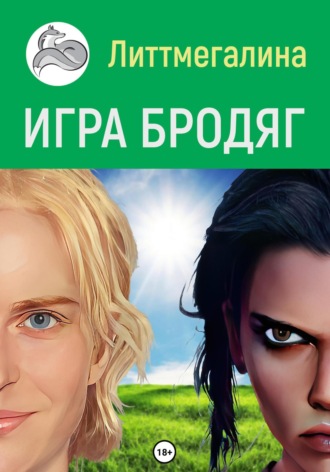
Литтмегалина
Игра Бродяг
Глава 18. Имя
В свои семь лет девочка не понимала многих вещей, но ей и не хотелось понимать. Достаточно было знать, что они означают.
Однажды утром, проснувшись, она увидела, что ее младшего брата нет в его кроватке. Все с кроватки было сброшено на пол, и, стоя на скомканном одеяле, она смотрела на голые доски. Она провела по доскам пальцами, ощутила, какие они занозистые, а затем вышла из дома и там нашла брата, лежащего на траве, завернутого в простыню. Девочка подумала, что теперь она – младшая, и стянула простыню, рассматривая брата. Он был синюшный и бледный, с круглым раздутым пузом (растянутая кожа казалась такой прозрачной и тонкой, что странно, как сквозь нее не просвечивали внутренности). Но ноги и руки очень тонкие. Лицо, обычно кривящееся в скорбной гримаске, теперь спокойно.
– Вот ты где, родная, – сказал отец, появившись из-за спины. – Не смотри.
Он прикрыл маленькое тело простыней, а затем обнял девочку и прижал к себе. На секунду она ощутила покой. Но затем отец отпустил ее и ушел.
Девочка снова бросила взгляд на тело, выпукло проступающее под простыней. Она знала, что означает «смерть», но совсем не понимала, что это. Как ощущают себя мертвые? Куда уходит их разум? Или он просто гаснет, как свеча? Брата ей не было жаль. Если б он умер раньше, когда они играли вместе, возясь и ползая по полу, оба черные от пылищи, девочка бы расстроилась (хотя, если бы все было как прежде, с чего бы ему вообще умирать?), но потом стало плохо, и еще хуже, и совсем невыносимо – так, как сейчас, и они уже не играли, только жались друг к другу, когда мать кричала на них из-за того, что они плакали.
Ее старшая сестра плакала вместе с ними. От материнских окриков сестра замолкала первой, после нее – младший брат, но девочка – средняя и самая настойчивая – выла, требовала, переводила дух и снова выла. Мать в конце концов не выдерживала и влепляла ей оплеуху, но девочка только принималась вопить громче, как бы ни клацали ее зубы, и могла продолжать так часами – пока, наконец, не получит кусок хлеба. Это был самый счастливый миг: вцепиться в хлеб зубами, не замечая голодных взглядов сестры и брата. Девочка заслужила этой пищи, она была упорной; если они ничего не сделали для того, чтобы получить еду, значит, они не хотели есть по-настоящему сильно.
Одна беда – с каждым разом девочке приходилось кричать дольше и громче, прежде чем мать, сходящая с ума от ее криков, сдастся. Порой голоса не хватало. Когда визг превращался в хрип, который не оказывал нужного воздействия, девочка начинала слоняться за матерью и сипло клянчить. Брат и сестра боялись ударов, но она – не смелая, но самая умная – понимала, что в материнском ударе нет ничего страшного, разве что немного боли, но в этой бездонной дыре в животе – сама смерть.
Она чувствовала присутствие смерти в доме и рассматривала ее, выходя на улицу; слушала то, что говорят о ней. Смерть – это кричащие всадники, это запах дыма и почерневшие деревья. Смерть там, за размытой линией горизонта, и здесь вблизи; на гладкой зеленой траве под сияющим небом, и во мраке под черным. Там, где вопли и плач, и там, где слишком тихо. Она научилась распознавать ее, но что такое смерть, она не поняла бы, даже если б ей объяснили. Ее старшая сестра понимала – она разглядела это в ее темных сухих глазах. Это понимание не покидало глаза сестры ни на секунду.
Девочка не походила на сестру. Она замечала больше: то, что трава зеленая и уже долго такая, а сестра, прямо как брат ранее, все бледнее и бледнее – и сама девочка, наверное, тоже. Но лучше пусть трава бледнеет и гибнет, а она остается жить.
Однако трава не осталась зеленой – в тот день, когда сестра умерла, трава на большом поле стала черной. Мать и отец плакали. Мать проклинала всадников с факелами, от которых они прятались в доме и боялись, что дом сожгут; отец молчал, накрыв голову руками. Девочка догадалась, что смерть сестры напрямую связана с всадниками, но что именно произошло, ей никто не объяснил.
Когда все притихло, и всадники с факелами ускакали, девочка пошла на выжженное поле и нашла на нем мышиное гнездо. Прежде гнездо держалось на колоске, но тот подломился, сгорая, и гнездо упало на землю. Оно было очень легкое, искусно сплетенное из травинок, походило на шарик. С одного бока шарик был подпорчен – его лизнул огонь. Разделив травинки, девочка отыскала внутри гнезда бездыханного, увядшего мышонка – крошечного, меньше ее мизинца. Она задумалась о том, где же мать мышонка. Пыталась ли мама-мышка прорваться к нему сквозь пылающую траву или же наоборот – удирала прочь, спасая себя? Второе показалось девочке более вероятным. Впрочем, она не сомневалась, что мышь в любом случае погибла от огня или дыма, как и ее мышонок. Ей не было жаль ни мыши, ни мышонка. Она разрыла пальцами землю, серую от пепла, словно седую, положила в маленькую ямку мышонка и накрыла его землей. Нарвала черных стеблей и накрыла ими крошечный холмик. На расстоянии десяти шагов она уже не смогла отыскать холмик взглядом. Но и сама она была не больше мышонка среди обожженной травы.
Она вернулась в дом и думала, сидя на полу в углу. Все время одно и то же: «Мышонок под землей. Мышонок под землей».
В ее сумеречной голове больше ничего не помещалось.
***
С тех пор, как это все началось, отец почти перестал появляться дома, блуждая где-то в попытке раздобыть еды или денег и отогнать слово «смерть», дымными завитками зависшее над их крышей. Поначалу его отсутствие ощущалось как зияющая брешь в жизни девочки, но постепенно она привыкла к одиночеству. Девочка не была нужна никому, и никто не был нужен ей. Она достигла бы состояния мертвого спокойствия, если б не голод, который терзал ее каждую секунду. Она попыталась есть траву, но такая еда ей совсем не подходила. Зато ей удалось отыскать сладковатые на вкус цветы. Они были мелкие, желтые, с глянцевыми лепестками. Если девочка видела такой цветок, то сразу его съедала. И вскоре в окрестностях не стало таких цветов.
Девочка никогда не забредала далеко – никто не предупреждал ее об опасностях, но о них было несложно догадаться самой. Вскоре ее маленький мирок, исхоженный вдоль и поперек, окончательно перестал вызывать интерес. Иногда девочке очень хотелось шагнуть за ту границу, что она сама себе начертила, но страх сдерживал ее, и со временем она перестала даже думать об этом. Она могла часами пинать один и тот же камень или, взобравшись на дерево, долго сидеть там, пока все тело не онемеет. Ей нравилось, что она так высоко – выше всех – и всех может видеть, но никто не может достать ее. И собаки тоже, которые всегда лаяли на нее, как будто она здесь чужая. Собак девочка боялась и не любила, поэтому всегда носила с собой камень.
Сидя на дереве, девочка частенько болтала сама с собой – разумеется, мысленно. Не стоит разговаривать с собой вслух, а то тебя начнут дразнить, прямо как того дурачка, пусть даже никто не мог и слова разобрать в его тихом невнятном бормотании. Он был старше ее, совсем взрослый, но никто не относился к нему как к взрослому. Почему-то его все ненавидели. Она часто видела, как мальчишки бросались в него камнями. Камни ударяли дурачка в голову и спину, но он только вскрикивал, не пытаясь дать сдачи. Наблюдая это, она думала: «Если бы так обращались со мной, я бы лучше умерла».
Однажды она попыталась заговорить с дурачком, но это было все равно как говорить со стенкой. Его неподвижные серые глаза просто отказывались видеть ее. Рассердившись, она пригрозила, что расскажет мальчишкам, где он прячется от них (она это знала, потому что частенько следила за дурачком с дерева), но дурачок словно не услышал ее и только закрыл глаза. И все-таки она никому не рассказала про его убежище. Если б она могла по щелчку пальца избавить дурачка от обид, то так бы и сделала. Тем более она не стала бы причинять ему вред. В то же время нечто в дурачке пугало ее, несмотря на всю его убогость. Она не догадывалась, что ощущает сходство с ним, именно этого сходства и боится – потому что это было то, из-за чего и она могла оказаться в узком промежутке между домами, закрывая руками окровавленную голову и не смея даже выть. Собаки лаяли на него, как и на нее. Они оба были здесь чужие.
Среди деревенских собак была одна большая, рыжая, по имени Лиса, которую девочка просто ненавидела, потому что при каждой встрече с Лисой ей приходилось спасаться бегством или отбиваться камнями. В тот день Лиса атаковала ее совершенно неожиданно – выскочила из-за угла, вцепилась в ногу. Девочка закричала от боли и испуга и побежала прочь от Лисы. Догоняя, Лиса все пыталась ухватить ее за щиколотку. Девочка схватила с дороги круглый массивный камень, который вчера сама же от нечего делать припинала сюда, и бросила в собаку. Взвизгнул, Лиса отступила. Пользуясь моментом, девочка бросилась к дереву и решилась оглянуться лишь тогда, когда прикоснулась к коре.
Лиса все еще оставалась там, где была, облизывая подбитую лапу. У девочки тоже текла кровь по ноге и, чувствуя боль укуса, она злилась все больше. Вокруг дерева было достаточно камней, которые она бросала в собак ранее. Прежде чем взобраться на дерево она захватила с собой несколько штук. Лиса устремилась к ней, слегка прихрамывая, но захлебываясь слюной от ярости. Девочка уже не боялась ее, чувствуя себя в безопасности на высокой ветви. Собака залаяла, прыгая под деревом, бессильная дотянутся до нее. Оранжевые глаза собаки были совершенно бессмысленными, ничего не выражали, кроме злости. Девочка кинула в собаку первый камень, второй, и у нее остался последний. Собака не уходила – ей так хотелось растерзать ненавистного ребенка, что она готова была терпеть боль.
Даже находясь на безопасной высоте, девочка ощутила отчаянье. Остался один камень. Вдруг эта проклятая Лиса окончательно обезумела? Так и прокараулит ее всю ночь, пока, ослабевшая, она не рухнет на землю. Тут-то в нее и вонзятся желтые клыки. Значит, просто необходимо попасть. Тщательно прицелившись, девочка с силой метнула в собаку последний камень.
Камень ударил Лису по рыжей макушке, где-то между ушами, и, коротко всхлипнув, собака вдруг завалилась на правый бок. Замерев на ветке, девочка недоверчиво посмотрела вниз. Собака не поднималась. Ее лапы вытянулись. Некоторое время девочка просидела на ветке, устремив на собаку застывший, как у того дурачка, взгляд. Вот сейчас спустишься, а Лиса сразу вскочит и вцепится. Она злобная, хитрая зверюга. Но собака лежала совершенно неподвижно. Ее рыжая шерсть блестела на солнце. Не знай девочка, что Лиса – редкостно злобная тварь, то даже сочла бы ее красивой. Она всматривалась – не вздымаются ли бока, все еще не способная поверить в то, что действительно убила. Но бока не вздымались.
Девочка очень осторожно, беззвучно слезла с дерева. Осмотрев собаку поближе, она убедилась, то та мертва, отчего ей стало настолько неуютно и неприятно, что захотелось сразу же забыть о произошедшем. Плетясь домой, она припомнила, что у Лисы есть хозяин – угрюмый, вечно сердитый мужик. Его никогда не заботило, что его псина третирует детей, но теперь-то, увидев свою питомицу дохлой посреди улицы, он наверняка возмутится. Все в деревне знают, как любит девочка сидеть на этом дереве. Если убитую собаку найдут под ним, легко будет догадаться, кто это сделал. Необходимо ее спрятать. Осознав это, девочка повернула обратно. Колени у нее слегка дрожали.
Лиса лежала все так же – лапы вытянуты, шерсть блестит под солнцем. Мертва. По-настоящему. Как легко все получилось.
Чуть дальше был маленький овражек, заросший травой. Можно спрятать Лису там… Девочка взяла собаку за лапы, но сразу отпустила ее и отшатнулась. Но нет, Лиса больше не укусит, – вон сколько крови уже натекло. Девочка снова ухватила собаку и потащила ее. Собака была тяжелой, почти такой же тяжелой, как совесть той, которая ее прикончила.
Стараясь не смотреть на кровь, подсыхающую на медно-рыжей шерсти, девочка принялась говорить с собой. Разве собака не загнала ее на дерево, не хотела растерзать ее? Ей пришлось защищаться. Лиса сама виновата, что так закончила. Ведь так? Так?
Она выдохлась. Ее глаза щипало, но у нее не было времени плакать, нужно все сделать быстро, пока никто не увидел. Она подтащила тело собаки к краю обрыва и столкнула его вниз. Упав в высокую траву, собака скрылась из виду. Девочка выдохнула, затем всхлипнула. К тому времени, как она добралась дома, слезы бурлили в горле.
Распахнув дверь, она увидела отца. Это было неожиданно – на тот момент девочка не видела его уже несколько недель. Отец выглядел грязным, еще больше исхудавшим и весь зарос щетиной.
– Что случилось? – спросил он, едва глянув на девочку.
Девочка села на пол и заплакала. Плакала она крайне редко – даже когда она кричала и требовала еды, ее глаза оставались сухими, как пустыни. Сейчас с непривычки она начала захлебываться слезами. Отец подхватил девочку и, усевшись на их единственный шаткий стул, пристроил ее у себя на коленях. Она рассказала ему про Лису, про все.
– Иногда хорошие люди совершают ужасные вещи, борясь за что-то очень важное для них… например, за свою жизнь, – сказал отец, выслушав.
– Разве это не делает нас тоже ужасными?
Отец помолчал.
– Все гораздо сложнее, – наконец сказал он.
Она решила, что отец сам не знает, что и как, но это неважно. Она закрыла глаза и прижалась к его груди. Она еще помнила, каким веселым и добрым он был когда-то.
Ночью ее разбудила перебранка родителей. Голос матери звучал истерично, злобно. Впрочем, это было обычное для нее дело – она обладала нервным, неровным характером и вспыхивала легко, как промасленная тряпка. В деревне все винили на ее дурную кровь. Ее кожа была смуглой, как жженый сахар, а волосы черными, как уголь. Отец притащил ее откуда-то издалека. Никто из троих детей не взял его светлой кожи, светлых рыжеватых волос и серо-зеленых нарвулианских глаз.
– Мы едим хлеб из шелухи! – выкрикнула мать отчаянным шепотом. – Мы стали как цыплята, нам дорого каждое зернышко. Проклятье!
Отец что-то ответил, но слишком тихо, чтобы разобрать, что именно.
– У нас нет еды для нее, – продолжила мать. – Мы должны что-то сделать. Оборвать это страдание.
Возражающий голос отца.
– Она в любом случае умрет. Ты видел ее ноги? А руки?!
Молчание в ответ.
– Нет! – зарыдала мать. – Я не хочу наблюдать это снова! Это медленное, невыносимое угасание…
– Не умножай зло, – произнес отец, и в этот раз его голос прозвучал внятно.
– Зло? – выкрикнула мать. – В этом мире не осталось добра или зла. Одно страдание!
И затем они оба умолкли.
Час спустя девочка все еще не могла уснуть. Беззвучно, в полной темноте, она перебралась на не застеленную кроватку умершего брата. Кровать была ей мала, и, чтобы уместиться, девочка свернулась клубочком. Она закрыла глаза, наконец-то забывая услышанное и нестерпимый золотистый блеск на собачьей шкуре.
Вскоре ее разбудил отец. Стояла темень. Рассвет только подкрадывался.
– Просыпайся. Мы должны идти, – голос отца звучал непривычно глухо, и вместо того, чтобы подчиниться, девочка вжалась в жесткое, занозистое дно кровати.
Отец вытащил ее из кровати и поставил на ноги. Девочка посмотрела на него снизу-вверх – растерянно хлопающая ресницами, сонная, не понимающая, что происходит. Ей не понравилось виноватое выражение отцовских глаз и сам он ей тоже сейчас не понравился. Он казался чужим человеком.
– Куда идти?
– Просто… идти, – потупился отец.
– Отправляйся с отцом, – строго приказала мать, мелькнув за его спиной.
Девочке захотелось вцепиться в спинку кровати так, чтобы ее никто не мог оторвать, и кричать, пока они оба не оглохнут, но все затмило воспоминание: шерсть собаки, сияющая на солнце.
Отец сжал ее руку (девочке было больно, но она ничего не сказала; она как будто онемела), и они вышли из дома. Мать смотрела им вслед – думала ли она о том, как будет сожалеть о содеянном, или же о том, что скоро избавится от лишнего рта?
Девочка едва перебирала ногами и остановилась бы совсем, если бы отец не тащил ее за руку. На длинной улице они увидели лишь двух собак. Те только подняли головы посмотреть на них. При отце собаки не посмели ее облаять.
Девочка все молчала.
– Почему ты такая грустная? – спросил отец. – У тебя что-то болит? Голова? Ногу натерла?
Девочка угрюмо мотнула головой. Нет.
– Мы пойдем погулять в лесу. Ты всегда хотела увидеть лес, – отец был готов говорить что угодно, лишь бы между ними не было так тихо. Считать листья на деревьях.
Солнце медленно поднималось. Тяжелый, истекающим красным огнем шар. Они вышли из деревни. Отец все еще говорил что-то. Девочка ненавидела каждое его слово. Они прошли мимо дерева. Впереди был маленький овражек.
– Папа, – сказала она, – ты собираешься убить меня?
Он дернулся и отпустил ее руку.
– Нет, конечно, нет, – пробормотал он. – Почему ты подумала такое?
Затем девочка увидела в его глазах опасение: «Она же может убежать». Он снова уцепил ее за руку, на этот раз крепче.
Но девочка не стала бы убегать, так же, как Лиса не стала.
– Мы перейдем реку и там, за рекой, будет лес. Только перейдем реку.
Далее молчали оба. Девочке было уже все равно, как оно закончится, лишь бы закончилось поскорее. Они остановились на мосту, над рекой, которая в то время показалась ей огромной и дикой. Было неприятно стоять на узком мостике, раскачивающемся, вздрагивающем, готовым в любой момент рухнуть, как вся ее жизнь.
«Чего мы ждем?» Она посмотрела на отца, почувствовав его пристальный взгляд.
Ветер шевелил их волосы. Его – светлые, ее – черные как уголь. Как будто родства нет и никогда не было.
– Сначала я намеревался просто увести тебя, – сказал отец. – Так далеко, чтобы ты не нашла дорогу обратно. Но я не могу оставить тебя одну в этом ужасном мире.
Она должна была почувствовать радость, но не почувствовала. Отец шагнул к ней. Она попятилась. Мост покачнулся, напомнив, что позади – только вода. Тогда ей стало по-настоящему страшно.
– Не могу оставить тебя…
Ее рот открылся, чтобы закричать, но в следующий миг в него хлынула речная вода. Она захлебнулась и закашлялась, пытаясь подняться к поверхности. Не умея плавать, она барахталась, выныривала, снова уходила под воду и опять поднималась к поверхности, жадно глотая воздух. Но ее силы иссякали очень быстро.
Ее отец сверху наблюдал за ней сквозь мутные линзы речной воды и слёз. Он не мог уйти, не убедившись прежде, что она не осталась.
Когда девочка исчезла под водой и на этот раз не появилась, он выждал еще некоторое время. А потом, шаркая ногами, поплелся обратно к дому.
***
Это был крошечный островок, заросший камышом. Она сидела на мягкой размокшей земле, прижав к груди колени и сгорбившись. Ее кожа посинела от холода, мокрые волосы походили на водоросли. Она была такой маленькой и все же недостаточно маленькой. Лучше б ей вовсе исчезнуть. На небе еще мерцала последняя огненная полоса.
Она сидела, дрожала, не плакала, не знала, как ей пересечь эту воду и добраться до берега, не помнила ничего из того, что с ней случилось, не помнила своего имени. Эхо.
Глава 19. Растерянные сны
Вокруг была река. Она потерялась в ней и в своих воспоминаниях, и воде растворялись крупицы горькой соли из ее слез. Вогт спас ее в очередной раз. Эхо успокоилась, едва почувствовав его руки. Он поднял ее из воды и вытащил на берег.
Эхо плакала навзрыд. Вогтоус положил ее вниз лицом на траву, приподнял за плечи и встряхнул. Изо рта у нее вылилась целая река. Вогт обнял ее и прижал к себе, согревая.
– Тихо, – сказал он. – Тихо. Прошло.
Эхо чувствовала себя так, как будто горе никогда не отпустит ее. Не исчезнет, останется навсегда, подобно шрамам на коже. Вокруг нее было темно, словно она еще оставалась под водой, но теперь, когда она ощущала тепло кожи Вогта, светлело.
– Дурные воспоминания – как тучи. Порой заслоняют свет весь день, но однажды все равно уйдут, – сказал Вогт. – А я никогда не уйду. Я навсегда останусь с тобой.
«И ты никогда не столкнешь меня в воду, – подумала Эхо. – Как сделал мой отец…»
Вогт подслушал ее мысли.
– Он пытался избавить тебя от страданий.
– И заставил меня страдать! – выкрикнула Эхо, закрыв лицо руками.
– И все же он не хотел причинять тебе зло. Им управляла жалость.
– Будь проклята его жалость! – с горечью сказала Эхо. – Он не имел права убивать меня!
– Не имел, – согласился Вогт. – Он был в отчаянье, видел вокруг себя только плохое, хотел спасти тебя от мрачной действительности. Но в мире существуют не только плохие вещи. И, столкнув тебя в воду, он чуть было не лишил тебя шанса на что-то хорошее.
– Я всегда буду ненавидеть его за то, что он сделал. И мать… она все это затеяла!
– И все же я не думаю, что они были плохими людьми, хотя и пошли на плохой поступок. Наблюдая гибель твоей сестры и брата, ожидая твоей гибели, они испытали такую боль, что впали в безумие. Но эта боль не была бы так сильна, если бы они не любили своих детей, каждого из вас. Сейчас ты злишься на них, и ты имеешь на это право. Ненавидь их насколько сердца хватает. Но знай, что это не навсегда, и однажды ненависть утихнет. Ты испытаешь к родителям сочувствие.
Ей хотелось ответить «нет», но она ответила:
– Наверное.
Вогт принес плащ и укрыл ее. Щеки Эхо еще не успели высохнуть, но слезы по ним уже не текли. Она перечислила себе то, чего никогда не случилось бы, если б в то утро вода поглотила ее: она бы не пережила насилие и муки, никогда не встретилась бы с Вогтом, не ввязалась бы в Игру, которую совсем не понимает, никогда бы не услышала о Стране Прозрачных Листьев. Дикая мешанина прекрасного и ужасного. Она задрожала.
– Тебе все еще холодно? – спросил Вогт.
– Нет, – сказала Эхо и все-таки снова заплакала. Она чувствовала себя такой же растерянной, как ребенок на камышовом острове, но на этот раз была не одна. Все изменилось. И все же она пробормотала: – Мне действительно стоило все это вспомнить?
Вогт погладил ее по голове.
– Ветелий однажды сказал мне: то, что мы помним, является нашим прошлым. Но то, что мы настойчиво вытесняем из памяти – всегда наше настоящее.
Эхо закрыла глаза и съежилась под зеленым плащом. Она хотела понять, что чувствует. Ее мысли потекли рекой и дальше слились с морем.
И все-таки это немного странно – вновь обрести горькую историю, разрозненные строчки которой год за годом мелькали в ее спутанных снах, оставляющих растерянность.
***
– Что там? – спросила Эхо, отчаянно моргая – дождь и расстояние мешали ей хоть что-то высмотреть.
Они стояли на вершине холма, чувствуя себя неуверенно здесь, открытые любому взгляду.
– Деревушка, – сказал Вогт, у которого зрение было получше. – А далее цепочка скал.
Он оглянулся на Эхо. Вопрошающее выражение их лиц было совершенно одинаковым.
– Думаешь, это наше последнее приключение? – спросил Вогт.
Эхо пожала плечами. Идти вперед, пусть даже к последнему приключению, ей не очень-то хотелось.
– У меня снова какие-то гадкие предчувствия…
– Но ты же со мной.
– Да, – сказала Эхо и взяла его за руку. – Тогда идем. К завтрашнему дню доберемся.
Той ночью она заснула в объятиях Вогта, убаюканная любовью и постукиванием дождя по листьям. Дождь уберег их от Восьмерки, но не спас от тревожных снов.
***
– Вогт? – позвала Эхо.
Он не откликнулся, взгляд устремлен ей за спину. Это был еще прежний Вогт – кроткие наивные глаза, в очертаниях пухлых губ еще не появилась твердость. Он был куда пухлее, чем в настоящем, и его волосы были короче. «Это сон», – догадалась Эхо. Но если это сон, почему все кажется настолько настоящим? Ее пугали тяжелые черные тучи, похожие на большие валуны. Не верилось, что они разойдутся когда-нибудь. «Такое уже было», – вспомнила она и, оглянувшись, увидела Наёмницу.
Эхо удивленно попятилась. В какой-то миг ей показалось, что Наёмница вернулась, чтобы занять ее место, и она напомнила себе, что просто видит Наёмницу во сне.
– Вот что, – сказала Наёмница, сплюнув в траву. – Мне (…), что там произошло и кем ты, (…), себя считаешь. Я ухожу. Понял?
«Мне стоило следить за речью, – подумала Эхо. – Определенно стоило».
– Почему? – безнадежно осведомился Вогт.
– Потому что, (…), – отрезала Наёмница.
Эхо не могла остановить Наёмницу, не могла докричаться до нее, даже если бы заорала во всю глотку – ведь это было прошлое, в котором события уже произошли, их невозможно переиначить.
Наёмница ругалась и плевалась. Она выглядела отвратительно и жалко одновременно. Слабая, притворяющаяся сильной. Ее нервы окончательно сдали, и она побежала.
– Стой! – выкрикнула Эхо одновременно с Вогтом.
Вогт пропал, пейзаж вокруг сменился, осталась только Наёмница. Спотыкаясь, она брела через лес. Эхо последовала за ней. Наконец отделавшись от Вогта, радости Наёмница не чувствовала. Напротив – ее лицо было угрюмое и злое.
Среди деревьев мелькнуло нечто яркое. Наёмница смотрела себе под ноги, злобно пиная камни и корни деревьев, и ничего не увидела. В следующий момент кочевники окружили ее. Их черные лоснящиеся кони походили на злых демонов. Наёмница закричала. Кривой меч блеснул, и Эхо зажмурилась. Голова Наёмницы упала в траву, разливая красную жидкость, как опрокинутый кувшин с вином.
***
Тем временем Вогтоусу тоже снился сон…
Позади него был высокий утес. Впереди расстилалась трава, такая шелковистая и мягкая, какой она бывает лишь до тех пор, пока обжигающий летний зной не коснется ее. Далее виднелась роща, расцвеченная солнцем.
– Эхо! – позвал Вогт.
Она пока не откликнулась, но синее небо, все в золотых лучах, убеждало его: все прекрасно, нет повода переживать. Вогт чувствовал, что в этом сне исполняется его мечта.
***
Теперь Эхо перенеслась на грязную улочку Города Рабов. Ее ноздри неохотно втянули городскую вонь, но запах был приглушенным, размытым, не таким одуряюще-острым, каким был в настоящем. Чуть впереди нее стояла Наёмница. Наёмница тяжело дышала после бега, и волосы ее топорщились, жесткие, как солома.
– Проклятье, – пробормотала Наёмница. – Нас повесят за такое. Это ты втянул меня в это дерьмо, тупица. И я… – Наёмница оглянулась. – Эй, где ты?
Вогт отстал – в отличие от тощей Наёмницы, ему приходилось тащить не только кости. Наёмница подождала его с полминуты, но он так и не объявился.
– Ну где же ты, придурок? Не думай, что ты мне нужен, однако же не смей сматываться в такой момент! – выкрикнула Наёмница. В ее голосе звучала бравада, вот только лицо выражало другое.
Выждав еще немного – опять-таки безрезультатно, Наёмница побрела вниз по улице.
– Ты тут сдохнешь без меня, – неуверенно пообещала она, и Эхо почувствовала ее страх, комком подступающий к горлу.
Наёмница медлила, убеждая себя, что с Вогтом все в порядке. А если и не в порядке – то какое ей дело? В какой-то момент она не выдержала и побежала обратно.
Она вылетела на площадь и сразу заприметила блеск белобрысых волос Вогта, мелькнувших среди бритых головенок рабов.
– Вот засранец! – пробормотала она. – Я ведь сказала: не приближайся к ним!
На первый мимолетный взгляд казалось, что рабы просто собрались вокруг Вогта чтобы поблагодарить его за только что обретенную свободу. Но затем Вогт качнулся и рухнул на колени.
– Эй! – закричала Наёмница. – Прочь от него!
Рабы бросились врассыпную. Им следовало торопиться; вдруг, прежде чем их отловят, они успеют найти еще какое-нибудь развлечение. Вогт же остался лежать. Наёмница подошла и наклонилась к нему. Вогт был мертв – его задушили веревкой. Шеи богов так же уязвимы, как человеческие.
«Что все это означает? – подумала Эхо. – Что?»
Она побежала прочь, оставив всхлипывающую Наёмницу, склонившуюся над Вогтом, и вдруг грязь под ее ногами снова превратилась в траву, а ее лицо обжег холодный ночной ветер.
Эхо различила Наёмницу и Вогта среди смутных фигур. Они походили на Восьмерку, но это был лишь маленький отряд, остановившийся поздороваться с Вогтоусом и Наёмницей по пути к одной резне от другой.
– Хватит! – закричала Эхо, падая на колени и закрывая лицо руками. – Я не хочу это видеть! Заберите меня отсюда!
Прохладные пальцы обхватили ее плечо, и все исчезло.
***
Где же Эхо? Минуты шли, и Вогтоус начал ощущать беспокойство. Синее небо убеждало его, что мечта исполнилась, но мечта перестала быть важной для него, когда Эхо исчезла.
Может быть, она где-то там, за деревьями?
Вогтоус побежал к роще. Он бежал под уклон и с разбега подпрыгивал, как заяц. Это были совсем необычные деревья. Солнечные лучи легко проходили сквозь их зеленые кроны, словно и вовсе не встречая препятствия.
Вогт замедлился. Его рот открылся сам собой.
***
Было сложно сказать, где она находится. В безвременье, в нигде, в чем-то, не заполненным ничем, кроме мерцающей серой дымки. Эхо сделала шаг, другой и, только приблизившись почти вплотную, смогла рассмотреть стоящего спиной к ней человека. Он был облачен в серую тюремную одежду. Эхо узнала его и еще до того, как он развернулся к ней, догадалась: он улыбается.
– В этом месте еще ничего не придумали, оно пусто, – погасив улыбку, сказал Человек Игры. Его глаза плавно, почти неуловимо меняли цвет. – Потому-то я его и выбрал. Ничейная территория – ни моя, ни твоя, ни… кого-нибудь другого.
– Что это было? – спросила Эхо. – То, что я видела? Гибель Вогта? Моя собственная гибель? Значит ли это, что мы… – она запнулась, не решаясь произнести слово «мертвы».
Человек Игры усмехнулся.
– Нет.
Эхо облегченно выдохнула.
– Это означает, – продолжил Человек Игры, – что у вас было несколько попыток. Тебе было продемонстрировано, что именно в нескольких из них пошло не так.
– Было? – уточнила Эхо.
– Именно. Попытки закончились. На этот раз если вы умрете, то уже не сможете попытаться еще раз. Неважно, кто чаще был неосторожен, кто реже. Запомни главное: теперь каждое ваше решение – финальное, – Человек Игры посмотрел на Эхо. Его глаза стали темно-серыми. – Вам двоим происходящее кажется последовательным и непрерывным. Но, что я наблюдаю со стороны, сильно отличается от того, что вы видите изнутри.
– Что ж, теперь понятно, куда пропадали фрагменты времени, – пробормотала Эхо, растерянно потерев лоб. – Хоть мне и неприятно, что, едва я припомнила свое прошлое, так сразу выяснилось, что моя память зияет в других местах.
– Поверь мне, это к лучшему, – пожал плечами Человек Игры. – Там такое было… Рассказать кому – неделю от ужаса глаз не сомкнет.
– Хм, – приподняла брови Эхо. – Я заинтригована. И в недоумении: с чего бы это Игра была к нам настолько снисходительна, что давала возможность снова и снова начинать сначала?
– Просто это Игра, – пожал плечами ее собеседник, – и это один из ее законов. Кто бы стал играть в игры, где ему не простят ни одной ошибки? Есть те, кто понимает это особенно хорошо.





