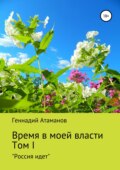Геннадий Иванович Атаманов
Время в моей власти
– Барбековать сегодня будем! – провозглашал Прохор Григорьевич, и мы барбековали – жарили барбекю.
Прямо перед входом в дом стоял большой, сколоченный из досок стол, с такими же скамейками – на любую компанию хватало. В огромной таре мариновалось мясо, ставились на стол полу-галлоновые бутылки канадского виски, да еще кока-кола, для разбавки. Вина не было вообще никогда, а пиво – так, мелькнет иногда баночка. Дымила жаровня, шкворчало мясо: барбекю. Это, как и в России шашлыки – целое действо, а не просто еда! Общение, разговоры.
Общался я в основном с людьми, которым было уже за 60. Крепкие, энергичные, какие-то очень устойчивые, основательные люди. В большинстве крупные – цвет русской нации! И выпить молодцы, и в этом устойчивы, хотя и предпочитают всем напиткам виски. Не курят – разумеется!
Русская компания здесь, в России, отличается от орегонской – аляскинской прямо-таки разительно. Самое главное отличие – мат, мат, мат, за каждым словом мат, надо и не надо – мат. Понятия не имеют, что это – грех. Что касается количества выпитого, то пили мы в Орегоне, пожалуй, побольше нашего… Но при этом не было цели именно выпить, напиться! Пили через какой-то интервал, закусывали – и разговаривали. Никто не клевал носом, не раскисал – и даже не облокачивался на стол! Всегда – прямая спина, ясный, пусть и хмельной, взгляд, твердая речь и походка. А ведь это – самые простые люди, не имеющие никакого понятия о «правилах приличия», «поведения в обществе», «умении держать себя»… Ведут и держат себя так, как это делали их отцы, деды и прадеды.
И еще: даже если разговор шел о каких-то проблемах, то никогда никакой безнадёги, горестного махания рукой – пропади оно всё пропадом… Ну вот пожалуйста: во время нашей гулянки позвонили по мобильному телефону из комиссионного магазина, позвонили русскому румыну, который еще ни бе ни ме по-английски. Переговоры пришлось вести орегонцу – и он всё убеждал и убеждал продавцов снизить цену.
– Вы понимаете – у человека совсем машины нет?! И денег нет.
В итоге сторговал машину за смешную цену. И мы радостно отметили такое событие. Была проблема – и нет проблемы. И так – во всем.
А какое барбекю устроил Кирилл Васильевич Бабаев в честь моего дня рождения?! Гостей собралось много, и женщин много, так что всё – чинно-степенно, и виски – не из пластиковой бутылки, а из красивой, фигурной, стеклянной. Сам же Кирилл Васильевич за стол почти не садился: так, подсядет на минуту – и опять к жаровне. Смотрю я сейчас на фотографии с того дня рождения – Боже, какая благодать! Широкая лужайка, красивый дом, яркий цветник, гости в русских нарядах за столом, Евдокия Тарасьевна что-то на блюде подносит – и Кирилл Васильевич у жаровни орудует… Хорошо.

Все помнится хорошо, и несколько особняком в этом калейдоскопе воспоминаний находится у меня поездка в Калифорнию с Перфилом Тораном. Как-то вечером он мне говорит:
– Я завтра еду по делам в Калифорнию – поехали со мной, тебе же, наверное, интересно посмотреть…
Раным-рано, часа в 4, мы с Перфилом и двинулись в путь. Подъехали к банкомату, установленному в бетонной глыбе, на перекрестке дорог, едва ли не в чистом поле, сняли деньги. Это мне уж совсем в диковинку.
– А если на тракторе своротит кто-нибудь – и деньги украдет?!
– Не успеет своротить, как полиция приедет, – сказал Перфил, укладывая доллары в бумажник.
Подъехали мы к магазину, закупили чего надо в путь, а также ящик пива на дорожку – поставили его в ноги. Позавтракали в нашем микроавтобусе, за столиком: кофе, бутерброды. Стояла у нас и бутылка ликера «Южный отдых». Нет-нет, не подумайте, с утра до вечера орегонцы не хлещут! То виски, то ликер… Это ради гостя, ради гостя. Хотя, вообще-то, западную привычку пропустить глоток средь бела дня, да без закуски, они приобрели…
К ликеру Перфил начал нарезать… ветчину. Я удивился.
– А чем же закусывать надо?
– Ну, фруктами, шоколадом…
Сходили еще за фруктами и шоколадом.
Ликеру хозяин налил и мне – и себе. Я опять удивился: а ничего, что за рулем? Вдруг полиция остановит?
– А с чего она остановит? Я же не поеду вот так, – он сделал рукой зигзаги.
Ну, поехали. Да с каким ветерком поехали: Панамериканское шоссе – скорость, широта, простор! Равнина – и гладь океана. А потом пошли горы – невысокие, поросшие лесом. Похожие на Алтайские… Однако – северная Калифорния. Я даже гигантские секвойи увидел, и даже в местный музей мы зашли.
А дело, по которому Перфил сюда поехал – такое: по горам растет смешанный хвойно-лиственный лес, хвойный – нужен, лиственный – не нужен, однако лиственные деревья растут быстрее хвойных, заглушают, мешают – их нужно спиливать, чем и занимается бригада все тех же мексиканцев, вооруженных мотопилами. Перфил взял у фирмы подряд на расчистку леса – нанял мексиканцев. Я их видел, общался с ними: невысокие, худощавые, робкого вида мужички.
Заехали мы с Перфилом в контору фирмы, он пошел к хозяевам, а я остался ждать в машине. Вышел мой друг оттуда озабоченно-озадаченный:
– Недовольны, что нанял мексиканцев – почему не русских? А где я их найду? Русские взяли по пятьдесят тысяч долларов на Аляске, и сейчас на Багамах да на Гавайях!
Пошли мы с Перфилом посмотреть, как идут дела у мексиканцев. Ничего, нормально, дело-то не особо мудреное, сложное или тяжелое, кустарник опиливать – это ж не лесоповал. Так что мы спокойно двинулись осматривать местные виды: лес, речушку, бегущую по камешкам. На дороге обнаружили большую кучу ягодных косточек.
– Медведь наложил, – пояснил мой спутник.
Самого медведя мы, слава Богу, не встретили, и вернулись к вагончикам мексиканцев, которые охранял пёс на цепи, изнывающий от скуки – он явно нам обрадовался. Я сел перед ним на корточки, посмотрел в добрые глаза, погладил-потрепал его:
– Ах, морда твоя, морда… калифорнийская!..
Переночевали мы, и двинулись в обратный путь, который мне запомнился купанием в океане – я попросил Перфила остановиться: как же не отметиться! Было мелко, вода холодная, волна большая, но я все же залез – искупнулся в Тихом океане.
После Калифорнии мы начали помаленьку подсобирываться в обратный путь. А вообще в Америке мы пробыли ровно 50 дней! И для нашего, и для советского времени – дело невероятное, притом я даже не пытался звонить на работу: человека, улетевшего на другую планету, не уволят. Так оно и случилось…
Чемоданы свои мы паковали долго, сто раз всё укладывая и перекладывая: народ продолжал и продолжал приносить подарки – в том числе громадные чемоданы. Вон они, стоят на антресолях. Память… А главная память – вышитые рубахи-косоворотки, яркие тканые пояса, блестящие платья-талички.
Накануне отъезда я ночью вышел на крыльцо, во двор, посидел, глядя на звезды, за столом, вспоминая наши «барбекования», встречи, разговоры… Неподалеку шумела свадьба – и звонкие девичьи голоса распевали советскую песню «Катюша»! Мелодичная песня – весь мир любит.
Прощай, Орегон, прощай, поселок Вифлеем!

***
Тем же маршрутом, на автобусе, двинулись в обратный путь, в Нью-Йорк. Теперь у нас уже были адреса, где можно остановиться, переночевать. Быть в Нью-Йорке – да не погулять по нему хотя бы несколько дней?! Этого не поняли бы даже те, кто нас увольнял бы с работы. Как писал один известный советский диссидент:
– Да не собирался я никуда сбегать! Я просто доехал до Парижа и побродил по нему несколько дней…
Такие же планы и у меня насчет Нью-Йорка. Только у меня в кармане был авиабилет с открытой датой вылета: вот нагуляюсь и пойду заполнять эту дату. А пока – в Нью-Йорк! Позвонили по адресам , и приехали на один из них. Евреи, молодежь, а также их родители, недавно уехавшие из Советского Союза. Молодежь, совершая автопробег по Америке, заезжала к русским на Аляске – отсюда и знакомство, адреса. Приняли нас радушно, в разговоре – полное взаимопонимание… До тех пор, пока не затрагиваешь серьезные темы – любые. Тут – стоп! Полная противоположность во всем. Да я и не затрагивал… Даже когда мне вскользь обронили: их там не очень-то любят… Их – это русских на Аляске. Хотя, понятно – это мысли самих новых американцев: зачем косоворотки, церкви, молитвы? В Америке-то, свободной стране! Мучают себя как при царском режиме. Впрочем, это сейчас я понимаю что к чему, пройдя через «демократическую революцию», а тогда я был еще вполне советским, сибирским человеком.
Затронул я эту тему – и сижу, в который раз сокрушаюсь: какая же это беда, что мы уже почти сто лет барахтаемся в «демократии»: то в левой – коммунизме, то в правой – либерализме… Снова и снова позволяя водить себя за нос. А нужна власть православных людей: умных, честных, справедливых, понимающих, что такое Добро, и что такое – Зло. И выбирающих Добро – самым естественным образом.

Ну, а пока – в город Желтого Дьявола, в каменные джунгли. Есть у Нью-Йорка и другое название, символ – Большое Яблоко. Город мне понравился, а потому я принимаю Яблоко! Рассмотрел, распробовал я это Яблоко неплохо. Хотелось бы еще получше, но все-таки распробовал. Желтый Дьявол? Ну, это, в общем-то, пустяки. Каждый из нас находит свое место, свое дело в жизни, при этом каждый знает: с деньгами лучше, чем без денег. Каменные джунгли? Да нет каменных джунглей, есть высокие, очень высокие дома, а внизу, на земле – уютно, просторно, всё благоустроено и красиво. Просторно: так что было где погоняться с таксистами нашим русским новым американцам, в 60-е годы.
Прошлись мы по 5-й авеню, по Таймс-сквер, заглянули в дорогие магазины, где все продавцы со всех концов зала поворачиваются к тебе, входящему – и делают улыбку. Чудо-чудное, диво-дивное! Ну, а я , позабыв про товары, горел одной мыслью: побывать на вершине Эмпайр Стейт Билдинга. И побывал!

Мы с Ольгой – и компания – перед Эмпайр Стейт Билдингом.
Вознесся на 86-й этаж, на смотровую площадку, посмотрел на все четыре стороны, на небоскребы, на океанский простор, на мириады желтых божьих коровок – нью-йоркские такси. И на 102-й этаж съездил – ну, это вовсе не этаж, а маленькая застекленная площадка: идешь по кругу, глянешь за стекло – и спускаешься по лесенке вниз. Проходя, я все же успел разглядеть на дюралевой полоске вдоль стекла прокарябанную надпись: Вася. Молодец, отметился. Нет, я не шучу, я понимаю простого человека, Васю, которого занесло в Нью-Йорк, вознесло на 102-й этаж – и он не стал мелочиться, писать карандашиком, а достал перочинный нож – и увековечился. Понимаю…
А я еще на статую Свободы в бинокль поглядел. Потом уже узнал, что хоть она из Франции, но… сделана из русского, уральского, нижнетагильского металла!
Планировал я сплавать к ней на кораблике, а также побывать в музее Рериха, Метрополитен-музее, да много еще где. Но… Пошел в кассу «Аэрофлота» уточнять дату вылета, а там сказали: или завтра – или только через две недели. Пришлось лететь завтра. Однако Большое Яблоко я все-таки распробовал, распробовал – и город Нью-Йорк, его «вкус» остались в памяти навсегда.
Улетая на «Боинге» из аэропорта имени Джона Кеннеди, снова посмотрев с высоты на великий город, я вспомнил первые услышанные здесь слова:
– Ты свободен!
Я-то, конечно, свободен, но летел навстречу грандиозному спектаклю по заморачиванию и одурачиванию, порабощению, а режиссеры этого спектакля находились в Америке. Трагедия…
Придя на работу, первым делом направился к своему начальству – в партийный комитет. Открываю дверь, а там в задумчивых позах сидят секретарь парткома – и заместитель.
– Ну, слава Богу! – вскричали они, – мы только что собирались звонить в райком партии : сбежал в Америку редактор, номенклатурный работник…
Так я, номенклатурный, и вернулся на работу, проставив себе в табеле 20 дней за свой счет. Поехал в типографию, а там сразу окружили коллеги-редакторы: ну, как она, Америка?!
Я рассказал. На много дней стал героем дня – «занял верхнюю строчку рейтинга».
Когда все разошлись, ко мне подошел один из коллег.
– Послушайте, я хочу спросить… Вы были в Америке, а почему все-таки не остались?
Я объяснил. Он недоверчиво выслушал, отошел… Потом вернулся.
– Нет, не понимаю. Вы же всё видели, могли сравнить – почему не остались?!
В голосе его было удивление – и досада. Человек всю жизнь мечтал о Западе, а вынужден был жить здесь, писать о социалистическом соревновании, перевыполнении плана, ударных вахтах… Казалось, это враньё, и притом бессмысленное – не закончится никогда. А я, который для себя мог разом покончить со всем этим, вернулся, чтобы вновь тащить по кругу этот дурацкий хомут… Притом на дурачка вроде не похож. Непонятно…
Так что этого коллегу-редактора можно понять. Однако, я не сомневаюсь: именно из-за непонимания – по самому большому счету – он и рванул, когда пришло время, голосовать за Ельцина и Собчака, и на «демократические» митинги бегал, и «демократический» Ленсовет бежал защищать, в августе 1991-го… Попался на дурилку картонную. Не понял, что участвует в создании одной из форм диктатуры, установленной в октябре 1917-го. Такие, как он, обдурили, облапошили сами себя – и всех утащили за собой в «демократическое» рабство. Посмотрите нынешние СМИ, и коммунистические, и «демократические» : наше «социалистическое соревнование» по сравнению со всем этим – невинные пустяки…
Коллега мой не был бы таким, если был бы верующим. Ну, какой из Ельцина президент, скажите на милость, какой президент?! Достаточно пять минут посмотреть-послушать его по телевизору – и все понятно… Понятно, если ты различаешь черное и белое, Добро – и Зло. Если в 1991 году хотя бы 10 процентов населения были православными – не случилось бы «демократической» катастрофы. Но какие там 10 процентов, когда и сегодня – от силы два…
Впрочем, если честно, то вспоминал я слова моих орегонских родственников и знакомых:
– Оставайся, поможем…
Стоило мне только согласиться – и я оказался бы на другой планете. Хотя в 1989 году Америка уже не оставляла у себя «невозвращенцев», как раньше – но можно еще было, можно… Вспоминал я, вспоминал предложения остаться – когда оказался в своей десятиметровой комнатенке с видом на серую стену, с крысами и клопами, да пьяным рёвом со всех сторон. И безо всяких перспектив… Самому завыть-зареветь можно!
Я писал заявления в райкомы – исполкомы, да как тщательно продумывал, излагал аргументы, факты, цифры… А мне в ответ всегда приходило несколько слов: отказать. Хоть головой об стенку бейся! Ведь только чудом, истинным чудом я решил впоследствии свой «квартирный вопрос». А большинство «демократизированных» россиян остались в клетушках-клоповниках навсегда…
Где-то недели через две после нашего возвращения, в Ленинград приехала большая группа орегонцев и аляскинцев. Приезд носил официальный характер, имелась программа пребывания русских американцев в городе на Неве. Так, побывали они в Покровской старообрядческой церкви, и – в институте русской литературы Академии наук, где увидели рукописи легендарного протопопа Аввакума; им даже разрешили взять их в руки, полистать! Вместе со всеми ездил и я: и на службе в церкви стоял, и на обеде сидел – и книгу пламенного борца за старую веру, протопопа Аввакума, старовера №1, в руках подержал… Положил ладонь на листы, постоял с закрытыми глазами, подумал…
Жили наши американцы не в гостинице, а у своих родственников, друзей – в коммуналках, так что имели возможность познакомиться со всеми сторонами нашей жизни.

Мне своего крестного, Прохора Григорьевича, вести было некуда… А вот икону свою, старую алтайскую, я привез туда, где он жил – и услышала моя икона обращенные к ней слова древней молитвы – через столько десятилетий!
Погостив в Ленинграде несколько дней, русские американцы отбыли на Урал, а моя орегонская эпопея все продолжалась. Случайно увидел в газете объявление: Ричард Моррис, доктор этнографии университета штата Орегон выступает с лекцией. Я поехал послушать. Зал неожиданно оказался полон, а сама лекция превратилась в дружескую советско-американскую встречу – это же было время первых свободных международных контактов! Доктор этнографии из Портленда рассказывал, естественно – о старообрядцах штата Орегон. Показывал слайды, фотографии, легко и просто – по-русски! – отвечал на вопросы. К моему особому удовольствию, поведал собравшимся и о том, какой у него есть замечательный знакомый: и в Китае-то он жил, и тигров ловил, на руке у него даже есть тигриная отметина – и много, много еще чего интересного и хорошего о нем рассказал. О Прохоре Григорьевиче Мартюшеве, моем крестном отце.
Когда лекция-беседа закончилась, я подошел к Ричарду Моррису, представился, сказал: только что прибыл из Орегона, от Прохора Мартюшева.
– Эх, как бы мы сейчас пошли, посидели, выпили – как в Орегоне! – воскликнул гость из Америки, – но я уезжаю в аэропорт…
Проводил я Ричарда Морриса до автомобиля, а вскоре увидел по Ленинградскому телевидению большую передачу, где он во всех подробностях рассказал о жизни старообрядческой общины в Орегоне.
– Там высокая моральность – я знаю их, я подружился с ними… И я стал вести себя довольно прилично, – пошутил ученый американец.
Добрая, теплая, душевная вышла передача – я записал ее, и время от времени смотрю: много фотографий, видеосъемок… Смотрю, вспоминаю моих дорогих орегонских староверов.

Бийск
Бийск, родной Бийск… Что же я первое помню, от рождения? Деревенский дом, угол в нем, полосатый матрас – всё наше с матерью имущество, теснота, людской гомон, масса всякого чужого народу, неуют… Мне и места здесь не было.
Потом другая изба, старая бабка-хозяйка, тишина. Ни друзей у меня, никого. Летом я частенько сидел на дереве, или на заборе – и глядел на воду, на Мочищенское озеро. Есть в Бийске такой район – Мочище, а озеро давным-давно исчезло, пересохло. А тогда я в нем купался, с утра и до вечера. На ногах у меня были цыпки, от воды и грязи – полвека назад жизнь была намного проще, внимания на всякие там цыпки не очень-то обращали.
Жили мы и в других избах – обычно вместе с тетей Тасей, её семьей.

Я с матерью, Атамановой Ольгой Прокопьевной. Бийск, Мочище, 1955 год.
Но вот однажды подъехал грузовик, и мы в кузове, на узлах, поехали в новую жизнь – на свою квартиру! Хотя… Какая там «своя квартира»! Просто мужик, с которым дядя Ваня, муж тети Таси, работал в одной бригаде грузчиков – бригадир, получил двухкомнатную квартиру в деревянном двухэтажном доме, и одну комнату, маленькую, уступил своему товарищу. Такие были времена и нравы! И случилось это летом 1957 года… То лето, я, кажется, помню до единого дня – настолько оно мне памятно.

Справа – мать, слева – тётя Тася, и её муж – Жмак Иван Яковлевич. Бийск, 1956 год.
Приехали мы на улицу Социалистическую, в районе новостройки (хотя и на Мочище улицы назывались – Ударная, и тому подобное). Кучи песка, жара – ах, эта бийская летняя жара, когда во время налетающей грозы лужи просто кипят! А в остальное время – запах полыни, горячих досок, волны раскаленного воздуха…
Поселились мы сначала … в сарае, потому что и дом еще не готов, к тому же он был «прорабский» – прорабы там сидели, так что мы все лето в сарае и прожили. Сараи назывались стайками: меж домов стояли длинные ряды сараев-стаек, для каждой квартиры – своя стайка. Но не только мы так жили : люди перебивались в сараях, карауля свои квартиры. Чтобы не захватили! Случалось, в едва построенном доме раздавались крики, и в открытые окна летели вещи – я видел и слышал.
А как же ордера? Да Бог его знает, может, и ордеров поначалу не было – а простота нравов была: Ваське и Вовке дали квартиру – а я чем хуже?!
Наконец, зашли и мы в свою комнату, кухню. Помню, дядя Ваня осторожно повернул кран: есть ли вода? Ой, есть! Потекла прямо на вещички, сложенные в раковине. Я впервые увидел, как из крана течет вода… Но прожили мы все вместе в этой комнате, кажется, лишь несколько дней – и слава Богу. В доме напротив уезжала молодая пара, освобождала такую же комнату, и предложила нам с матерью въехать: надо было только купить у них деревянную скамейку и жестяную ванну!
Такая вот жисть… Тут надо вернуться к истории нашего семейства, немного рассказать еще: как мать оказалась в таком невеселом положении, ведь она была, по общему мнению всей родни, красавица, и могла отлично устроить свою судьбу, личную жизнь. Кстати, ее миловидность и спокойствие приметили еще Рерихи, и просили отдать им в дети – и это, кажется, не легенда, я встречал упоминание этой истории в мемуарной литературе. А среди родни разговоры ходили такие: американцы просили отдать им Олю в дети. Просили не американцы, а Рерихи, и… в дети – не в дети, а, наверное, на воспитание. И вот такая жизнь, по чужим углам, в сарае, с ребенком…
Вообще, судьба матери не один раз менялась – и самым несчастным, печальным образом. После Нарыма они с тетей Тасей оказались в детдоме, в хороших условиях – но вскоре за ними приехал родственник и отвез на родину. Мать говорила мне: она так не хотела, так не хотела ехать… Но Тася «заусилась»: едем!
Родственника тут же, по приезде в Уймон, арестовали – и обе внучки Вахрамея Атаманова оказались никому не нужны. Еще печальная усмешка судьбы: в доме Вахрамея власти устроили интернат, и сестры Атамановы пришли в свой дом уже как воспитанницы интерната…
Но всё же детям новая власть не давала пропасть: они и выросли, и школу закончили. Пришло время взрослую жизнь начинать, замуж выходить, и женихи были, но тут – война…
– Иду утром по Усть-Коксе, – рассказывала мать, – еще ничего не знаю, и вдруг вижу плакат, черными буквами: война!
Время наступило черное, страшное. Женихи все ушли на фронт – и не вернулся никто. Приходили письма, одно из них мать запомнила на всю жизнь – из Сталинграда:
– Ходим в атаку, – написал ей парень, – впереди танки, по горам трупов, как по волнам, а сзади идем мы…
Наверняка в одной из атак упал и он в гору трупов… Не вернулся никто.
А в Усть-Коксе собрали девчонок, провели курсы медсестер – и тоже отправили на фронт. Из этой группы домой вернулись двое: одна без ноги, другая беременная… Мать тоже закончила эти курсы, да ее оставили работать в Коксе, валенки для фронта катать.
– День и ночь катали, здесь же ели и спали. Бывало, только соберешься хоть чуть-чуть поспать, или домой сбегать, – появляется мастер : «Девчонки, надо еще смену поработать…».
Тася – решительная, боевая Тася – ушла через горы в Казахстан, добралась до Усть-Каменогорска. А мать всю войну без выходных-проходных отработала на промкомбинате – и не получила даже справки, не говоря о трудовой книжке. И – никого и ничего, ни кола ни двора. Уехала в Горно-Алтайск, устроилась в столовую военного училища. Можно было подумать о любви и семье – но стала болеть, начали опухать ноги, да и училище вскоре перевели в другой город.
Врачи посоветовали матери уехать с гор на равнину. До Бийска – сто километров, здесь болезнь и прошла. И Тася сюда же приехала, и еще немало родни – сбегали от рабской жизни в деревне, в городе все-таки чуть полегче.
Сняла мать угол у старухи, в районе вокзала, а дом этот оказался… воровской «малиной». Воров, и всякого «деклассированного элемента» после войны в стране было пруд пруди. Да еще чем-то не угодила ворам, стали они ей угрожать… А жиличка-соседка ее подчистую обворовала – и сбежала.
Поистине: хоть «караул» кричи! Было у матери такое присловье, частенько я его слышал…
Через некоторое время встретила она свою соседку на улице, под ручку с офицером. Та сама к ней подошла, сунула деньги, прошептала:
– Только молчи…
Однако, всё равно: хоть «караул» кричи. И тут встретился мой отец. Вершинин Иван Васильевич… Солидный мужчина, бывший офицер, майор, но примерно в таком же положении. Находился в госпитале, в глубоком тылу, в чужом городе, а вышел из госпиталя – и неизвестно, куда ехать. Семья, жена и двое детей, погибли в блокадном Ленинграде, и возвращаться туда он не хотел…

Мои отец и мать. 1948 год. Это их единственная фотография.
Сошлись, стали жить вместе. Пожили, пожили – и надумали ехать к его родителям, в город Керчь, а потом и в Краснодар. Поехали через Среднюю Азию, заезжали зачем-то в Алма-Ата – в этом городе сфотографировались…
Ехали они ехали, и доехали до Ашхабада. И угораздило же их оказаться на вокзале именно в тот момент, когда произошло страшное, вошедшее в историю ашхабадское землетрясение 1948 года. Мать с отцом, правда, уцелели, но в суматохе у них украли все вещи, все подчистую, даже сумку с документами. Пришлось возвращаться в Бийск. Разговор с начальством наверняка был короткий:
– Какая такая Керчь? Может, еще в Москву хотите? В Бийске живете, туда и отправим. Скажите спасибо…
Скорее всего, так и «поговорили», слово в слово. Времена-то – глухие, послевоенные, сталинские.

Вернулись назад, а вскоре и я родился. В это время снимали угол вместе с другими дорогими и близкими мне людьми: моей двоюродной теткой Лепестиньей Федоровной Ерлиной и ее мужем Дмитрием Леонтьевичем. Долго, долго они вспоминали, какими заботливыми родителями были мои мать и отец. Это была их любимая тема разговоров: как меня мыли каждый вечер, как отец бегал на рынок, покупал свежей рыбки, чтобы сварить бульонцу… Когда я, уже совсем взрослый, прожив много лет в «северной столице», приезжал в отпуск, когда позади оставались «Петербург, снега, подлецы» (слова Гоголя), когда я, весь измочаленный – живого места не было – сидел с ними за одним столом, одно только их присутствие – самый лучший бальзам на все мои раны…
Рассказы о детстве, воспоминания – это для многих бальзам; но тут все-таки особое : сами люди, мои дорогие тетя Лепа и дядя Митя, мои родные староверы…
Собирались ли мои родители пожениться? Наверняка да! Такого понятия – «гражданский брак», в те времена не существовало. Однако, я сомневаюсь, был ли у матери паспорт, не числилась ли она «беглой крепостной»? Жителям советского села вплоть до 60-х годов паспортов не полагалось! Да тут еще эта история в Ашхабаде. Канитель с паспортом продолжалась где-то до 65-го года! Имелся какой-то временный, который надо постоянно продлевать, ходить в милицию…
Отец неожиданно умер летом 1953-го: раны, война, тяжелая жизнь… Перед этим отослал все свои деньги родной сестре, куда-то на Урал, на покупку дома.
– А мы еще заработаем!
И остались мы с матерью… Даже не у разбитого корыта – голые люди на голой земле. Отца я какое-то время помнил: вот тут мы с папкой сидели на бревнышках! – а потом забыл. Раскатились бревнышки…
Потолкавшись по углам тут и там, все мы, вся родня, в конце концов оказались в районе новостройки, промзоны. Даже автобусный маршрут был такой: «Центр – Промзона». Кстати, в Бийске сохранился прекрасный исторический центр. Уникальные деревянные, каменные дома, церкви, особняки – целые улицы.



Бийск – большой город, и в самом конце советской власти, как я читал, он мог стать областным центром: область фактически существовала – только оформить документы – да помешали очередные исторические пертурбации.
Итак, мы – на «31-м квартале», тетя Лепа с дядей Митей – на «тресте», другие – на «1-м участке» – это всё новостройка, промзона.
В начале своих заметок я упоминал, что это такое и для чего: создавался комплекс оборонных предприятий – химкомбинат, олеумный завод, машиностроительный завод и тому подобные «лесные братья». Вырубались березы и сосны, рылись котлованы – подземные цехи устраивались! – возводились бетонные и кирпичные стены, дымили трубы, на город валил «химдым» – то рыжий, то синий… Угроблялись материальные ресурсы, деньги, человеческие жизни – ради сохранения «стратегического баланса».
– Людишек, конечно, жалко – зато какую экономику построили! – сказал большой советский начальник.
Пришел момент – и рухнуло все к чертовой матери! Господи прости. Так, кое-где дымок еще курится. Да вздохи слышны, как здорово работали…
Создавал все эти заводы-предприятия строительный трест №122 – вот там в основном и трудились мои родственники. Разнорабочими, подсобными рабочими, грузчиками… Наверняка можно было пройти какие-нибудь курсы, и стать токарями, слесарями – каменщиками, в конце концов! И работать легче, и платят больше, и начальство уважает – ордена-медали даёт. Однако, мои родные староверы, как я понимаю, инстинктивно сторонились всего этого. Ну, не могли они, по своей крестьянской натуре, по восемь часов в день, каждый день, не поднимая головы, класть кирпичи! И уж тем более, не видя солнечного света, стоять в цехе у станка, точить железяки. Правда, дядя Митя Ерлин был сварщиком – то, что называется квалифицированным рабочим. Сварному делу научился он еще в деревне, и дальше так и «выявлял себя» в этом направлении. На «промышленные гиганты» не стремился, а трудился в разных мелких шарашках, при тех же гигантах: отремонтировать, приварить-прихватить. Причем дядя Митя был «летун»: полгода-год на одном месте – потом на другом; сегодня он в каком-нибудь СУ-15, завтра на автобазе, в «дикой дивизии» – и так далее. Была такая организация: «дикая дивизия»! Рабочему и знать не надо, что называется она, скажем, «Запсибстройметаллконструкция». «Дикая дивизия» – и всем понятно, что это и где.
У меня в Трудовой книжке задолго до выхода на пенсию появился вкладыш, а у дяди Мити Трудовая наверняка в палец толщиной. И палец этот указывает на любовь к свободе! Совершенно серьезно заверяю-заявляю: уж дядю Митю я знаю. Не станет долго он терпеть начальственные указания, нотации да попреки: сходи туда, принеси то, сделай это… Да побыстрее! Пошлет куда подальше – и свободен. Благо, советское время имело одну особенность: перешел дорогу – и устроился в другую шарашку. Тем более, что везде платили примерно одинаково.
Характерный момент. Уже в наше время, в отпуске, еду в Бийске на трамвае, смотрю – дядя Митя на остановке стоит. Я выскочил – обнялись, поговорили. Оказалось, дядя Митя, уволившись, едет домой. Будучи на пенсии, подрабатывал сторожем где-то у «лесных братьев». Не сработался.
– Я им говорю: тут вот так-то надо…
А они мне :
– Не-е-т, надо вот эдак…
Да пошли они все!..
А дядя Ваня Жмак, муж моей тети Таси, всю жизнь проработал на ТЭЦ – грузчиком, на угольном поле. Одно-единственное лето он уходил в трамвайный парк, рельсы и шпалы менял – а потом снова ТЭЦ, какой-то «Котлоочист»: кувалдами оббивал изнутри нагар на ТЭЦовских котлах. Ад…
Когда я начал хорошо учиться в школе, вся родня хвалила, радовалась за меня: вырастешь, выучишься, не будешь вкалывать, как мы, в жаре, на холоде, в грязи! В чистом будешь ходить, на стуле посиживать.
Сильно подозреваю, что, как многие простые люди, всякий умственный труд они и за труд не считали: в кабинете сидит, в костюмчике да в галстуке ходит – какая же это работа?!