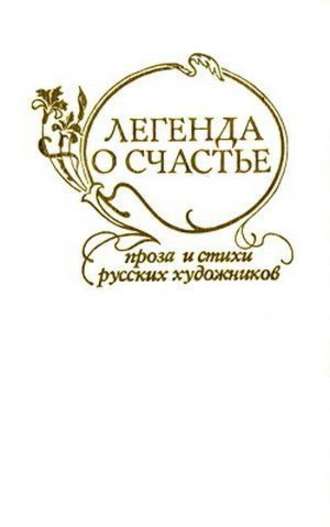
Николай Рерих
Легенда о счастье. Стихи и проза русских художников
III. Черед жизни
РОДИНА
Деревья в инее, а снега вовсе нет.
Зима задумалась у столбовой дороги.
Радимов Павел я, художник и поэт,
Советский гражданин и человек нестрогий,
В Коломенском краю свой написал сонет,
Бродя вблизи Оки, где берега пологи,
Где протекла пора моих ребячьих лет,
Где ездил много раз, усевшися на дроги.
Я помню, помню вас, поемные луга!
Вот на реке паром, вот Ловцы, Белоомут,
Вот бричка ямщика и с колкольцем дуга,
Вот Горки на яру и под горою омут.
Внизу ж стоят стога, и зелени нет края,
Дай ширь твою вдохнуть, о сторона родная!
1941
Омут на Воже
Воспоминаньями себя тревожу,
Я помню Глебово и речку Вожу.
Передо мною луг некошен и нетронут,
Вдали лесок, осинник молодой,
У Глебова обрыв и черный омут,
Что там лежит под темною водой?
И мысль бежит вопросам тем навстречу,
Былых времен страница мне ясна,
Здесь дал Донской впервой татарам сечу
С дружиной москвитян, и кровь алей вина
Стекала в омут тот. Следов я не примечу
Боев старинных. Край цветет. Весна,
И марево волной колеблется далече,
И неба высока немая тишина.
1952
Куликово поле
С детства помню вас, Ослябя, Пересвет,
Монахи-иноки несокрушимой силы.
Стоял туман в лугах, слетал с небес рассвет,
И солнце купы рощ лучом позолотило.
А на земле была великая вражда:
Донского тихий стан, пред ним гроза – орда.
Вот тучный богатырь от ней несется вскачь
И алой епанчой по росным травам плещет,
Он наводил на Русь полон, и стон, и плач,
Он яростно коня ременной плеткой хлещет.
Но смерть найдет себе неистовый палач,
Сжал Пересвет копье и сдвинул брови резче,
Вот сшиблись, пыль кипит, подковы искры мечут,
Богатыри мертвы, и бой трубит трубач.
1943
Свежее утро
Как хорошо! И нет нужды в стихах,
Прозрачный день воздвигнут над буграми,
Луч солнечный их золотит утрами,
И листьев осени насыпан прах.
Уж льдинок светится меж лужами стекло,
В дыму курчавится соседнее село,
И гнется журавель в колодец у колоды;
Над русскою землей идут бессменно годы.
Как долог путь для ней, скажу наверняка,
Не счесть столетия, не перечесть века.
Север
Свой отблеск бросивши в зенит,
Мерцают зимние закаты.
И пламень желто-розоватый
В тумане сумерек сквозит,
Как исчезающая тайна
Неуловимой красоты.
О, сколько милой простоты
И прелести необычайной
Во всем: в глубоком рыхлом снеге,
В примолкших избах и дворах,
В далеком вскрике, в хрустком беге,
В тычинках, вешках и кустах,
В пустых однообразных склонах,
В леске, синеющем едва,
И в распушившихся воронах,
Нагнувших веток кружева.
1953
Глухомань
В перелесках застряли туманы,
Дождик брызжет весь день спозарань,
Но мила мне страна глухомань,
Косогоры и травы-бурьяны,
И еловая роща седая,
И кукушки волнующий стон,
И моя в людях жизнь прожитая,
И заштатных церквей перезвон.
Смутно эхо разносится с бора,
Дорог осени плач золотой,
Каркнул ворон в небесном просторе,
Рад я жизни неспешной, простой.
Поэт и леший
Давний приятель мой, дятел, стучит по утрам на березе.
Не отогнать мне синиц, их я кормлю под окном.
Леший ко мне забредет, он шалун не хмельной и тверезый.
В чаще лесной проживаю, кто же зайдет ко мне в дом?
Я балагурить горазд, а у лешего дел неотложных
Мало бывает, не он, знать, председатель села.
В эти же дни, когда в мире событий тревожных
Множество, лучше узнать новость, какая мила.
Здравствуй, косматый шатун! Зашумела буран непогода,
Запорошила снежком птичий, звериный ли след?
Рад я послушать заветы и сказы из жизни народа,
Ну, начинай болтовню, мой драгоценный сосед!
Перед весной
Весна застряла в снеговых сугробах,
За непогодой не летят грачи.
Лишь стаи галок, серых, крутолобых,
Кружат в зените заревой парчи.
И рушатся на голые березы
Ватагой, говорливой без ума.
Еще гремят последние морозы,
Еще метет метелица-зима.
Но в каждый вечер золотистей зори,
И дальний лес заметно почернел.
Близка пора, как в полевом просторе
Подымет солнце алый самострел,
И рухнет наст, и струйки лужи талой
Разрыхлят снег, и желтая вода,
Забрав соломы и щепы немало,
Забулькает под корочкою льда.
1955
Дума
Старинная песня за лесом пропелась,
И это носилось в бору до утра.
Подумать о жизни давно мне хотелось,
Но старости вдруг наступила пора.
Возьму я котомку, пройдуся по полю,
Вся в колосе рожь, среди ней – васильки,
Зачем же стремлюся опять я на волю?
Ведь дни пролетают, как волны реки.
Мне нужен клочок синеглазого неба
И узкая стежка, путей колея,
Где запах душистый оржаного хлеба,
Где бегал мальчонком доверчивым я.
Рязанский гость
Бежал за годом год. Я снова гость в Рязани,
Я в роще Рюминой среди берез опять.
Прославлена земля с Оки и до Казани,
И много трав пришлось ногою мне примять.
Я псалмопевец ржей, я гармонист-матаня,
Я внук родной яги и лешему я зять.
Я, мерина взнуздав, сам завалюся в сани,
Веревочной вожжой мне замахнуть под стать.
Спеши, спеши, поэт! Не то догонит баба,
С железною косой кощеева карга.
Как весело скакать чрез горки и ухабы!
Смотри ж, чудесный край перед тобой. Луна
За Трубежом-рекой, и хороша, раздольна
Широкая Ока, и воздух вольный, вольный.
Грибы из Луховиц
Грибы из Луховиц, моей отчизны милой,
Старуха древняя в корзине принесла
На нынешний базар. Меня остановила
Хозяйственная мысль: всю мелочь без числа
Я отберу с собой. «Два дня в бору ходила,
Грибок-то как кремень». – «С какого ты села?» —
«Из Городца, родной!» С неведомою силой
Воспоминаний рой нахлынул… У стола
Сижу с грибом в руках, запачкан он землею,
Моей родной землей. О юности пора,
Темно-зеленый бор, и летнею зарею
Тропинка между ржей!.. Вся наша детвора
С корзинками в руках стремится в лес ватагой,
Чащоба не страшна, и все полны отвагой.
Абрамцево
Этот дуб на усадьбе Аксакова
Повидал самого в старину.
А зима, как всегда, одинакова,
И ее я люблю белизну.
У избушки с куриными ножками
Я пройду оснеженной тропой.
Бабы скифские стали дорожками,
Охраняют столетний покой.
Вот и церковь под куполом синим,
О неведомом царстве мечта.
А повсюду нетронутый иней
И Абрамцева тишь – красота.
Парк в Абрамцеве
В портрете Врубеля ты, Савва, словно Грозный.
В заветный парк люблю я в день морозный
Пройти оснеженной средь старых лип дорожкой
Укрыта елками здесь церковь Васнецова,
Избушка возле ней стоит на курьих ножках,
Спит мышь летучая под снеговым покровом,
И баба скифская, степей задонских гостья,
Две тысячи годов легко пережила.
Здесь, Савва Мамонтов, твои останки-кости,
Здесь жизнь текла друзей искусства и ушла.
Лишь птички тренькают близ церкви на погосте,
Их болтовня в тиши пленительно мила,
И сам я в седине, идти мне легче с тростью,
И светлая печаль на сердце мне легла.
1942
МУРАНОВО
Тих неширокий пруд, где Талица-речушка
Журчит в ольховнике. Теперь одна беда:
От старой мельницы не стало и следа,
Лишь колесе торчит зубчатая верхушка.
У выгона стоит под дранкою избушка.
Над окнами резьба и стекла, как слюда,
Блестят в закатный час. Как в прошлые года
Усадьба на бугре и темных рощ опушка.
Уносит жизни сон река забвенья Лета:
Сто добрых лет назад здесь жили два поэта,
И звучные стихи слагались в тишине,
Ты в них прославлена, владычица-любовь,
И первый гром гремит, играя по весне,
И за рекой слышна свирель пастушья вновь.
1942
Старая ветла
Ветла с одиноким вороньим гнездом,
Сухая дорога и черное поле,
Под синим широким небесным шатром
Унылая древняя воля.
Взлетевшего чибиса жалостный крик,
Да возле сожженной громами березы
Печальник болотной пустыни, родник,
Точащий подземные слезы.
Янтарный лист
Еще сверкнул янтарный лист,
И осень гостьей стала:
На речке стих куличий свист,
От ветел тень упала.
Как широко, и ни души
Единой на просторе,
И дни короче станут вскоре,
И порыжеют камыши.
Пастуший слышится рожок,
Для стада нет поживы,
Воспоминанья в сердце живы,
И близок мой осенний срок.
Пускай по мне не будет плачу,
Я весел в горести своей,
Грач улетает, галки крачут,
В долине все бежит ручей.
* * *
Осенний день не говорлив.
Он смотрит строго.
Среди дуплистых редких ив
Бежит дорога.
Над косогором слет грачей,
Шумна ватага.
Сверкает лентою ручей
На дне оврага.
Лазурь сметает облака,
Уходят тучи.
Как жизнь твоя всегда легка,
Простор могучий!
Цепь говорливых журавлей,
Нить паутины.
Да придорожник, да репей,
Да ширь равнины.
1951
Звезда
С листопадом приключилась кутерьма, —
Знать, у осени дырявая сума.
По оврагам разлетелися листы,
Небо синее спустилось с высоты.
Паутины протянулася кудель,
Озимей колышется постель
Вихрь гудит в полях меж проводов,
Сбиты яблоки румяные с садов.
Поржавела у плотины осока,
И звезда упала в речку с высока.
Калиновый кусток
Растет на бугорке калиновый кусток,
И с оржаных полей летает ветерок.
Уходит в синеву за перелеском даль,
И сердцу моему теперь близка печаль.
Спадай, осенний лист, на глинистую кручу,
В затихнувших полях я словом сердце мучу.
Озимое поле
Побродить по озимому полю,
Понаслушаться песен весны —
Это выпало нонче на долю,
Небеса широки и ясны.
Вьется тропка до самого леса,
Запестрела цветами опушка,
Угомону не знает кукушка,
Для нее распахнулась завеса.
Мне годов предсказала немало,
Мое сердце еще не устало,
И на свете еще поживу,
Чтобы счастье узнать наяву.
Одиночество
Нет одиночества чудесней
Среди оржанищ полевых,
Сливается шум ветра с песней,
И сам собою льется стих.
Как бы пронзен стрелою мысли,
Простор волненьем озарен,
На травах капли рос повисли,
И на бугре янтарный клен.
Мне вовсе думать и не надо,
Иду дорогой не спеша.
Ты, одиночество, отрада,
Тобой наполнена душа.
Простой стих
Слетелись сорок сороков,
И началась весна.
Ручей бурлит у берегов,
Песнь издали слышна.
Чтобы обрадовать меня,
Знать, встали зеленя.
И жаворонок озарен,
Под ним широкий небосклон.
Мне весело с таким певцом,
Поэт он мировой.
Чтоб не ударить в грязь лицом,
Пишу я стих простой.
Перелески
Перелески от инея белы,
Санный путь от полозьев широк.
Переедешь ты мелкий лесок —
И от солнца морозного стрелы
Освещают любой бугорок.
Только заячий след и заметен,
Возле гумен дорога видна,
И стоит молодая сосна,
На березах шум галочьих сплетен,
Отлетела в леса тишина.
Потянулся дымок от овина,
Над колодцем повис журавель,
Разостлалась, как скатерть, равнина.
У плетня, где росла конопель,
Наклонилась сухая рябина.
Зима
Сорока щиплет паклю из пазов,
К морозу тянет у ветлы в серебре.
Примолкший день пустынней от снегов,
Ветряк крылом не машет на горе.
Зайчиных лап в снегу петлят следы.
В синеющих дымках с утра село.
Под пышной бахромою спят сады,
С головкой вешки в поле замело.
Покоем тишины и дуб объят,
Век сторожем стоит на перекрестке.
Какой простор! Куда ни кинешь взгляд —
Пушинки, льдинки, снеговые блестки.
1953
Волны реки
Видишь мелькнувшую тень
Там, за далеким пригорком.
Только всмотрися ты зорко —
Это уходит мой день.
Также мелькнули печали,
В жизни все дни коротки,
Все мы немного устали,
Годы, как волны реки.
Черед жизни
В деревне щелкнул кнут пастуший,
И гурт выходит на заре,
Ничто молчанья не нарушит, —
Какая осень на дворе!
Опавший прах слежался в куче.
Оборонил и клен листы.
Смотрю в долину с этой кручи, —
Полна окрестность красоты.
А в синеве застыли нити,
Осенней паутины лёт,
Не нужно никаких событий,
Пусть мерно жизнь идет в черед.
25 августа 1965 г.
Дума ночью
Над долиною день отгорел,
И над полем великая дрема.
Переделано множество дел,
И за ригой в ометах солома.
В эту ночь лишь на звезды смотреть,
Нету им ни конца и ни краю,
К ним мечтою моей полететь,
Словно милую я вспоминаю.
А такая была у меня,
На нее я смотрел, веселился,
Только дожил потом до тяжелого дня
И навеки я с ней распростился.
Она стала, должно быть, звездой,
От нее и сиянье сверкает.
Пролетел над межой козодой,
И заря предвечерняя тает.
Браслеты вечера
Грозно каркнула ворона на сосне,
Чья-то юность заскучала о весне.
А уж сыплет лист метелица в долу.
И туман свою клубком свивает мглу.
Вся осиновая роща в янтарях,
Будто медяками весь засыпан шлях.
Моя дума одинока в этот час,
На закате свет мерцающий погас.
Если б в поле овсяное мне пройтись,
Чтобы песнь осеннюю мне кинуть ввысь,
Чтобы сердце говорило про любовь…
Зря, что ль, помнится ее, как бархат, бровь?…
11 августа 1965 г.
Одеяло
Иду я знакомой тропинкою к дубу,
Зима распахнула пушистую шубу,
И дятел в чащобе стучит без умолку,
Облазил доверху косматую елку,
И заяц пугливые уши расставил,
Живет глухомань без намеченных правил,
И в ней никогда не смолкает молва,
И ночь караулит вещунья-сова.
Не правда ль, тепло у зимы одеяло?
Поэту его иной раз не хватало.
Гаданье
Снежное поле. Мороз и метель,
Небо затмила высокая ель.
А под бугром деревенька во мгле.
Лампа блеснула в соседнем селе.
В избу девчата ввалились гурьбой,
Облако пара впустив за собой.
Ночь коротка, запоют петухи,
Девки на песню не так уж плохи.
Бабке на печке тужить о грехах,
Девкам пропеть о своих женихах.
Молодость – золото, сила земли!
Глянь на гаданье: у всех короли.
24 ноября 1965 г.
Лукоморье
Обманчива моя строка,
И в ней не высказать всех дум.
Идет-гудет зеленый шум,
И кипень неба высока.
А что там видится вдали,
В полденном небе над бугром?
Летят с заморья журавли,
В поречье им и кров и дом.
О вестники моей весны
И старости моей подспорье!
Моя страна вам Лукоморье,
И с вами дни проведены.
И ваших кличей дальний зов,
И реки выше берегов,
И даль синеющих лесов, —
Родная песнь души без слов.
Крестьянский поэт
Засветилась заря в это утро погожее,
И трава вся в росе, в повители плетень,
На селе только что показались прохожие,
Тени длинные под ноги бросил им день.
Заскрипел журавель, поднялася бадья,
Из ведра просочилася влага,
С криком галочья вдруг пролетела ватага,
И туманы в разъемчивой мгле.
Вдруг пастух продудел на селе.
Стали тени от вётел короче,
Не спеша наступил день рабочий,
На току обмолот, стукотня,
Приучилась к делам ребятня
И отцам помогает умело.
Как люблю я мужицкое дело
И умелую в этом сноровку,
Где солому сложить, где сторновку,
Где лопатой провеять зерно.
Сам я не был в деревне давно,
Хоть слыву я крестьянским поэтом.
Что мне к славе прибавить при этом?
Мою славу ветра не сотрут,
Я прославил усердье и труд.
О родном и близком[116]
Пейзаж
Раскричалися сорочьи дети,
Росы свежи, утро в холодке.
Рыбаки раскидывают сети,
Кулики просвищут на реке.
Две-три утки пронеслись сторонкой,
Почему-то не охотник я —
И заслушиваюсь песней звонкой,
И хожу без всякого ружья.
Не губить хочу я жизнь живую,
А любить и радостно пылать.
Оттого-то сторону родную
Называю теплым словом – мать!
Я научился писать пейзажи в деревне Щербаковке близ Казани. На берегу голубого озера, где в пучине была такая ясная холодная вода, что гривенник, брошенный за борт лодки, светился серебряной каплей на песчаном дне, где по краям провала далеко в глубину зеленой бахромой таинственно спускался мох, образуя некий сказочный балдахин, расположилась небольшая, в тридцать домов, деревня Щербаковка, славная своей картошкой и старинными штофными сарафанами.
Там, на высоком обрыве, откуда можно было видеть за пятнадцать верст в одну сторону Казань с кремлем и башней Суюмбеки, в другую – село Высокая Гора с белой колокольней, стояла летняя изба старика Федора Демидовича Степанова, осанистого, с большим лбом и седой бородой, степенного, тихого человека, большого охотника ходить по грибы, в чем я ему был неутомимым и по зоркости глаза счастливым соперником.
Там я прожил семь зеленых лет, спал на верху омшаника под соломенной крышей, где одну жердочку по соседству на все время облюбовали куры-хохлушки, любимицы старухи Даниловны, хозяйки Федора Демидовича. Моими часами был кочет с золотым пером, горлопан на всю улицу, он и будил меня на живописную работу. Его бодрящий крик и жизнерадостность воспел я в одном краткостишии. Старуха Даниловна, бойкая говорунья-сваха, охотница до песен и до нечаянной рюмки, была моей постоянной натурщицей в живописи и в поэзии. Ее простодушные рассказы я перекладывал в гекзаметрические стихи о деревне. Делал я это с большой точностью, упоминая в строках и подлинное имя героини.
Как-то я зашел на гумно, где молотила семья Степановых, и заметил легкую пересмешку у работников. Я, выведывая названия несложных частей овина для поэмы «Обиход», расспрашивал подробности и увидел, что старик Федор Демидович порывается мне сказать что-то лукавое.
«Да тебе все расскажи, а потом ты и опишешь, как мою старуху описал; про картошку-то она тебе рассказывала, а ты как есть правду описал», – добавил он уже добродушно и поощрительно.
Я не думал, что старик знает про мой гекзаметрический стих «Картошка», который был напечатан в это лето в газете «Красная Татария». Номер этой газеты принес в Щербаковку Даниловне ее внук, узнавший в моем бесхитростном описании точный портрет своей бабушки.
Мне понравилось, что деревенские люди не подивились древнему многосложному размеру и похвалили меня за правду. Эту же правду я искал и в увлекательном для глаза пейзажном деле. Небольшая заводь у леса, образованная хаусом,[117] струившим прозрачную голубую воду к мельнице под известковой горой, служила мне всегдашним мотивом. Рядом, на берегу речки Казанки, росла ивовая роща, где пастухи в полдень ставили стадо на стойло, и я присаживался к их костру с этюдником, мольбертом и холстом и писал по нескольку дней подряд тихие аркадские виды.
Тень живописца Пуссена проходила в моем воображении, слава барбизонцев вставала в моей памяти. Светло-зеленая золоченая краска Клода Моне была разлита всюду по щербаковским долинам. Я много писал темперой по холсту, мне хотелось освободиться от черноты и тяжести в масляной краске.
Писал я все лето, а осенью развешивал эти картины у избы на Степановом дворе, выбирая непременно воскресный день, не рабочий в поле, и сухую погоду. Накануне вечером я писал на листе картона крупным шрифтом об открытии выставки и вешал это на часовне, где бывала всегда сходка и стоял высокий столб с колоколом, снятым за ненадобностью в советское время с монастырской церкви. Утром ко мне приходила толпа односельчан, они обменивались мнениями, грызли семечки и поощряли меня добродушными отзывами.
Эти беседы и любовная критика деревенских жителей помогали мне в живописном мастерстве. Замечания были живые, исполненные непосредственного ума и ясного понимания задач искусства, искусства открывать людям красоту окружающей их жизни.
«Какие красивые места», – говорили сельчане, глядя на картины, где были написаны щербаковские роща, заводь, поле за деревней, степановский частокол на бугре и раскидистая ветла возле мостика на речке Казанке. Другие добавляли: «Да, сами живем тут век, ходим, а не замечаем». Так я делал в течение семи лет, щербаковцы ко мне привыкли, и, когда я приезжал весной, молодежь спрашивала меня, скоро ли будет выставка.
Трудящийся человек в моих картинах прежде всего видел и ценил труд. Однажды, когда я сидел на щербаковском лугу под зонтом у мольберта, проходивший мимо старик из соседнего села Борисоглебского сказал мне вместо обычного приветствия: «Слава труду».
На моей выставке были и жанровые картины, и портреты деревенской детворы. Останавливал внимание зрителей этюд девочки в бедном, поношенном платьице с большой дыркой на худеньком плече. «Никогда бы так не снялась, – говорила розовощекая девка Аксинья, – сидит, как нищенка». Зато хвалили щербаковские бабы и девки этюд невесты в запоне, сарафане и белой рубашке с кисейными рукавами: «Какая рубашка-то редкая». Степенные мужики также считали своим долгом прийти на деревенскую выставку. Они наряжались в новые пиджаки и картузы и молча ходили возле картин.
Когда я спросил одного пожилого щербаковца, что ему понравилось на выставке, он ответил: «Виды». И посоветовал мне зайти на поляну в Репиховскую рощу и зарисовать там вековую липу: «Под липой дух медовый, а на поляне ягод – ряса рясой». Если велика потребность в пейзаже у деревенского жителя, то еще сильнее она должна сказываться в горожанине. Когда после лета я вешал щербаковские пейзажи в мастерской друга художников 'Уншлихта, то не раз заходил туда и Ольминский. Он садился в кресло перед пейзажами и молча разглядывал их. Он как бы гулял по зеленым рощам Щербаковки. «Хорошо, что в пейзаже людей нет», – как-то мне сказал Ольминский. Я понял его так: человек иногда хочет быть один лицом к лицу с природой.
Валерий Брюсов
1913 год. Я в Москве. Иду на Мещанскую в гости к Валерию Брюсову. Профессор философии Казанского университета Ивановский после выхода в свет моей первой книги стихов дал мне адреса известных московских писателей. По его адресу я нашел Валерия Брюсова.
Сдержанный, приветливый Валерий Яковлевич знакомит меня с супругой Иоганной Матвеевной. Кабинет весь в книгах. Брюсов расспрашивает меня о моей деятельности в Казани. Рассказываю ему, что я преподаватель истории искусств в Казанской художественной школе, участник выставки Товарищества передвижников. Брюсов замечает: «Но ведь члены Товарищества передвижников староваты в искусстве. Кого вы назовете? Бяльницкий-Бируля? Да, он хороший пейзажист. А знаете, кого я люблю больше всего из художников? Рембрандта. Если вы узнаете, где есть в провинциальном музее Рембрандт, я тотчас же приеду в этот город. Гостиницы там есть?» Я обещал это сделать.
В другой приезд, когда я был в гостях у Брюсова, на стене его кабинета висела моя деревенская картина «Сарай», мой подарок Брюсову. Брюсов сказал, что она ему нравится по своим тонам, а о стихах он высказался в журнале «Русская мысль», где напечатал рецензии на изданные в Казани «Полевые псалмы» и «Земную ризу», похвалил строки моих стихов о «старце Никаноре».
Во время беседы я усердно расспрашивал Брюсова о гекзаметре, этим размером была написана моя поэма «Попиада».
В один из вечеров я застал у Брюсова большую группу молодых поэтов. Это были переводчики: он руководил изданием антологии армянской литературы. Брюсов то уходил к ним, то возвращался ко мне. Супруга Брюсова Иоганна Матвеевна приготовила вкусную яичницу, и Брюсов за дружеской беседой угостил меня бутылкой армянского портвейна.
В двадцатом году Брюсов предложил мне выступить на поэтическом вечере в Доме печати. Там я познакомился с Есениным, Кусиковым, Шершеневичем и Мариенгофом. Есенина я любил как поэта, а остальная молодежь была уж очень напориста. Шершеневич, злой на язык, предлагал в шутку своего метра, Валерия Брюсова, так как он якобы уже устарел как поэт, треснуть топором по черепу. Подобные шутки были тогда в моде.
Гиляровский
Я бывал у дяди Гиляя, этого знаменитого москвича, пил чай в Столешниках. В 1914 году я участвовал своей картиной «В избе» на выставке «Современное искусство», где экспонировался портрет Гиляровского, написанный художником Александром Герасимовым. Портрет был написан мастерски: дядя Гиляй в белой рубахе, как запорожец, сидел в плетеном кресле на террасе, освещенный июньским солнцем. Было ли это в Малеевке, известном доме отдыха писателей, – не знаю.
С этих пор началось мое знакомство с Герасимовым и с дядей Гиляем, с которым Герасимов меня познакомил.
Дядя Гиляй подарил мне свою поэму «Стенька Разин», а я ему только что изданную в 1914 году мою книгу «Земная риза». На книге, подаренной мне, Гиляровский написал:
Радимову П. А. Художнику и поэту.
Пиши, рисуй и вдохновляй,
Чернил и краски не жалея.
В день молодого юбилея
Привет тебе!
Старик Гиляй
Чай в Столешниках был вкусен, а беседы об искусстве интересны и разнообразны. Здесь я познакомился с искусствоведом и талантливым критиком В. М. Лобановым. В беседах принимала участие жена В. М. Лобанова, дочь Гиляровского.
Я не просто был знаком с Гиляровским, он оказал на меня творческое влияние: с легкой руки дяди Гиляя я начал часто писать шутливые, дружеские экспромты. Вот стих тогдашнему президенту Академии художеств Александру Михайловичу Герасимову:
Дорогой мой президент!
Я в торжественный момент
Говорю с тобой, как Паша,
В АХРРе жизнь сошлася наша.
Другой экспромт был адресован Борису Иогансону. Он является моим ответом на жестокую дискуссию о пейзаже. Подумать только, в споре о пейзаже мы, старые ахровцы и молодые рапповцы, которых было очень трудно убедить, дошли до здания Реввоенсовета, зашли в кабинет к Клименту Ефремовичу Ворошилову – с вопросом, можно ли в нашу пролетарскую эпоху писать пейзажи.
Об этом и говорится в моем экспромте, посвященном народному художнику Борису Иогансону:
В Абрамцеве я видел сон:
Сидел со мной Иогансон,
Художник СССР народный.
Водил он кистью благородной
И тихий вид живописал.
С вопросом я к нему пристал:
«В картинах пишешь ты людей,
Кой черт от неба и ветвей?»
На слово мастер был речист:
«Я истый чистый пейзажист».
Сказал, умолкнул, и объятья
Мы заключили с ним, как братья…
И въявь скажу тебе, Борис:
«Век за тематику борись!..»
Экспромт художнику Аралову:
Довольно нам художников маралов,
У нас есть пейзажист Аралов.
О Маяковском
Маяковского я впервые увидел на лекции футуристов в Казани в зале Дворянского собрания в 1912 году.
Зал был полон молодежи и солидных представителей дворянства. Новые поэты – Маяковский, Бурлюк и Каменский «давали пощечину общественному вкусу». На эстраде стоял широкий стол, на нем стаканы с чаем. Поэты сидели за столом перед публикой и тихо позвякивали ложками, по очереди выходили к кафедре и читали стихи. Бурлюка, учившегося раньше в Казанской художественной школе, я знал как хорошего пейзажиста, его картины были вывешены в классах Казанской школы как художественные экспонаты. Теоретически в этот вечер Бурлюк доказывал, что автомобиль красивее, чем тело Венеры Милосской. Он показывал снимки автомобиля, не помню какой марки, и фотографию статуи Венеры Милосской. Слушателей ему убедить не удалось. Не удалось Бурлюку и увлечь слушателей своими стихами: «Небо труп, звезды труп, земля труп…»
Превосходно читали стихи Каменский и Маяковский.
С Маяковским я встретился через много лет на лестнице в газете «Известия». После рукопожатия Маяковский мне предложил: «Радимов! Делайтесь футуристом!»
В те годы я с группой друзей-художников организовывал АХРР.
На диспуте в Леонтьевском переулке я прочел доклад «Быт в живописи». Сторонники беспредметного искусства встретили мой доклад в штыки. Поддерживал меня в этом споре Касаткин. Был на этом диспуте и Маяковский, но, не дослушав речи Касаткина, ушел. После диспута в коридоре ко мне подошел Осип Брик и начал упрекать, зачем я воскрешаю покойников, мертвецов-передвижников.
Затем я встретился с В. Маяковским в траурные дни похорон Владимира Ильича Ленина, я писал этюд из окна Исторического музея. У другого окна стоял Маяковский и смотрел на траурную процессию: склонив знамена, шли войска.
Незадолго до смерти поэта я видел его в Доме Герцена, в ресторане. Он сидел за столом недалеко от меня с какой-то женщиной. На лице его не было улыбки.
И последнее свидание с народным поэтом было у гроба.
Встреча с Максимом Горьким
Писатель Леонид Максимович Леонов при одной встрече показал мне письмо Горького к нему, Леонову. Горький писал, что хотел бы видеть вышедшую в то время книгу моих стихов «Деревня». Он просил Леонова сообщить об этом мне, автору, по его словам, «интереснейшей «Попиады». По совету Леонова я тогда же послал свою книгу стихов Максиму Горькому в Италию, в Сорренто.
Прошли годы, я любил и читал Горького, но с ним ни разу не встречался. В первый приезд Горького в Москву из Италии я был уже москвичом, покинул Казань, занимался общественной деятельностью, был одним из организаторов Ассоциации художников революционной России и председателем Всероссийского союза советских поэтов. Последняя организация существовала недолго, но, когда в Москву приехал Максим Горький, мне было прислано приглашение как председателю Всероссийского союза советских поэтов, присутствовать на совещании у Луначарского.
Я был очень рад встретиться с Горьким. Когда я пришел, Горького еще не было, но собравшиеся знали, что он придет. Луначарский начал заседание, а я положил на стул рядом с собой портфель в надежде, что, когда Горький войдет, я сниму с соседнего стула портфель и Горький сядет рядом. Немного спустя открылась дверь – и вот он, Горький!
Высокий, костистый, с бобриком на голове. Я принимаю со стула портфель, Горький садится рядом. Но как отрекомендоваться ему? Пускаюсь на новую хитрость. Пишу Горькому записку: «Дорогой Алексей Максимович! С Вами рядом сидит Павел Радимов». Лодочкой-ладонью подсовываю по столу эту записку к Горькому. Горький наскоро пробегает ее глазами. Вот он неожиданно повернулся, моя рука в его руке, говорит окающим баском: «Какой вы еще молодой! Знаете, где мы читали вашу «Попиаду»? В Сорренто. Знаете, кто читал? Шаляпин!» Я был смущен.
Моя поэма в гекзаметрах «Попиада», имевшая много лестных отзывов в прессе, была напечатана во втором сборнике моих стихов – «Земная риза» в Казани в 1914 году. Молодые годы Горького и Шаляпина, как известно, тоже прошли в Казани. Горький работал пекарем в булочной, а Шаляпин был писцом в духовной консистории. Они дружили и подрабатывали пением в хоре церкви Святого Духа, что в Суконной слободе. Регент принял их в хор с условием, что они будут петь разными голосами. Поэтому в церкви Святого Духа Горький пел басом, а Шаляпин тенором.
Редкое для меня мгновенье кончилось. Горький и я сидели за столом и мирно слушали блестящую, как всегда, речь Луначарского. Прощаясь, Горький пригласил меня в гости для беседы на квартиру в Машков переулок. Я захватил с собой три живописных этюда темперой на ватмане: «Хоровод в деревне Щербаковке под Казанью», «Девушка» и архитектурный этюд собора Василия Блаженного.
Первая беседа началась со стихов. Горькому нравились мои деревенские гекзаметры, он упомянул, что ему из этого цикла нравится стихотворение «Брань», где в горячем споре, пока стелют холсты, сошлись две горячие на слово и словцо кареглазые молодки:
…грудью подались вперед,
то и гляди, что заденет какая другую под локоть,
обе, как порох, сошлись, обе на кровь горячи.
Кофе хозяину и мне принесла сноха Горького, я знал, что она успешно занимается живописью, и я при ней показал Горькому свои этюды.
Горький крупными шагами заходил по комнате, память о знакомых местах под Казанью вызвала легкую поволоку в серых внимательных зорких глазах.
Он попросил: «С этюда «Хоровод» напишите большую картину, а этюд мне продайте!» Горькому я подарил этюд собора Василия Блаженного, а картину «Хоровод» я писал долго и закончил уже, к сожалению, после смерти Горького.
Никитина Евдоксия Федоровна
Каждому приходится мириться с тем, что ему не остановить время. Через год с небольшим мне будет уже восемьдесят лет. Просматривая залежи в своем письменном столе, я нахожу пожелтевший давний пригласительный билет от литературного общества «Никитинские субботники»… 390-е заседание.
П. А. РАДИМОВ
XV лет в литературе и живописи
1912–1927 гг.
Организатор этого общества мой друг и друг многих русских литераторов Евдоксия Федоровна Никитина.
Программа вечера:
1. Выставка картин П. А. Радимова.
2. Проф. А. А. Сидоров. Радимов как художник.
3. Проф. П. С. Коган. Поэзия Радимова.
Напечатан на билете каталог выставки картин П. А. Радимова (АХРР) 1912–1927 годов из цикла «Деревня».
В доме Евдоксии Федоровны Никитиной, по словам писателя К. А. Федина, «собран нигде и уже никогда неповторимый материал по истории советской литературы, с ее возникновения до наших дней…».







