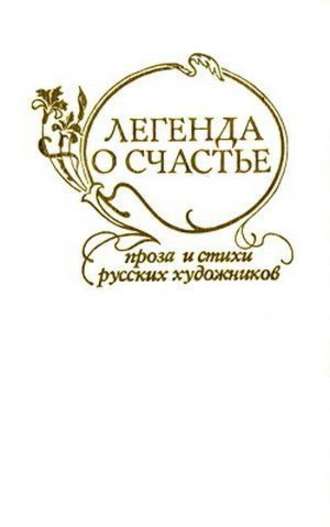
Николай Рерих
Легенда о счастье. Стихи и проза русских художников
«Этот самый Пушкин…»
Зима. Вся Москва покрылась пушистым снегом. Белым-бело. На Садовой улице в сумерках горят уличные фонари, уходя вдаль. Свет их освещает ветви деревьев, покрытых густым инеем. За палисадником улицы прячутся потемнелые в ночи дома. В освещенных окнах чувствуется какой-то тихий покой. И будто там уютно и счастливо. Зима в Москве вначале всегда была так нова, так заманчива, и от нее пахло миром и покоем. По улицам едут в санях москвичи. Зима все изменила. Не слышно больше шума колес. Потемнели тумбы тротуаров, и весело мчится тройка по Тверской-Ямской, звеня бубенцами, и замирает в дали улицы веселый смех седоков.
Еду я на извозчике поздно, еду с Тверской из Английского клуба, где ужинал в компании с Александром Александровичем Пушкиным, сыном Александра Сергеевича, великого поэта. Александр Александрович, одетый в заштатную генеральскую форму, был скромный человек. Говорил про отца своего, которого он помнил смутно, так как был мал, но помнил его ласки, и его панталоны в клетку, и его красноватый сюртук с большим воротником. Помнил мать в широких платьях, помнил, что кто-то говорил, кажется, отец, что любит зиму и Москву. Помнил переднюю в доме, отца и мать, когда они приезжали с картонками, раздевались в передней и ему подарили игрушку-петушка, который пищал.
– Да вот в Москве, – сказал Александр Александрович, – знают отца, читают. И в Петербурге тоже. А то и не знают вовсе…
– Да что вы? – удивился я.
– Да, да, – сказал Александр Александрович Пушкин. – Уверяю вас – не знают. И студенты не знают. Спросите у любого из них: читали? – Мало. Ну, «Капитанскую дочку» знают, нравится. А другое – не знают.
– Знать трудно, конечно, но я как-то не слыхал… все знают Пушкина.
Александр Александрович как-то наклонил голову, опустил глаза, и на больших белках его глаз был синеватый оттенок Востока.
– А в вашем образе, в лице, в глазах, есть черты Африки, – говорю я ему.
Он посмотрел на меня, улыбнувшись добрыми и прекрасными глазами, и сказал мне:
– Ну, это… нет! Я вот какой африканец: так люблю Москву за то, что в ней настоящая зима, все покроется инеем и такой зачарованный покой. В Петербурге у нас не то. Я терпеть не могу жары. Я бывал и в Италии, и на Ривьере, бывало – дождусь не дождусь, когда опять приеду в суровую Россию. Вот тоже – не люблю я пальмы эти. Не знаю, отчего это их ставят все всюду в ресторанах? Неужели елка, березка хуже пальмы? Нет, лучше. Я когда читаю про тропические леса – меня берет ужас. Эти лианы!.. Нет, наш русский лес лучше… Вот я остановился здесь у дальних родственников. Кот там – таких русских серых котов больше нигде нет. Какой друг дома! Там лежанка, сядешь погреться – он ко мне всегда придет, мурлычет. Есть ли в Африке коты? – спросил Александр Александрович.
Как-то, помню, в библиотеке Английского клуба, где он любил бывать, я увидел его. Он вынимал из высокого стеклянного шкафа старые французские книги и перелистывал их. В его образе, в голове, когда он читал страницы книги, было что-то другое: лицо его было внимательно и задумчиво-кротко. В лице был какой-то дервиш и что-то тихое, благородное и робкое. И образ великого отца его вставал передо мной.
Как-то, помню, сказал мне Александр Александрович, что отец его, конечно, много наговорил на себя.
Писал о любви – это опасно! А сам он, как я слышал в своей молодости, сам он был сговорчивый и скромный. Странно то: восемнадцатилетним юношей он написал стихотворение «Прелестнице». Надо удивляться, как это можно думать так в восемнадцать лет!
Не привлечешь питомца музы
Ты на предательскую грудь…
Ведь это так глубоко, такое постижение в такие годы…
Возвращаясь на извозчике из Английского клуба к себе в мастерскую на Долгоруковскую улицу, я все думал о Пушкине, и мне казалось, что много было непонимания, которое тушило огонь души его.
Моя потерянная младость…
Как много в словах этих, в смысле их, тяжкого, глубокого горя…
Странно. Что-то есть, вот-вот около… Около жизни. В юности – но есть, рядом, тут, около… скорбь. Отсутствие счастья… Что-то мешает тайне прекрасного, какое-то непонимание. В печали тайной гаснет непонятный мой верный идеал…
В мастерской на Долгоруковской улице, когда я вошел к себе, я застал М. А. Врубеля, который жил со мной. Он проснулся, когда я вошел. Я рассказал ему, что был в клубе и видел сына Пушкина – Александра Александровича.
– А знаешь что, – сказал мне Врубель, – Пушкин не был счастлив, и вряд ли он нравился им…
– Кому им? – спросил я.
– Женщинам. Цыгане, Алеко… Странное что-то есть… Посмотри впереди себя, – сказал Врубель, – я здесь сегодня вечером работал.
И Врубель отвернул большой холст.
На нем я увидел как-то остро и смело написанные в твердом рисунке ветви деревьев, покрытые инеем. В окне они были видны. Какой ковер – в особенном ритме. А форма рисунка деревьев…
– Завтра надо будет мне написать тут сверху, – сказал Врубель, – «Кондитер Шульц. Мороженое».
– Что ты? Зачем? – удивился я.
– Да, да, – сказал Врубель. – Это вот там сбоку на улице, на углу, живет немец. Он просил меня – ему нужно.
– Отдай ему без этой надписи. Это так красиво.
– Н-е-ет, ему нужна она. Он платит мне двадцать пять рублей.
* * *
Долго я не мог заснуть. В углу моей большой мастерской горела зеленая лампада. На кушетке, свернувшись под пледом, спал Михаил Александрович Врубель – великий художник, кончивший Петербургский университет, два факультета, с золотыми медалями. И вот – он никому не нужен… Никто как-то не понимал его созданий. Как-то делалось одиноко, жутко. Зачем все академии художеств, искусства? Брань невежественных газет, критиков. А завтра он будет своей изящной, дивной формой писать на этой картине вывеску «Кондитер Шульц»… Что-то в этом есть жестокое и жуткое…
* * *
Утром рано я ушел в Школу живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, где я был преподавателем в высшей мастерской оканчивающих учеников.
– Ваша очередь, – сказал мне инспектор, – задать эскиз на тему историческую или, словом, какую вы хотите.
В канцелярии школы я написал на листе бумаги: «Зима в произведениях Александра Сергеевича Пушкина», и лист этот с написанной темой был повешен в классной мастерской.
Придя в мастерскую, я заметил, что ученики недовольны темой и объяснили мне: что же это, всё стихи? Лучше бы Пугачева в «Капитанской дочке». А вечером Родственники мои, студенты Московского университета, мне определенно сказали, что Некрасов гораздо лучше Пушкина, что у Пушкина все вздохи и ахи про любовь, потому что этот камер-юнкер нравился в то время кисейным барышням и только.
Когда я был у Антона Павловича Чехова, то рассказал ему об этом, о встрече с Александром Александровичем. Антон Павлович как-то сразу наклонил голову и засмеялся, сказав:
– Верно. До чего верно. Кисейным барышням, ахи, охи про любовь… Верно, все верно… – и он засмеялся.
* * *
После спектакля в Большом театре я наверху, в огромной мастерской под крышей писал декорацию к опере «Руслан и Людмила». Старший мастер Василий Белов составлял колера в больших тазах. Я сижу напротив, на лавочке.
– Кто, – спрашиваю я, – сочинил «Руслана и Людмилу»? Знаешь, Василий?
Василий Белов так серьезно посмотрел на меня и по-солдатски ответил:
– Этот самый Пушкин, что с Тверского бульвара. От Страшного монастыря.
– Это памятник ему, – говорю я.
– Знаем, сочинитель. Его вот застрелили…
– Зря, – говорю я, – дуэль была.
– Эх, да, – сказал Василий, рукой взял себя за рот и так значительно серьезно сказал: – Ну да, скажут вам… Господа-то не скажут правду-то… а мы-то знаем… Он такие песни зачал сочинять, прямо вот беда. А студенты народ озорной, только дай им, сейчас запоют. Ну, и вот его за это шабаш…
– А ты знаешь, что он написал? Ну, хоть одну песню.
– А как же, – ответил Василий. – Нас училка в деревне всех выучила:
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».
Эх, ловко это она научила. Под ее все теперь у нас, парни, девки, кадриль танцуют. – «И в распухнувшее тело раки черные впились…» Ловко каково! А вот отчего он без шапки стоит, знаете ли вы? – вдруг спросил меня Василий и, смотря на меня, прищурил хитро один глаз.
– Нет, не знаю, – удивился я. – Отчего?
– А вот потому и голову наклонил, и без шапки, значит, снял, и говорит, значит: «Прости, говорит, меня, народ православный…»
– Что ты, Василий. Кто это тебе сказал?
– Чего сказал… Там написано, на памятнике сбоку.
– Да что ты, Василий, где? Там это не написано…
– Нет, написано. Слух пройдет по всему народу, вот что. А ты уж смекай, как знаешь.
Двадцать лет со мной работал Василий Белов. Он был колорист, маляр. Я ценил его. Он составлял цвета по моим эскизам и готовил краски. Любил поговорить. Но ничего с ним не поделаешь: на все у него был свой взгляд. Особенный, уверенный. После февраля 1917 года Василий Белов пришел ко мне и сказал:
– Вот теперя вашему Пушкину шапку наденут…
– А почему? – спросил я.
– Полно шапку ломать… Теперь слобода всем вышла…
Толстовцы
Близ города Рузы, Московской губернии, жил я летом у приятеля своего, крестьянина Комаровского. По приезде к нему в глухую деревню увидел я по другую сторону небольшой речки деревянный дом-усадьбу, стоявший на возвышенности. Позади усадьбы был большой сад, а от крыльца спускались к реке тропинки. По этим тропинкам шли люди. Они несли ведра к речке и, набрав воды, уходили к небольшой деревне, поблизости от дома, где я остановился. Люди были в поддевках и рубашках, похожие на крестьян, но в шляпах, – самый характер их внешности был какой-то другой, не крестьянский.
– Что это за люди? – спросил я у Комаровского.
– Толстовцы, – ответил он. – Они здесь живут, в доме-то. Сняли на лето и живут. Их человек тридцать пять, все молодые, и девицы. Воду носят в деревню, помогают крестьянам в труде. Они – кто их знает? – Молчаливые. Живут дружно, не пьют, не курят. Тихие. Да крестьяне не больно их любят. Я-то хорошо не знаю. Так, люди молодые, учащиеся, а летом в деревне хорошо, дешево, ну и живут здесь…
Я писал с натуры красками. Сидел у речки. Берега ее покрыты ольхой. Лето. Вся небольшая речка в бочагах. Два крестьянина ловят рыбу. Ходят в воде по пояс, подводят сеть под кусты и бьют по ним палкой – батают, то есть выгоняют рыбу от берегов.
С того берега реки подошел один из толстовцев и, сказав «бог помощь», стал тоже бить палкой по берегу и по воде.
– Эва, ты… ты брось. Без понятнее пугать неча. Книжку читай, а рыбу пугать брось, – закричали ему рыбаки.
Толстовец ушел. Рыбаки вылезли и остановились около меня, смотрят, что я списываю. Раскуривают махорку.
– Что же вы его прогнали? – говорю я. – Он ведь помочь вам хотел.
– Уж больно одолели… Теперь маленько поотвадились, а то беда. Гляди ты, с утра в избу лезет. Печь топит, воду несет. Ну, ладно, неси. А то вот пишет в книжку: сколько в доме народу, сколько пьешь воды, чаю, сколько кур, сколько кура пьет, собака тоже. Ну – чего? Печку тебе растопляет, дует – часа два. Глядишь, не горит. Что тут? Какое дело? Ну, наши обложили их по трешнику в месяц, значит, за их работу. Да и то мало… Что выдумали – трудовая помощь, говорят… А девицы их тоже читать придут в избу. Читает, читает. Да, хороший они народ, только одолели очень. Беда!
– Это у них от жисти господской на разум вышло, – вставил другой рыбак. – Без дела-работы скучно жить. Вот и надумали трудовую подмогу, значит. Но только от этого много зря выходит. Лучше бы свое дело вели правильно.
– Где тут, – сказал первый. – Он хворостину два часа рубит: непривычный. А их граф, говорят, пашет и жнет все сам. И лапоть вяжет. Сам на своем обиходе живет, значит. А они покуда не обучились.
– Да, но ведь они хотят вам помочь! Люди хорошие, – возражаю я.
– Верно, так, все верно! Только вот помоги деньгами, а то – что? Только утеху свою над нами пытать. Деньгами – нет, тпру! За ягоду, яйцо – тпру, не дадут лишок, торгуются.
– Ну, озябли, – сказали рыбаки и пошли ловить рыбу дальше.
Меня обступила компания толстовцев. Молодые люди с длинными волосами и девицы.
– Можно ли посмотреть?
Подошли. В руках, почти у всех, книги. Все скромные и задумчивые. Девицы, когда я взглядывал на них, отводили глаза в сторону. На лицах ни у кого не было улыбки. Кавалеры имели вид «сурьозный», углубленный. Заметно было, что они всё знают и еще что-то, чего не знают другие. Это чувствовалось и придавало им какую-то особенную властную важность.
– Позвольте вас спросить, – сказал один, – с какой целью вы пишете несудоходную реку?
– Речка эта очень красива, – объяснил я. – Заросла кустами, пышными, веселыми. Как прозрачны струи вод ее! Нравится мне, потому и пишу.
Толстовец встал в позу:
– Картины есть утешение праздных и сытых, – сказал он, – искусства идут вразрез идее учителя. Например: музыка служит развращению праздных масс.
Когда он заговорил, все девицы, повернув к нему свои головки, выражали взорами поощрение. Когда же заговорил другой, они все повернулись к новому оратору и так же пристально и поощрительно его слушали. Это было как-то особенно характерно. Видно было, что ораторы влияли на них, и нравилось девицам все, что бы они ни говорили.
– Сомневаюсь, – вставил я, – чтобы Толстой думал так. Это отдает Калибаном…[42]
Толстовцы посмотрели на меня вопросительно. Я пояснил:
– Калибан – это «Буря» Шекспира.
– Да, – ответил презрительно толстовец, – но Шекспира не признает учитель.
* * *
На террасе дома моего приятеля сидели за столом приехавшие к нему соседи. Они покупали жеребенка. Пили чай. Присел и я. Один из соседей сказал:
– Чудной это народ живет тут у вас – толстовцы! Лошадь хотели купить для верховой езды – не купили. Я был у них намедни на собрании. Один доказывал, что жить людям не надо боле, что, говорит, людям одно мучение выходит на свете – больше ничего. Граф, сам учитель их, в годах, значит. Ну, видит – дитев у него много и все дочиста графья. Как быть? К тому же и кругом народу всякого родится уйма. Что такое? Куда народу столько родят, все для мучения на свете. Притом много без капиталу, конечно. Ну и мыкаются по свету: нужда, горе, войны-сражения. Все труд да труд: с ребятами забота – расти их! Беда, думает. Куда от дитев деться, от народу: много оченно. По этому случаю стал у него ум раскорячиваться. Кончать надо это дело. Шабаш, Малашка, закрывай крышку. Довольно! Людям пора в голову взять, что довольно глупостями займаться. И конец. Прикрывай все, более не надо дитев, помирай. И конец. Не будет более мучений здесь на земле человекам.
Ну, что он читает, на собрании-то, а у нас парнишка, такой бедовый – Дмитрий Уткин, и говорит ему: «Позвольте, – говорит, – господин барин, вам ответ дать». Тот говорит: «Пожалуйте». – «Конечно, – говорит, – ваше дело господское, вы на барышень ваших глядите, и все оченно хорошо. А у нас в крестьянстве никак невозможно. Конечно, вам о всяких пустяках думать не приходится, даже срамно. У вас и других делов много, а у нас не то. Хоша я себя возьму. Вот два года женат. Сын у меня. Жена тоже у меня женщина твердая. Но ежели бы я на нее глядел да глаза пялил и боле ничего, она, может быть, и молчала бы, но подумала бы: «Муж у меня или дурак, или порча на ем есть». Ваше, – говорит, – дело господское, вам эти глупости в голову и не идут. А у нас, господин барин, засмеют, на улицу нельзя выйти будет…» Ах, Уткин, озорной! А он и еще: «Вы, господин барин, говорите про одеялы. А таких людев нет. Нешто возможно, ежели под одеялом с ней выдержать! Это невозможно. Конечно, вам, господам…» Ну, и озорной Уткин, смеху-то что было!
* * *
Однажды рано утром зашел ко мне приятель Комаровский и рассказывает:
– Встал я рано, смотрю с террасы, а толстовцы вроде как взбесились: бегают по лугу перед домом, друг другу что-то машут, собираются по трое, четверо, толпами. Волнение у них. Я спросил: «Что это?» А мне Ольга Игнатьевна говорит: «У них нынче радость, у их графа, учителя, позавчера дочь родилась…»
Как-то по весне следующего года Комаровский приехал ко мне в Москву и в разговоре спросил, не был ли у меня толстовец.
Я удивился:
– А зачем ему приходить?
– Да неприятность вышла. На него три девицы подали в суд на содержание ребенка. Будто они от него родили. Ну он, сын богатого отца, очень боится, просил меня быть свидетелем, что с такими-то никогда я его вместе не встречал. К тебе хотел прийти. Девицы подали в суд – кто с кого, сколько. Женился кое-кто. Трудно разобрать, поди, дело такое.
– Не выдержали светлого учения, – говорю я приятелю.
– Да ведь мальчишки, молодые. Из них какой хочешь крендель пеки. Старших не слушаются. Грех один. Вот скопцы отчетливей работают… И чего только на Руси муки мученической бывает от учения этакого разного!
Звери
На нашей тайной земле человек – создание подобия господа, мудрый искатель справедливости. У меня в жизни было много встреч с людьми, и большими, и я видел много этих людей, озабоченных и обремененных исканиями правды и справедливости. Я уважал всегда этих людей и верил им. Но сам, к сожалению, не был умудрен в искании истины. Окружающая жизнь с ее простым бытом как-то увлекала меня, и я задумывался о пустяках.
Вот и сейчас я хочу только рассказать о том, как у меня в деревне, в моем деревянном доме, у большого леса, в глуши, жили со мной домашний баран, заяц и еж. И так скоро ко мне привыкли, что не отходили от меня.
Как-то, сидя вечером у леса, я увидел, как по травке Шел ко мне небольшой зверек – еж. Прямо подошел ко мне. Когда я его хотел взять, он свернулся в клубок, ощетинился, ужасно зафыркал и зашипел. Я накрыл его носовым платком.
– Нечего сердиться, – говорил я ему. – Пойдем ко мне жить.
Но он еще долго сердился. Я ему говорю: «Ежик, ежик», а он шипит и колется. Моя собака Феб смотрела на него с презрением. Я оставил ему в блюдечке молоко, и он без меня его пил.
Так он поселился жить у меня в дровах, у печки, и я его кормил хлебом и молоком. Постепенно он привык выходить на стук рукой по полу.
* * *
Заяц, которого мне принесли из лесу и продали, был небольшой. Голодный, он сейчас же стал есть капусту, морковь. Собаку Феба он бил нещадно лапами по морде так ловко и часто, что Феб уходил обиженный. Скоро заяц вырос и потолстел. Ел он целый день и был пуглив ужасно. Постоянно водя длинными ушами, он все прислушивался и вдруг бросался бежать опрометью, ударялся башкой в стену. И опять – как ни в чем не бывало, успокаивался скоро. В доме он все же не боялся ни меня, ни собаки, ни кота, ни барана большого, который жил со мной и почему-то не хотел никогда уходить в стадо. Заяц знал, что все эти его не тронут, он понимал, что эти, так сказать, сговорились жить вместе.
* * *
Я уходил неподалеку от дома, к реке, лесу и писал красками с натуры природу. Помню, Феб нес во рту складной большой зонт. Заяц прыгал около, а баран шел за мною в стороне.
Заяц не отходил от меня, боялся, должно быть, что поймают и съедят. Когда я писал с натуры, Феб спал на травке около, или искал по речке, или вспугивал кулика, а заяц сидел около меня и все водил ушами и слушал. Но ему надоело, что я сижу и пишу. Он вдруг начинал стучать по мне лапами и довольно больно. При этом как-то особенно глядел, будто говорил:
– Довольно ерундой заниматься. Пойдем гулять.
Слово «гулять» знали Феб, заяц и баран. Они любили гулять со мною.
А еж появлялся ночью, и было слышно, как он ходил по полу по всем комнатам, как уходил на террасу, в сад, пропадал. Но стоило мне постучать рукой, еж вскоре же возвращался. Баран ужасно боялся ежа, поднимал голову с большими завернутыми рогами, начинал топать передними ногами, как бы пугая того, а потом бросался бежать во все стороны.
Заяц не мог никогда прыгнуть на стул, кушетку, постель. И когда я ложился спать, заяц садился около, вставая на задние лапы, но прыгнуть ко мне не мог никогда. И приходилось его брать к себе за длинные уши. Я клал его на постель. Он очень любил спать со мной, плотно ко мне прижимался в ногах, протягивался и спал. Но уши его ходили во все стороны, и во сне он все слушал.
* * *
Как-то раз заяц разбудил меня. Он бил меня передними лапками по ногам. Я увидел, что заяц сидит, оробев, вытянув голову, и уши его прямо поднялись над головой.
Была зима. Я проснулся. Было четыре часа ночи.
Заяц был в отчаянном волнении. Он весь распластался и прятался, желая подлезть мне под спину. Потом соскочил на пол, сидел и слушал, потом бросился под комод, а задние лапы остались снаружи. Я встал и вытащил его за ноги из-под комода. Заяц отчаянно заплакал, закричал, как ребенок.
А утром сторож моего дома, дедушка Афанасий, говорил:
– Эва-то. Вот на што. Ныне в ночь на помойке за сараями эдаких два волчины приходили. Голодно, знать. Чего наследили, и у крыльца были. Думали, Феб не выйдет ли, али баран. Съесть хотели. Голодно, знать, стало. Поди-ка, выйдут тебе. Тоже знают. Феб и сейчас не идет. Как нюхнул в дверь – нет, не пошел.
– А баран, – говорю я, – чует тоже, поди?
– Нет, прямо дуром лезет. Ума у барана ничуть. Дурак. Только и умеет, что бодаться да жрать.
Я сказал дедушке, что заяц чуял ночью, напугался страсть как и меня разбудил.
– Вот ты и поди. Что в животных положено. Как это они врага слышат. А вот в человеке не вложено эдакого.
– Как же, – говорю я деду. – А заяц-то не понимает, что человек ему первый враг. Ведь человек его ест.
– Да вот это верно. Но этот, твой-то, верно, знает, что ты его любишь и уж нипочем не съешь. Ну, как это и чего? Заметь, ведь он тебя сторожит. Да чего еще и еж: в дровах-то спит, у печки, так и тот всю ночь шипел ноне. И он волка чует. А баран – ничего, хоть бы что. Дурак, как есть. Удивление – вот по осени тута, у балкона, в саду, змеину в аршин поймал. Держит ее во рту, та вертится. А он ее всю и съел. Вот спроси, и Павел видел. Диву дались.
– Должно быть – уж, – говорю я.
– То-то и нет. Змею съел. Вот, ведь, не ужалила его.
* * *
Зимой я надолго уезжал из деревни. Оставался один сторож-дедушка при доме. Он любил моих зверьков, а Феба я брал с собой в Москву.
Дед говорил мне:
– Скучно зимой-то. Ночи долгие, а с ними повадней. И все как-то вроде свои, родные.
И когда я приезжал, зверьки оживали. И были радостны со мной. Жили они в комнате дедушки, рядом с кухней. Спали вместе все. Баран – в огромной шерсти, теплой. У его живота спали кот, заяц и индюшки, которых в сильные морозы брали в дом.
Так по весне приехал я с приятелями своими, охотниками, к себе в деревню. Заяц вырос и потолстел. Баран стал совершенно круглым, оброс густо-темной шерстью и бодался. Еж ушел под дом и показывался только иногда ночью.
Приятели, с которыми я приехал, взяли у меня краску вермильон и выкрасили барану рога. Красные рога были ужасны. Вечером, когда мимо изгороди моего сада шло в деревню стадо, баран выбежал за ворота. Он всегда встречал овец. Те, увидав барана с красными рогами, бросились бежать опрометью во все стороны, кто куда. Баран гонялся за ними. Мне показалось, что ему как-то нравится, что его боятся. Коровы бегали за ним, желая бодаться.
– Это чего, – говорил пастух. – Это-то что ж? Чисто черт, рога красные. Всех разгонял, поди собирай.
Барану рога отмывали бензином. Глядя на зайца, охотник Герасим говорил:
– До чего здорово вырос! Этак-то ведь он лопнет. Ему бегать надо, а он все в доме.
Приятели вздумали зайца гонять, но что ни делали, заяц не бежал. Но все-таки придумали: в саду раздался залп из ружья, и я видел в окно, как через изгородь, через дорогу мчится заяц в моховое болото, а за ним – баран.
Наутро баран и заяц были дома.
– Вот что чудно-то, – говорил утром мне сторож-дед. – Проснулся я – чуть светает. Гляжу, а из мохового-то болота, вона тама, заяц-то прыгает, к нам идет. А за ним баран. Дивно ведь это. Подумай, зверь лесной, а дорогу к дому помнит, ведет за собою барана. А баран дорогу-то домой нипочем не найдет. Ума-то в ем ни чуточки нет.







