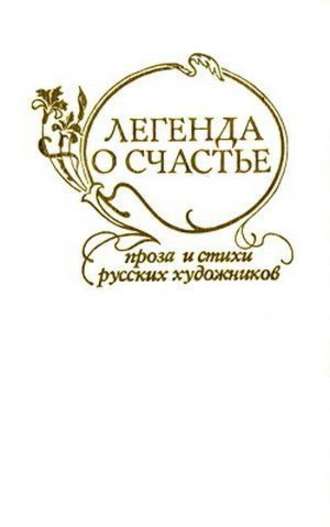
Николай Рерих
Легенда о счастье. Стихи и проза русских художников
– Забыл я сказать, Тарас Тихоныч, отец Степан заказывал тебе прийти сегодня утром, – соврал Сенька.
– Что ж ты, свинтус, раньше-то молчал? Скоро обед, а ты до сих пор ни слова, балбес!
Тараска начал собираться: надел крахмальную манишку, сильно засиженную мухами, жилет, сюртук, привесил медную цепочку, к которой вместо карманных часов был прикреплен просверленный пятак, и собрался совсем уже было уходить, когда Сенька доложил:
– Тарас Тихоныч! сурику нет, надо натереть.
– Что ж ты мне говоришь? Взял бы да и натер.
– Сам три, – огрызнулся Сенька.
– Ах ты, антихрист этакий! Да что это с тобой? Мне краски тереть?! Я, смотри, так тебе натру бока – долго чесаться будешь… Три, я тебе говорю! Не натрешь – убирайся из моей мастерской к черту!
Такая угроза была самым действительным средством, чтобы заставить повиноваться подмастерье, так как остаться без мастерской, одному, значило почти нищенствовать. Сенька притворился побежденным и в отсутствие Тараски истер весь сурик, имевшийся налицо, и издержал все вареное масло. Слил сурик в горшок и поставил в мастерской на окно, прикрыв содержимое бумажкой. Во все это время у Сеньки с лица не сходила самая ядовитая улыбка. Затем перенес тайком кошель с хлебом и пожитками на улицу, поставил возле ворот за дровами, а сам сел как ни в чем не бывало опять за свою работу. Слышит, идет Тараска пьян: ворчит и сильно стучит ногами о ступеньки лестницы; входит, и прямо к Сеньке.
– Что ты вздумал меня морочить, а? Тебя отец Степан и в глаза не видывал! – закричал Тараска, приправляя свои слова непозволительной бранью; всевозможная брань была стихия Тараски; как рыбе в воде или птице в воздухе – так и ему всякое сквернословие. – Что ты молчишь, растакой-сякой! – и бац Сеньку по затылку! Тараска был детина дородный, и знал Сенька по частому опыту, какого весу был хозяйский кулак, а на этот раз вес его увеличился вдвое, так что у Сеньки выпала палитра из рук и ударился он головою об икону, которую писал. Увидел подмастерье, что пришло время расплаты с хозяином. Первым его движением был скачок к окну, где стоял горшок с суриком, которым он и пустил прямо в Тараску, а сам в окно вместе с разбитой рамой, из второго этажа. Тараска, пораженный всем происшедшим и глядя на свою новую казинетовую пару,[51] всю в сурике, некоторое время стоял, как оглушенный громом, пока не собрался с силами и не пустился в погоню за беглецом, пятки которого уже далеко-далеко мелькали по селу. Видят селяне, несется во весь дух по улице Сенька с котомкой за плечами, за ним бежит Тараска, а за Тараской вся его мастерская от мала до велика. Тараска красен от сурика, как вареный рак, и кричит: «держи его, держи его!..» И не разберут селяне, в чем тут дело: в крови ли Тараска или горит ярким пламенем? Сеньку молодые ноги уносили, как козленка, Тараска же был тучен и тяжел на ногу да притом удушлив. Где огород – Сенька в один миг за ним, а Тараска лезет через него, как медвежонок; и когда Сенька был далеко уже в поле, Тараска устал так, что еле двигал ногами и только ругался всеми бранями, какие может выдумать человечество на потеху нечистому.
Около полсотни верст прошел Сенька, прежде чем прийти в родное село. Первое, что он сделал по приходе: привел отцовский материал в порядок и, написав икону, поставил ее на окно лицом на улицу. Ходил Сенька по селу барином, руки в карман и знать никого не хочет! «Того ли, мол, хотели?!» – думает про себя, глядя, как однодеревенцы выставляют дуги сушить на солнцепеке. Посматривает на них свысока да еле кивает головой на их приветствия; покуривает себе Сенька папироску да сплевывает на сторону… «Видали, мол, вас много таких-то…» – говорят все его движения.
– Наша почтение, Семен Иваныч! Давно ли прибыл? – кричат ему соседи.
– Недавно. Как дела твои, Карп?
– Да ничего, помаленьку… Слышал, иконы пописываешь?
– А ты думал как?…
– Доброе дело, доброе дело! Все вот собираюсь купить себе Илью Пророка, да никак не соберусь в город. Напиши-ка ты мне небольшого.
– Что ж, можно. Приходи завтра, как-нибудь столкуемся, – говорит и идет дальше.
В праздник едут прихожане в церковь мимо Сенькиной избы, едет мужик из города, куда он возил рожь на продажу, – видят иконы на окне – зайдут, справятся: нельзя ли купить или заказать? Скоро разошлась молва по околотку о том, что в Волме за рекой пишут иконы и занимается этим делом Иванов сын. Стали заказывать – берет недорого: двугривенный, четвертак на клею и сорок да полтинник на масле. Приедет мужик к обедне и зайдет к Семену Иванычу заказанную икону выкупить. Возьмет заказчик икону за два противоположных угла, держит поодаль от себя: как бы ненароком не задеть – и, поворачивая перед собой так и этак, скажет:
– А важно малюешь, прах тебя возьми.
Посмотрит заказчик и на оборотную сторону доски; постучит по ней согнутым указательным пальцем и по звуку уже знает: дерево сухое – не поведет да и соснарвена[52] как следует, не то, чтобы только «для видка», как в городе, – не жаль за такую работу и полтины. Загнет он полу у зипуна и вынет из глубокого кармана кисет с деньгами, где заодно лежит и трубка с табаком, отсчитает на жесткой ладони стопку медяков, трехкопеечников старого чекана, а то и николаевских десятикопеечников на ассигнации с добрую лепешку, что бабы пекут из малины на капустных листьях, отсчитает и вывалит на руку Семена Иваныча чистоганом четвертак. Но не отказывался он брать за работу и провизией: льном, яйцами, мукой и т. д. Дела шли хорошо, Семен Иваныч торжествовал. Купил самовар и попивал по вечерам чаек с баранками. Можно сказать: это была самая счастливая пора в жизни нашего героя – его апогей; ни до, ни после ему уж не удавалось испытывать того покоя, каким он наслаждался в своей Волме в дни юности. Самая счастливая пора в жизни каждого человека бывает только однажды. Иногда счастие только кажется таковым, заслоненное отзвуками забот и горя. Оно не так прочно, как несчастие: первое нужно удерживать, чтобы оно не ушло, второе идет всегда непрошеное и нежданное, и часто борьба с ним непосильна. Мечты Семена Иваныча не имели тогда пределов ни в настоящем, ни в будущем, пока они хотя немного осуществлялись. Первый год ему привалило работы, не успевал исполнять заказы; то надо для свадьбы икону, то в новую избу к богатому мужику; были заказы и в местную церковь. Но когда прошло, так сказать, горячее время, заказы на иконы стали перепадать реже, полтинник, два в неделю – заработок плохой. Вздумал он искать работу на стороне в соседнем селе, но там дела пошли еще хуже: нужно было платить за квартиру, и за хлеб, и за лошадь. Промаявшись по селам с год, Семен Иваныч приехал домой ни с чем. Глядит, а через дорогу на другой стороне улицы, как раз напротив, ненавистный Михаила выстроил новую избу. Еще более разобрала его злость, когда раз, проходя мимо той избы, увидел он, что Михайло стал расписывать дуги лучше прежнего: на рогах у дуги стали появляться написанные яркими красками львы, драконы, грифы. «Как он делает их, злодей?! – возмущался Семен Иваныч. – Возьмет, вырежет их ножом да и закрасит краской, какую Бог на душу положит». Мало того, видит он, что Михайло не остановился на одних дугах, а начал расписывать бабьи вальки, какими они белье выколачивают на реке; в этом уж Семен Иваныч заподозрил прямое подражание себе, просто воровство. Валек – это немного изогнутая доска, с короткой рукоятью наподобие небольшой лопатки, довольно толстая и обыкновенно из березы для тяжести. На лицевой верхней стороне валька Михайло по разным фонам начал писать на одной половине какой-нибудь замысловатый цветок – красный, синий или зеленый, а на другой, за поперечной чертой – коня. Семену Иванычу стало досадно и смешно; при первом же удобном случае он не замедлил это высказать.
– Что, Михайло, и ты нынче занялся живописью? Только не твоих это, брат, рук дело: тебе подходяща только черная работа, и не живопись; это уж оставь для рук почище твоих.
Михайло недоумевал.
– Да вот, – и Семен Иваныч взял один из вальков, выставленных на солнце, – конь-то какой – а?! Нешто такие бывают: желтый, а там зеленый, тут красный суриком – ха-ха-ха! Ай да конь! Где это ты таких видывал, любопытно было бы знать: не на семеновской ли ярмарке в городе или, может быть, у арапов или негров – а?
Михайло взял валек за рукоятку, повертел его так и сяк, посмотрел на коня – впрямь желтый – таких не бывает; но никогда он не задавался этим вопросом: бывают ли лошади желтые, зеленые и т. д.
– А нехай будет желтый: бабам веселее глядеть, – заключил он и поставил на старое место.
Семен Иваныч не унимался: ему хотелось вконец доконать соперника.
– А голова-то, голова какая: как огурец! А ноги? Э, какие вывел: колесом, ни дать – ни взять у бабы коромысло. Да разве, старина, такие ноги у лошадей бывают?
Михайло опять взял валек, посмотрел: и впрямь, такие не бывают, но и это он решил по-своему:
– А дуй его горой! не ехать ведь на нем.
Семен Иваныч только безнадежно махнул рукой и больше никогда не заговаривал с ним об этом предмете.
Вкусы Михаилы вполне отвечали мужицким требованиям; потому-то его товар и расходился так бойко на ярмарке. Поедет он на базар, накладет дуг полон воз, а приедет домой в пустых санях и привезет ребятишкам калачей да пряников. Семен Иваныч все это видит из окна, и горько ему делается. Стал и он возить иконы на базар, но они продавались плохо. Мужик, уезжая на ярмарку, все рассчитает, что ему нужно купить, и возьмет денег в аккурат столько, сколько необходимо на покупки: на соль, рыбу, свечи, лыко и т. д. А если бренчат в его глубоком кармане лишние медяки и поговаривают они весело, как бы просясь на волю, то он купит на них скорее бабе платок или хорошую красную опояску, а то калачей и ни в коем случае икону – вечерам чаек с баранками. Можно сказать: это была самая счастливая пора в жизни нашего героя – его апогей; ни до, ни после ему уж не удавалось испытывать того покоя, каким он наслаждался в своей Волме в дни юности. Самая счастливая пора в жизни каждого человека бывает только однажды. Иногда счастие только кажется таковым, заслоненное отзвуками забот и горя. Оно не так прочно, как несчастие: первое нужно удерживать, чтобы оно не ушло, второе идет всегда непрошеное и нежданное, и часто борьба с ним непосильна. Мечты Семена Иваныча не имели тогда пределов ни в настоящем, ни в будущем, пока они хотя немного осуществлялись. Первый год ему привалило работы, не успевал исполнять заказы; то надо для свадьбы икону, то в новую избу к богатому мужику; были заказы и в местную церковь. Но когда прошло, так сказать, горячее время, заказы на иконы стали перепадать реже, полтинник, два в неделю – заработок плохой. Вздумал он искать работу на стороне в соседнем селе, но там дела пошли еще хуже: нужно было платить за квартиру, и за хлеб, и за лошадь. Промаявшись по селам с год, Семен Иваныч приехал домой ни с чем. Глядит, а через дорогу на другой стороне улицы, как раз напротив, ненавистный Михаила выстроил новую избу. Еще более разобрала его злость, когда раз, проходя мимо той избы, увидел он, что Михайло стал расписывать дуги лучше прежнего: на рогах у дуги стали появляться написанные яркими красками львы, драконы, грифы. «Как он делает их, злодей?! – возмущался Семен Иваныч. – Возьмет, вырежет их ножом да и закрасит краской, какую Бог на душу положит». Мало того, видит он, что Михайло не остановился на одних дугах, а начал расписывать бабьи вальки, какими они белье выколачивают на реке; в этом уж Семен Иваныч заподозрил прямое подражание себе, просто воровство. Валек – это немного изогнутая доска, с короткой рукоятью наподобие небольшой лопатки, довольно толстая и обыкновенно из березы для тяжести. На лицевой верхней стороне валька Михайло по разным фонам начал писать на одной половине какой-нибудь замысловатый цветок – красный, синий или зеленый, а на другой, за поперечной чертой – коня. Семену Иванычу стало досадно и смешно; при первом же удобном случае он не замедлил это высказать.
– Что, Михайло, и ты нынче занялся живописью? Только не твоих это, брат, рук дело: тебе подходяща только черная работа, и не живопись; это уж оставь для рук почище твоих.
Михайло недоумевал.
– Да вот, – и Семен Иваныч взял один из вальков, выставленных на солнце, – конь-то какой – а?! Нешто такие бывают: желтый, а там зеленый, тут красный суриком – ха-ха-ха! Ай да конь! Где это ты таких видывал, любопытно было бы знать: не на семеновской ли ярмарке в городе или, может быть, у арапов или негров – а?
Михайло взял валек за рукоятку, повертел его так и сяк, посмотрел на коня – впрямь желтый – таких не бывает; но никогда он не задавался этим вопросом: бывают ли лошади желтые, зеленые и т. д.
– А нехай будет желтый: бабам веселее глядеть, – заключил он и поставил на старое место.
Семен Иваныч не унимался: ему хотелось вконец доконать соперника.
– А голова-то, голова какая: как огурец! А ноги? Э, какие вывел: колесом, ни дать – ни взять у бабы коромысло. Да разве, старина, такие ноги у лошадей бывают?
Михайло опять взял валек, посмотрел: и впрямь, такие не бывают, но и это он решил по-своему:
– А дуй его горой! не ехать ведь на нем.
Семен Иваныч только безнадежно махнул рукой и больше никогда не заговаривал с ним об этом предмете.
Вкусы Михайлы вполне отвечали мужицким требованиям; потому-то его товар и расходился так бойко на ярмарке. Поедет он на базар, накладет дуг полон воз, а приедет домой в пустых санях и привезет ребятишкам калачей да пряников. Семен Иваныч все это видит из окна, и горько ему делается. Стал и он возить иконы на базар, но они продавались плохо. Мужик, уезжая на ярмарку, все рассчитает, что ему нужно купить, и возьмет денег в аккурат столько, сколько необходимо на покупки: на соль, рыбу, свечи, лыко и т. д. А если бренчат в его глубоком кармане лишние медяки и поговаривают они весело, как бы просясь на волю, то он купит на них скорее бабе платок или хорошую красную опояску, а то калачей и ни в коем случае икону – вещь серьезную, которую, чтобы купить, надо посоветоваться еще с домашними.
– Что, Семен Иваныч, много ли наторговал? – спросят.
– Ничего, торговля шла хорошо, – соврет или скажет, что по делу в село ездил, не для торговли.
Михайло между тем не давал покоя; Семен Иваныч стал еще сильнее ненавидеть его, подозревая в нем тонкую ядовитую хитрость, когда видел Михайлу как нарочно выставлявшим свои расписные дуги и вальки чуть не перед самым его окном. Проснется Семен Иваныч, глядит – напротив уже горят на солнце ненавистные дуги и вальки.
– Краски, краски-то какие жарит, мошенник… этакий мужлан! – обругает его Семен Иваныч.
И стала чаще и чаще приходить ему на ум такая мысль: неужели весь век быть ему каким-то маляром, перебиваясь с копейки на копейку, малевать, чтобы угодить вкусам какого-нибудь Михайлы. Лежит у себя на полатях Семен Иваныч, подложив под голову руки, глядя в потолок, по которому ходят тараканы. Лежит и вспоминает копии с картин и оригиналы масляными красками, какие он видел в одном селе у живописца, учившегося в московском училище. Какая чистота письма, какие колера! Семен Иваныч не решался даже мечтать о подобном письме, но грезы о Москве, училище живописи и поприще истинного живописца нередко посещали его, как помышления грешника о рае. Он по целым часам сидел у окна, бесцельно глядя на улицу в то время, когда мысли его далеко витали от тех предметов, какие находились перед его глазами. Он не слышит, как зовут его обедать; сидит ли за мольбертом – мечты заставляют ничего не видеть и не слышать перед собой; среди воздушных замков он забывает и об иконе, стоящей перед ним и ждущей окончания, и о том, чтобы купить на вырученные за нее деньги пуд муки. Среди фантастических образов он забыл даже кровного своего врага Михайлу и обиду от плохой продажи икон. Сенька ходил как «ошалелый», говорила его мать, дававшая ему затрещины, когда тот, забывшись, ронял ложку прямо во щи. Терпеть больше стало невмочь – и Семен Иваныч объявил о своем намерении идти в Москву учиться живописи. Мать только услышала подобное решение сына – так руками и всплеснула и начала его журить на чем свет стоит, а потом стала выть и причитать, изливая тем свое горе. Она была права: кто теперь станет старуху поить-кормить, кто теперь станет беречь отцово добро, хотя и небольшое. При одной мысли расстаться с единственным чадом Сенюшкой сердце ее разрывалось на части, и плакала она горючими слезами. Пошла жаловаться на сына соседям, те в один голос решили, что дураку закон не писан, значит – ничего и не поделаешь. Сколотив на иконах кое-как рублей пятнадцать и захватив с собой в котомку три иконы св. Николая-чудотворца, Семен Иваныч считал себя готовым двинуться в дальний путь. Складывая порты и рубахи в котомку сына, мать обильно смачивала их слезами и причитала:
– Бесшабашная твоя головушка! и тебе ли идти в этакую даль да в такой город: сгубишь ты там башку не за денежку, и не видать тебе больше золотых крестов на родимой церкви. Этаким ли жить в больших городах, как тебе, дураку? Почище тебя живали, да и те голову свертывали, а тебе, сироте, среди чужих людей да на чужой стороне – и подавно.
Слушает Сенька такие материнские речи – только носом посапывает да головой потряхивает, и не сидится ему на одном месте, когда мать начнет журить: «ерзает, как сорока на коле» – чует, видно, правду – беспокоит она его, но и охота велика: так и тянет в Москву – не удержат, видно, слезы материнские. А когда пекла она попутники на дорогу сыну, трудно сказать: от соли они были так солоны или от слез материнских… В ночь накануне того, как идти сыну, она не ложилась спать и была озабоченно-суетлива. Тяжелое горе виднелось в этом бессмысленном скитании по избе и тупом рассеянном взгляде этих бесцветных выплаканных глаз… Глядя на спящего сына, она роняла безмолвные слезы и поправляла на сонном то рубашку, то платок на шее – Сенька спал в одежде, готовый тотчас же, как проснется, двинуться в путь. Он проснулся рано: будто вдруг кто его толкнул, побуждая вставать. Только начинал прокрадываться утренний свет, когда он, торопливо крестясь, вышел из своего дома. На селе все еще спали, и даже вторые петухи не успели еще прокричать. Вот они уже в поле: от села тянуло теплом и запахом дыма; на полях и лугах лежала роса, покрывая их матовым флером, и веяла в лицо путника сырым холодком; было тихо, ни звука. Впереди шел Семен Иваныч в новых лаптях, с котомкой за плечами и палкой в руке. Шел он все время без шапки, с обнаженной головой – такова была воля матери, и сын, чувствуя торжественность минуты, повиновался ей; хотя в другое время ослушался бы и даже огрызнулся. Она шла за ним немного поодаль, всхлипывая и сморкаясь в руку. Черныш, верная собака, весело бежал, думая сопровождать хозяина и с ним же вернуться обратно, обнюхивал каждый столбик у дороги, порой взглядывал на Семена Иваныча, вильнув при этом хвостом в знак особенно веселого расположения духа, и бежал дальше вприпрыжку на одну ногу. Когда они прошли одно поле, мать громко запричитала – сама собой, видно, пришла роковая минута разлуки… Сын остановился, заплакал тихо, отвернувшись и как-то неловко отирая рукавом слезы – они до сей поры были ему неизвестны…
– Не плачь, матушка! – утешал он ее сдавленным голосом, – буду помогать, жди письма. Узнаешь, кто поедет из свояков с извозом в Москву по зимнему пути, – дай весточку, пришли гостинцев, пришли валенки да шерстяные чулки… Ну, прощай! не поминай лихом, – и сын повалился в ноги к матери, как будто кто ему подсек колени. Мать вдруг судорожно зарыдала, но так же быстро замолкла, замерла, – она в первый раз в жизни увидела сыновнюю любовь… Шепча что-то невнятное, она крестила детище, ставшее матери в эту минуту дороже всего в мире и даже ее собственной жизни… Черныш, взвизгивая, прыгал к хозяину.
– Не до тебя тут!.. – злобно вскричал Семен Иваныч и больно ткнул его в бок.
Черныш жалобно взвыл и смиренно сел в сторону, глядя на происходившую сцену прощания матери с сыном.
– Храни тебя Христос! – проговорила мать и твердой рукой перекрестила сына в последний раз, крепко нажимая сложенными пальцами лоб, плечи и грудь сына. – Уходи! – произнесла она и отпустила сына, как бы оттолкнув его от себя.
Он без шапки, держа ее перед собой, молча пошел, не оглядываясь и понурив голову. Еще раз увидела его мать показавшимся на пригорке, но дальше катившиеся градом слезы помешали видеть что бы то ни было. Взошло солнце и. озарило холмы первыми золотыми лучами; вот зазвонили в селе к заутрене, затопили печи в деревне, а мать все стояла и смотрела в голубую даль, куда ушел ее сын – бесшабашная головушка; она тихо плакала и причитала, как причитают на могиле…
Три года пробыл Семен Иваныч в Москве. Поступил в одно из училищ живописи и в то же время работал у иконописца; страшно бедствовал и, между прочим, научился пьянствовать, сойдясь с дурной компанией. Но деревенская натура, воспитанная среди полей и лесов, сказалась в нем: он все время тосковал по матушке и по родной далекой Волме. Вспоминались ему и волменские поля и река под горой, в которой он лавливал раков и ершей; вспоминались и леса хвойные, тихо шумящие в дремоте, наклонившиеся над зеркально-чистыми озерами; не забыл он и деревенских друзей. Стояла на дворе осень, деревья желтели. Видел Семен Иваныч, как тянулись по небу вереницы журавлей, и сквозь неумолкаемый городской шум слышались ему их жалобные, тревожные курлыкания: будто торопили, звали эти звуки куда-то и тревожились за его судьбу. Ах, как хотелось ему тогда улететь с ними далеко-далеко, в свою милую Волму! Тянул ветерок с родимой сторонки, и ему казалось: запах деревни ощущался в нем, – дышал не надышался бы им – так мило было все, что хотя чем-нибудь напоминало родную сторону. «Скоро репа поспеет, станут ее после Гурьева дня резать», – думал Семен Иваныч, и при одной мысли о свежей репе у него оживала вся картина деревенской осени. Вставлены зимние рамы, в избе тепло и пахнет только что срезанным луком, рассыпанным на полатях для просушки; слышно, как бьется ставень о стену и скрипит на заржавелых петлях; по грязной улице поехал куда-то тепло одетый мужик на пегой лощадке; ревет где-то теленок жалобно и протяжно; с деревьев летит уже последний лист, срываемый яростными порывами ветра; серые дождливые облака тянутся из-за черных лесов и таких же черных полей. Но вот – и заморозки, и первый снежок-молодик: все как будто притихло под ним сразу и как бы надело шубу на заячьем теплом меху. Ставня не бьется, ветер затих, будто спрятался в лесах, покрытых пухом молодого снега, теленок смирно стоит в хлеве; все как будто лишилось языка шумной беспокойной осени. А сквозь разорванные тучи проглядывает ясная-ясная зелено-голубая лазурь неба. Красные кисти рябины, прихваченные легким морозцем, так и манят к себе. Кто-то прошел под окном, и слышно мягкое похрупывание снега под ногами идущего. От этих сладостных для деревенской души воспоминаний сердце Семена Иваныча усиленно билось и как бы заочно радовалось всему. Долго не думая, он сложил свои пожитки в котомку, взял у хозяина, которому помогал в иконописной мастерской, следовавшие за работу деньги, перекинул котомку за спину и, перекрестившись на московские храмы, пошел отмеривать версту за верстой, а их надо было пройти не одну сотню. По заморозкам пришел он домой, износивши лаптей без счету.
Нужно ли описывать радость матери?
Мигом облетела весть по селу, что у Ванюшихи сын вернулся. Вскоре изба ее наполнилась соседями, любопытствовавшими взглянуть на бывальца в Москве. Они приходили молча, крестились на передний угол и протягивали заскорузлые руки Семену Иванычу, а потом чинно садились по лавкам. Тут были и старики, седые да плешивые, и русоголовые мужики, все народ почтенный, между ними и Михайло. Были в числе гостей и подростки-парни, сверстники Семена Иваныча, с которыми он прежде бегивал в лес разорять вороньи гнезда, ловил раков в реке Волме и проч. Бабы держались больше около матери, видя в ней как бы отражение сына; они помогали ей стряпать пироги и шаньги, которые она пекла по случаю прихода сына. Семен Иваныч сначала всех угостил чаем, а почтенных стариков и мужиков под конец стал обносить водкой. У всех развязались языки: расспрашивали про Москву, что видел, что слышал идучи? Любопытствовали знать: видел ли царя? Семен Иваныч охотно отвечал на вопросы, немного иногда привирая. Стал под конец развертывать свои рисунки по просьбе гостей.
– Ну-ка, Семен Иваныч, показывай, чему тебя научили на чужой стороне? – говорили они, похлопывая его по плечу.
– Что ты нам каких-то мертвецов показываешь? – недовольно заявляли некоторые, глядя на рисунки с гипсов, где белый цвет и глаза без зрачков принимали за признаки мертвенности.
– Показывай дело, что пустяками хвастаешь?
Но так как другого ничего не оказалось, то они и решили:
– Видно, Семен Иваныч, тебе еще надо поучиться: знать, мало корчаг щей выхлебал.
Оскорбленный автор только плюнул и молча свернул рисунки. «Нечего с вами, дураками, и разговаривать», – подумал он.
При всем нежелании снова заняться иконописанием, нужда заставила промышлять хлеб прежним способом. Притом же в отсутствие хозяина дела пришли в самое жалкое состояние – надо было поправлять их. Избушка совсем развалилась, требовалось строить новую, лошадь продана была за подать, оставалась всего одна корова, да и та от старости еле таскала ноги. Волей-неволей Семен Иваныч принялся за иконы и притом по прежним ценам, тогда как в Москве он брал за них вдвое больше. На его счастье, заказали иконы в местную церковь, руководствуясь тем, что Семен Иваныч стал не простой какой-нибудь сельский богомаз, а живописец из Москвы. Этот заказ сразу поднял его на ноги и в то же время обольстил надеждой: он не прочь был прожить здесь и еще зиму, если бы пошли подобные заказы, а поездку в Москву для продолжения учения готов был оставить на неопределенное время. Дела Семена Иваныча стали быстро поправляться; тотчас после заказа в Волме получил он другой в соседнем селе: надо было писать иконостас. Без мастерской при таком деле не обойдешься, и Семен Иваныч сделался хозяином, набрав помощников и закупив в городу нужный материал. К прискорбию, сначала хороший хозяин – он превратился впоследствии в обыкновенного, не лучше Тараски, мастера и тузил подмастерьев, как и тот. Женился на дьяконской дочке из того села, где работал, – на «крылошанке»,[53] а не на какой-нибудь мужичке. Отстроил заново свой дом в Волме по образцу городского: с мезонином и в пять окон; выкрасил его в ярко-зеленую краску с белыми полосами – на загляденье всем, кто проезжал или проходил мимо.
– Чей это такой появился у вас дом? – осведомлялся прохожий у встречного, кивая головой на дом Семена Иваныча.
– Да здешнего богомаза Копысова – слыхал?
– Славный дом! Вплоть до города не встретишь такого. У мерзляковского писаря – хорош, но куда!.. и в подметки не годится этому. Не дом, а игрушка! – заключит прохожий и пойдет дальше, размышляя о том, как умудренный от Бога человек и жилище свое украшает, живописуя на нем травы и зверей разных… Вздохнувши, путник шел дальше, размышляя о. многом подобном.
Не малых хлопот и денег стоил Семену Иванычу такой дом. Если не бедствовал он ради постройки нового дома, то по крайней мере влез в долги и тем связал себя по рукам и ногам. Семен Иваныч в другом селе работает, а жена с детьми перебивается кое-как: занимает муку у соседей, берет в долг деньги. Приедет хозяин домой, надо тому, надо другому отдать, а денег не хватает; с горя возьмет да и «того», – как говаривал Егор Николаич, – «клюкнет» – выпьет втихомолку косушку-другую водки. Эта постыдная страсть, унаследованная от отца, с годами укоренилась в нем и, как ржавчина, внедрялась все глубже и глубже, подтачивая в основе организм, действуя подавляющим образом на волю. Все знали, что Семен Иваныч хотя и хороший мастер, но «зашибает», и стали не особенно доверять в работе: загуляет, не окончив заказ к сроку, пропьет материал – мало ли что может случиться у пьяного. А тут как назло враг его Михайло вновь отстроил свою избу. Правда, изба была простая деревенская, всего о трех окнах и даже не обита тесом, но выглядывала такой уютной и теплой, что всякому хотелось пожить в ней. Ставни у своей избы Михайло, на манер Семенова дома, размалевал цветами в банках, а на воротах развел целые сады киноварью с яблоками, а между деревьями по цветам пустил вороных коней. Даже Семен Иваныч, глядя на них, дивился:
– Вишь ты, куда метит! Откуда что взялось: не из тучи гром. Все это он у меня своровал, – заключил он, утешая себя.
Но Михайло чужд был воровства и даже подражания, а так же простодушно размалевывал ставни и ворота у своего дома, как это он делал, украшая вальки и дуги. В Семене Иваныче подымались прежняя зависть и злоба на соседа. Возвращаясь вечером из кабака, он, как вор, крадучись подойдет к дому Михайлы и, осмотревшись предварительно, не видит ли кто, заглянет в окна. Вокруг стола, видит, вся семья ужинает; ребята – народ все здоровый да веселый: только ложки мелькают вокруг общей чашки – не отстают от больших, а заревет – как в бочонок задудит. Жена Михайлы, баба ядреная да румяная, только поворачивается от печи к столу с чашкой, а сам хозяин с братьями сидят, как короли, за столом. Заглянет на крытый двор, везде порядок: стоят телеги крепкие, пара сильных лошадок громко жует сено. Тошно станет Семену Иванычу, глядя на свое и чужое. У него-то и дом пуст, и двор не лучше того; одна корова; ребята оборванцы и худы, постоянно плачут, а жена хоть и в ситцевых платьях ходит, но в дырявых; тогда как на Михайловых невестках и его жене простые сарафаны из домотканины всегда крепки и чисты. Придет домой – ни с того ни с сего раскричится на жену: отчего у ней непорядок в доме? Глядишь, вечером поздно, когда все село уже спит, Семен Иваныч пьяненький плетется домой и ругает про себя Михайлу, грозясь кулаком на его новую избу, а придет домой тише воды, ниже травы – да прямо в сарай спать. Но до чего дошла дерзость Михайлы!.. По своей простоте он однажды сказал при встрече с Семеном Иванычем:
– Давно я хочу заказать тебе икону; Иверскую ты мне написал бы, или Афонскую.
Семен Иваныч оглядел Михайлу с ног до головы и с расстановкой сказал:
– Сделать-то сделаю, а хватит ли у тебя грошей? Пожалуй, чего другого у тебя найдется – так ли?
– Что о деньгах говорить? Коли знатно намалюешь, не пожалею и зелененькой.







