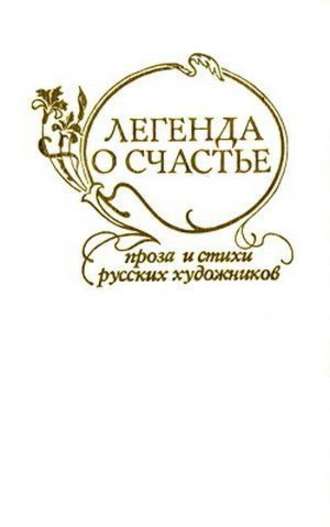
Николай Рерих
Легенда о счастье. Стихи и проза русских художников
Облик старой Москвы[56]
История города, которому посчастливилось быть центром жизни страны, в высшей степени поучительна. Как в фокусе, здесь сходятся равнодействующие всех влияний, складывающих национальный облик.
Такой город, как зеркало, отражает развитие страны. С характером этого поступательного движения неразрывно связано и внешнее изменение города: то и другое идет параллельно. Если зодчество, как прямое наследие привычек, вкусов, образа жизни и т. д., накладывает на внешний вид города характерный, свойственный только этому городу отпечаток, то в равной степени зодчество обусловливается и тем необходимым строительным материалом, какой находится под рукой для постройки стен и городских зданий. Если бы центр жизни, передвинувшись на север, благодаря давлению с юга кочевых орд и беспрестанных разорительных усобиц южнорусских князей, остановился где-нибудь на берегах Оки, богатых природным строительным камнем, а не двинулся дальше в дебри лесов, на болотистые берега Москвы-реки, то и внешний вид города был бы другой. Стоит только взглянуть на удивительную технику и красоту кладки и форм остатков древней белокаменной стены Серпухова, чтобы убедиться в справедливости этого заключения. Тогда, конечно, каменное зодчество заявило бы себя с большей энергией, дав формы неожиданные, и, быть может, оставило бы позади деревянное зодчество, с такой виртуозностью и силой выразившееся в лесной московской стороне. Но ужасы ордынских и княжеских погромов гнали дальше на север пульс жизни – на Волгу, Клязьму, Москву, и последняя как географический центр, стоявший вблизи верховьев притоков медленно текущих великих рек российской равнины, став в более выгодные условия перед другими, уже существовавшими городами Суздальской стороны, быстро стала развиваться. Если взглянуть на так называемый Сигизмундов план 1610 года,[57] где Москва представляет, в сущности, огромную деревню, то невольно поражаешься, перенеся взгляд к 1910 году – на триста ровно лет вперед – к виду современной нам Москвы: такую метаморфозу можно найти разве только в американских городах, вырастающих по щучьему веленью из нескольких лачуг и через несколько десятков лет превращающихся в огромные города. Начавшись в XII веке маленькой ячейкой в виде боярской усадьбы на взлобье холма при впадении реки Неглинной в Москву-реку, Москва-город на Герберштейновском плане[58] XVI века уже изображена в виде каменного Кремля с башнями, каменными храмами и дворцом и сплошь покрыта, как внутри Кремля, так и в пригородах, деревянными домами – избами с характерными наружными лестницами, какие мы встречаем и по сие время в деревнях средней и северней России. В начале XVII века на Сигизмундовом плане замечаем уже пригороженной к Кремлю кирпичную стену Китай-города и белокаменную – Царь-Города, или Белого, шедшего по теперешнему кольцу бульваров. Сверх того, эти каменные твердыни опоясывает по современной линии Садовых улиц деревянная стена с башнями искусной работы, заключавшей в себе деревянный город Скородом, он же и Земляной город, так как деревянная стена возвышалась на Земляном валу, рядом с которым был вырыт глубокий ров. За Скородомом, названным так потому, что здесь дома так же быстро строились, как и сгорали, тянулись пригороды: Ямские слободы, Кукуй, Немецкая слобода, Хамовники, деревни и села, непосредственно примыкавшие или на некотором расстоянии расположенные за стеной Земляного города.
Рассматривая Сигизмундов план да и все вообще планы Москвы XVII века, дошедшие до нашего времени (а их довольно много, так как всякий путешественник считал своим долгом зарисовать интересный город, изображая его с птичьего полета), невольно обращаешь внимание на доминирующее положение Кремля. Окруженный с трех сторон Белым, Земляным и Китай-городом и с юга – Стрелецкой слободой (Замоскворечье), сплошь деревянными, он высился среди домов с соломенными и тесовыми кровлями, буквально как будто среди большой богатой деревни. Вооружившись лупой, при дальнейшем рассматривании Сигизмундова плана, который, кстати сказать, имеется в Москве в двух экземплярах – в Историческом музее и в Музее С. И. Щукина, можно увидеть столько неожиданных подробностей, говорящих о внутренней жизни города, что не даст того иная книга. Тут и одворицы[59] с садами и грядами для овощей при них, бревенчатые мостовые, бани с журавцами для подъема воды, уличные решетки в конце улиц, ведущих к Кремлю, с воротами из крепких бревен. При этих решетках жили решеточные сторожа, запиравшие их на ночь и во время пожаров, чтобы преградить наплыв народа и грабителей, расхищавших имущество погорельцев. Продолжая рассматривать древние планы, можно заметить бражные тюрьмы, куда сажали вконец пропившихся, площади с продающимися на них бревнами и целыми срубами домов, как Лубянская и у Трубы, там, где теперь Петровский бульвар; царские сады, полигон в Стрелецкой слободе на болоте с обозначением пушек и т. д. Все это уносит в седую старину и говорит понятным всем временам и народам языком, как изображение давно минувшего.
Изрезанная из-за подпочвенных вод массой рек, речек и ручьев, таких, как Яуза, Неглинная, Черторый, Черногрязка и другие, от которых теперь остались только названия урочищ, Москва изобиловала деревянными мостами и мостиками, и если считать их десятками, то в этом не будет большой ошибки.
Эта подробность в топографии старой Москвы давала своеобразный характер ее пейзажу. Все мосты, за исключением ведущих в Кремль, были деревянные на сваях и некоторые довольно большие, как, например, мост через болото на месте современной Театральной площади; начинаясь у Охотного птичьего ряда, он кончался почти у Пушечно-литейного двора и имел длину около 50 сажен. Одни из мостов – горбатые, другие – пологие или наклонные к одному концу; при въездах на них имелись иногда часовни и кресты, так как мост считался местом опасным, в особенности в ночную пору, когда тати и разбойники, хоронившиеся под мостом, неожиданно нападали на прохожих, грабя и убивая их. По словам Таннера[60] и других путешественников XVII века, на прудах часто всплывали трупы утопленных, а по городским улицам каждое утро подбирали ограбленных и убитых за ночь – жизнь была тревожная. Мост, как неотъемлемая принадлежность пейзажа старой Москвы, по словам некоторых исследователей, в том числе и И.Е. Забелина, мог даже послужить поводом к наименованию города благодаря единственному в крае мосту через большую реку.
Первоначально селение могло называться Мостовой или Мос-т-квой, впоследствии изменившееся в сокращенное Мос-ква. В том нет ничего невероятного, так как единственная сухопутная дорога с запада и непосредственно с юга в северные и северо-восточные суздальские города по необходимости должна была пересечь многоводную тогда реку где-нибудь в среднем ее течении.
Мост изображен уже на самом древнем плане Герберштейна. Около моста сосредоточилась и жизнь. До XVIII века на Москворецкой улице, идущей к мосту, мы видим Мытный двор (таможню). Здесь церкви Меркурия Смоленского и Спаса Смоленского говорят о связи Москвы со Смоленском, а следовательно, и о дороге туда. Здесь же на многих планах обозначена торговая пристань и, по-видимому, амбары для складов товаров, привозимых по реке, что также подтверждает догадку о необходимости сосредоточения жизни именно у моста, послужившего причиной названия осевшего здесь города.
То обстоятельство, что самым замечательным архитектурным памятником XVII века был Большой Каменный мост, или Всехсвятский, говорит уже о том значении, какое имел тогда мост. Называемый современниками восьмым чудом света – до того он поражал тогда москвичей технической и художественной стороной – этот замечательный памятник русского зодчества был варварски разрушаем в продолжение двух следующих веков со времени его основания. Разрушали его не иноплеменники, а свои же русские люди – циркулярами, предписаниями и донесениями о необходимости разборки этого замечательного памятника из единственного желания перед кем-то выслужиться, а кстати, из камня, полученного при разборке, выстроить себе в одном из переулков уютный домик. Главный мотив искусственного разрушения – непрочность, «грозит опасностью жизни», как сообщалось в донесениях, – сам собою отпал: когда в половине XIX века приступили к окончательной сломке быков и сводов, то не только лом не брал крепкой цементировки камня, но и порох с трудом разрушал устои, следы основания которых мы видим теперь, идя по так называемому по старой памяти Каменному мосту, с торчащими из воды его остатками в виде рядов дубовых свай.
Печальный мартиролог этого памятника великолепно иллюстрирован сохранившимися рисунками. На гравюре Пикарта,[61] представляющей панораму Кремля, современного Петру I, он изображен в полной исправности и прекрасно передает облик этого навеки погибшего памятника русского зодчества. Около половины XVIII века он изображен уже без двух шатровых башен над шестью проезжими в Замоскворечье воротами, подобных тем, какие украшали Иверские ворота, но еще с основанием шестиворотной башни и галереей на мосту. В половине XIX века мост представляет собой уже только семь массивных арок.
Мосты в жизни старой Москвы имели немаловажное значение. Помимо того, что у большинства из них были водяные мельницы, на них шла бойкая торговля. Так, на только что упомянутом Всехсвятском мосту в каменных лавках торговали красным товаром и пивом. Сюда же, как на самое бойкое прохожее место, выводились под стражей так называемые языки – подследственные преступники в кандалах с лицами, завешенными тряпками, с отверстиями для глаз, оговаривавшие прохожих как соучастников. Оговоренных, большею частью несправедливо, схватывали и подвергали пыткам. Этот варварский и жестокий прием тогдашнего кривосудия был уничтожен только в половине XVIII века. На Спасском мосту у Фроловских ворот шла торговля книгами, на Воскресенском, у Воскресенских ворот (Иверских) торговали пряниками, так как неподалеку жили пряничники. Старый каменный мост у Троицких ворот, восстановленный теперь в том виде, какой он имел в XVI веке, также отличался оживлением; это была единственная дорога в Кремль с севера – из Занеглименья.
При дальнейшем рассматривании Сигизмундова плана замечаются характерные подробности обывательских построек – бочковые и кубовые кровли, а также колокольни на столбах, о которых упоминают многие современные путешественники. Эти колокольни по большей части представляли из себя простой столб с крышей наверху и с колоколами под ней, подобно тем столбам, какие мы и теперь видим в усадьбах и на фермах со звонками для созыва рабочих. Одна из таких колоколен изображена у церкви Христофора в Кремле на Ивановской площади; затем на фоне моря деревянных построек выплывают многочисленные деревянные церкви, одноглавые и пятиглавые. На рисунках Мейерберга они приобретают особенно оригинальную форму, отчасти напоминая сохранившиеся до сего времени церкви северного края.
Рассматривая другие планы Москвы – Федора Борисовича Годунова,[62] Михаила Федоровича, Олеария,[63] Матеуса Мериана,[64] Исаака Массы,[65] Мейерберга[66] и другие, мы встречаемся с теми же подробностями, как и в Сигизмундовом плане, но с добавлением новых. План Массы характерен обозначением золотых куполов и архитектурных деталей городских стен в Белом и Китай-городе. Годуновский план Кремля, послуживший И. Е. Забелину неисчерпаемым кладезем для изучения Кремля, дает такой же богатый материал для характеристики каменных построек, как Сигизмундов – для деревянных.
При сравнении того и другого плана уместно сделать заключение об их художественных достоинствах. Если Годуновский план благодаря значительно большему масштабу более точен и сделан с вполне правильными приемами топографического искусства, то Сигизмундов обнаруживает в авторе несомненного художника. Это, в сущности, пейзаж, сделанный с птичьего полета, как делались вообще все планы древней Москвы. Часть ее с улицами Никитской, Воздвиженкой, Знаменкой, с переулками и церквами очень характерна в этом отношении, так как художественно достоверно передает деревянные постройки древней Москвы.
В левом углу картины изображены старый Земский приказ, часть Кремлевской стены и Троицкие ворота с мостом через Неглиненские пруды и башней Кутафьей, по некоторым данным с подъемным мостом. Затем идет пустое пространство в сто сажен, отделяющее Занеглименье от Кремля для предохранения последнего от пожаров. Видны уличные решетки при въездах в улицы со стороны Кремля, мостовые, стены Белого города, пространство, отделяющее его от Земляного города, и площадь с церковью, вероятно, у Конюшенного двора, там, где до 1880 года была пересылочная тюрьма и где теперь построен Музей изящных искусств.
При сличении Годуновского и Сигизмундова планов Кремля замечаются некоторые особенности того и другого, свои неточности и совпадения; последние говорят о большей вероятности достоверности изображения. Так, совпадают намеченные улицы, идущие от Никольских ворот Кремля: Никольская, Житная и наперерез им – Троицкая, проходящая от Троицких ворот мимо Троицкого подворья с шатровой церковью Сергия, Цареборисова двора и Чудова монастыря.
На обоих планах на Ивановской площади изображена церковь Христофора и храм Черниговских чудотворцев, но звонница Ивана Великого на Годуновском плане, сходная с современной, воссоздана в том же виде, какой она имела до разрушения в 1812 году, на Сигизмундовом же – одноверхая, с закомарами и кокошниками. Хотя, быть может, тут виноват слишком малый масштаб Сигизмундова плана, где арки с колоколами вследствие этого вышли похожими на закомары. Зато пропорции Ивановской колокольни и рисунок ее взяты вернее. Золотая палата на Годуновском плане изображена схематически и довольно путано; на Сигизмундовом же ясно нарисованы как фасад, так и золотое крыльцо. Видны на том и другом плане в каменной стене Колымажные ворота, но без башни над ними, построенной позже, вероятно вместе с теремами. «Спас на Бору» очень тщательно нарисован на Годуновском плане и даже с деревом на запад, вероятно, имевшим какое-нибудь историческое значение. Некоторые здания на Сигизмундовом плане совершенно отсутствуют. Так, нет житниц у стены Кремля, начинавшихся у Никольских ворот. Но зато на Запасном дворце изображены очень интересные деревянные терема, построенные Дмитрием Самозванцем, которых, естественно, при Годунове не могло быть. Вид стен Кремля на Годуновском плане, бесспорно, более достоверен; это заключение подтверждается сравнением с рисунками Мейерберга, сделанными с натуры во второй половине XVII века, с некоторыми позднейшими добавлениями в виде, например, надстройки над Фроловскими воротами.
Среди других графических источников, разбросанных по альбомам, оставленным художниками, находившимися при посольствах, прежде всего обращает на себя внимание альбом Мейерберга, пейзажная сторона которого дает несомненные доказательства того, что рисунки деланы с натуры, и те архитектурные мотивы, какими переполнен альбом, вносят ценный вклад в историю изучения деревянного зодчества. Альбом Пальмквиста, шведского инженера, путешествовавшего по России в 1674 году, также дает ценный графический материал. Олеарий уже не так достоверен, и многие из гравюр о его путешествии по Московии сделаны по воспоминаниям или по рассказам. Правда, рисунки костюмов довольно правдоподобны и как будто взяты с натуры, что весьма удобно было сделать с костюмов, захваченных с собой посольством и рисованных потом в Германии. Искусство деревянного строительства в старой Москве, так высоко стоявшее, по словам путешественников, еще более подтверждается теми памятниками, какие дошли до нашего времени или остались в виде точных рисунков, каков, например, Коломенский дворец или деревянный теремок-кабачок, существовавший в XIX веке между Костромой и Ярославлем, который зарисован в альбоме А. Демидова,[67] художника, сопровождавшего его в путешествии по России в 1839 году. В 40-х годах с этих рисунков французский художник Andre Durand сделал серию литографий, составившую большой альбом, изданный Демидовым. Самобытность основных форм, разнообразие и оригинальность деталей в этих изображениях дают некоторые понятия о том богатстве деревянного зодчества, какое процветало до XIX века и заглохло впоследствии. Смутное представление о деревянных орнаментах, какими украшали свои дома москвичи, можно получить по некоторым письменным свидетельствам. В Стоглаве в порицание москвичам говорится так: «Над вратами домов христиан поставлены звери и змеи, и неверные храбрые мужи»; это те самые резанные из дерева львы, единороги и сирины, которые и до наших дней можно еще встретить на воротах домов по деревням и старинным захолустным городам. Коломенский дворец, вероятно, обильно украшенный этими «зверями и неверными храбрыми мужами», выражаясь образно, был только зеркалом, отражавшим за восемь верст современную ему Москву; в нем, как в фокусе, сосредоточивались всевозможные архитектурные мотивы крыш, окон, переходов, гульбищ и т. д., какими изобиловала тогдашняя Москва, и упомянутый трактир может служить как бы добавочным архитектурным звеном к Коломенскому дворцу; виртуозность замысла здесь соединена с удивительной ловкостью распоряжаться материалом, послушным топору и долоту. Какой бы ценный вклад был сделан в русскую архитектуру, если бы памятники деревянного зодчества старой Москвы не пожирались пламенем несколько раз в столетие! Огонь «растекался рекой», по образному выражению того времени, и эта огненная река сметала и превращала в пепел целые концы, унося вместе с домами дивные образцы узорочья, одежды, всякую «кузнь», иконы, мебель и иные плоды народного труда и творчества. И если бы не сохранившиеся на Севере остатки в виде деревянных церквей и иконостасов, резных расписных фронтонов на избах, резных наличников, ставней, ворот, то казалось бы, что связь с деревянным зодчеством прошлого безвозвратно погибла. Смутные следы архитектурных приемов прошлого, правда, мы видим и теперь. Что такое наши полукаменные дома, как не намек на каменные подклеты и деревянные жилые терема наверху, подобные деревянному терему Василия Ивановича на каменном Ивановском тереме или подобно дому Морозова в Кремле на рисунке Мейерберга? Что такое наши мезонины, чердаки, как не видоизмененные терема и теремки, ясные следы которых можно заметить на Сигизмундовом плане, с тою только разницею, что у нас конек мезонина перпендикулярен фасаду здания, на плане же параллелен, отчего получаются по концам дома два фронтона, один из которых соответствует нижней части дома, другой – терему. В деревнях же и в захолустных городах следы архитектурных мотивов прошлого можно проследить еще больше. Пройдет двадцать, тридцать лет, и на Москве не останется этих следов, напоминающих о деревянном теремном строительстве. Уголки Москвы с мезонинами, крылечками, застекленными галереями, какими мы любуемся еще теперь, будут скоро вытеснены шестиэтажными громадами.
Белокаменное зодчество в седой старине Москвы, начатое Иваном Калитой, продолжалось при его преемниках, переходя постепенно при итальянцах в кирпичное, достигшее в XVI и XVII веках высокого совершенства. Повторяя вначале основные формы деревянного зодчества, оно дало, именно благодаря этому обстоятельству, совершенно новые формы. Так, наружные деревянные лестницы на Герберштейновском плане превратились в красивые, не занимающие места внутри здания, декоративные придатки в виде лестниц на ползучих арках, с шатровыми покрытиями над площадками между маршами лестниц. Этот архитектурный мотив, так широко развитый в старой Москве, теперь, к сожалению, совершенно забыт. Прекрасный образец таких лестниц мы видим в маршах всходов Василия Блаженного; а прежде они были и у Грановитой палаты, у приказов, у посольских дворов, как на Ильинке, так и на Маросейке, и у многих боярских хором. Павел Алеппский[68] во второй половине XVII века, описывая храмы и дома московитов, украшенные рубленными из кирпича орнаментами и изразцами, приходил в восторг от изящества работы и удивлялся искусству, с каким мастера из грубого материала – кирпича вырубали тонкие узоры.
Характер природы, отразившийся в деревянном зодчестве, продолжал влиять на дальнейший ход строительного искусства. Обилие леса дало возможность обжигать массу кирпича и породило своеобразное искусство – ценинное, в тесном значении – гончарное, давшее в XVII веке поразительные памятники в виде муравленых печей, фризов и целых церковных главок и создавшее такой удивительный памятник, Как Крутицкий теремок, равного которому в этом роде искусства трудно найти не только в России, но и вообще в Европе. Занесенное с далекого Востока, из Средней Азии, ценинное искусство пришлось по душе натуре северного славянина, склонного к узорочью и краскам, и в начале XVIII века быстро заглохло из-за переноса центра жизни далеко на север, на неприютные болотистые берега Финского залива.
По словам иностранных послов и путешественников, Москва XVII века не уступала по величине Парижу и превышала многие выдающиеся города Европы; население ее достигало 200 тысяч жителей. Но, несмотря на обширную территорию, занимаемую Москвой, ее многолюдство и некоторую городскую организацию (о чем речь будет впереди), это была все-таки огромная деревня, притом же деревня трудовая. Все ее концы – с названиями Кожевники, Сыромятники, Серебряники, Гончары, Оружейники – разве не говорят о чисто народном характере города, разделенного на участки по роду занятий? Производя впечатление огромной деревни, старая, допетровская Москва во многом напоминала ее и внутренними распорядками. Непролазная грязь, болота, хотя и вымощенные по проездам бревнами, представляли для конного и пешего немало затруднений. О санитарном состоянии города можно судить по весьма характерной подробности в одном из документов о размежевании городских угодий. В планах старой Москвы, изданных Археологическим обществом в 1861 году, в одном месте сказано: «От саду до навозной кучи 34 сажени». Если в центре города в Занеглименье, неподалеку от Кремля, существовал подобный межевой знак, вероятно, почтенного возраста, то на окраинах, в Белом и Земляном городе, их было несравненно больше. О подобных нравах московских писали многие из путешественников – Таннер, Олеарий и другие, но это не дает еще права считать по крайней мере Москву XVII века городом неустроенным. При этом не нужно забывать, что в то время и города Европы не отличались большим благоустройством, и на улицах Парижа в XVII веке была такая же непролазная грязь и валялась падаль.
Несмотря на деревенский облик, древняя Москва имела свое городское управление. Был Земский приказ, и не один, а два – старый и новый. Один стоял на месте теперешнего Исторического музея, а другой – неподалеку от Троицких ворот, в Чертолье. Земский приказ ведал городскими делами. В его распоряжении находились мостовые, пожарное дело, богадельни, или убогие дома, больницы и проч. За мостовыми надзирали так называемые «мостовые головы»; на обязанности их лежало следить за починкой мостовых и уборкой с них грязи на огороды и в сады.
Мостовые были бревенчатые и шли по всем главным улицам. Следы древних мостовых легко можно было заметить при прокладке на улицах водопроводных и канализационных труб лет семь-восемь назад. Они представлялись в виде деревянной настилки на аршин ниже булыжной мостовой; их можно было наблюдать на Мясницкой, Москворецкой, Тверской и других улицах. На последней мостовая была, по-видимому, из белого камня, о чем можно было заключить по грудам этого материала, вынутого из канализационных траншей. В этом предположении нет ничего невероятного, так как эта улица была самая главная, называлась Царской, и по ней обыкновенно совершались торжественные въезды послов. В самых бойких местах – в Кремле, Китай-городе – поверх бревенчатой мостовой вдоль настилались доски, что устраняло тряску. Продольную настилку можно проследить на Годуновском и на частичных планах Москвы, изданных в 1898 году. Комиссией печатания государственных грамот и договоров. Езда по таким мостовым, по всей вероятности, была несравненно покойнее, чем по современным булыжным. Были извозчики, и путешественники находили езду очень быстрой и недорогой – за каждый конец платилась копейка, причем, проехав на копейку, извозчик останавливался и, если седок хотел ехать дальше, требовал еще копейку.
Существовали убогие дома – богадельни. На обязанности божедомов лежало воспитание подкидышей, а также они должны были подбирать на улицах убитых и залившихся. Были «зяблые больницы» – не то для обмороженных, не то дома для обогревания во время сильных морозов. Была своя городская полиция – земские ярыжки с буквами З и Я на груди. Были «пожарные головы», заведовавшие пожарным делом; а в конце XVII века появились даже пожарные трубы – машины, по крайней мере, в Кремле. В том же веке в Кремле был устроен и водопровод. «Хитростройными художествы возвел (архитектор) воду из Москвы-реки на царский двор ради великого потребления», – как сказано в записях того времени про это знаменательное для москвичей событие. Вода была проведена с Портомойной (Свибловой) башни по свинцовым трубам в Запасной дворец, в висячие сады, в Теремной дворец и, судя по некоторым данным, к Фроловским воротам. Все это говорит в пользу того, что культурные начинания не были чужды и старой, допетровской Москве, а такие учреждения, как Заиконоспасская академия, Печатный двор, Монетный двор, стоявший на Полянке и от которого осталось только название Старомонетного переулка, Пушечно-литейный двор и т. д., заставляют вспомнить более или менее монументальные здания, возвышавшиеся среди деревянных обывательских одвориц и придававшие Москве вид внушительного, культурного и богатого города.
Но что же было главным пульсом жизни этого интересного города? Что сплачивало его двухсоттысячное население? Сложившееся мнение, что старая Москва была только вотчиной князя или царя, работавшей на их двор, едва ли справедливо. Целые концы и улицы, названные по роду занятий их обитателей, едва ли могли иметь целью своего производства единственно только снабжение царского или княжеского дома. Для царских потребностей были при Теремах Мастерская и Оружейная палаты, где вырабатывались предметы самого разнообразного характера, а если чего не хватало, то покупалось на стороне. Если Иван Грозный, терзаемый враждой к боярам, основал свой отдельный в Москве город и для прокорма жадной опричнины окружил его улицами и переулками по роду занятий, какие несли опричники при дворе, исполняя обязанности хлебников, скатертников и проч., оставивших после себя память в названиях улиц и переулков целого района, то это не дает права заключить, что и другие концы Москвы – Котельники, Гончары, Кожевники, Сыромятники, Хамовники и проч. – тоже служили исключительно для царских потребностей.
Получая из-за границы и городов русских разные товары, Москва должна же была давать что-нибудь в обмен. А предметы обмена, судя по самым разнообразным родам занятий в многолюдных концах Москвы, были многочисленны и давали образцы высокого искусства, вроде ценинного дела или серебряного, породившего своеобразные виды производства, каковы, например, обронные и сканые работы. Всякая «кузнь», куда причислялись и ювелирные изделия, обнаруживала тонкий художественный вкус и умение, судя по церковной утвари, басменным и эмалевым окладам и ризам на иконах. Техника в некоторых производствах стояла не менее высоко. Секрет выделки кож – сафьяна, замши, находившийся в руках московских кожевенников, ставил Москву в исключительно благоприятные условия для торговли с иностранцами и русскими городами.
Иконное дело, достигшее в Москве в XVII веке небывалого до того времени подъема в художественном и техническом отношениях, также поставило ее в очень выгодные условия перед другими русскими городами, так как давало обильный и ценный материал для обмена. Такие имена, как Рублев, Ушаков, и образовавшиеся целые иконописные школы (Строгановская, царских писем) говорят о недюжинных успехах этой отрасли художества. Писались целые руководства по иконописи, составлялись всевозможные технические рецепты и советы, вроде того, как приготовлять золото, краски, грунтовку. Стоит вспомнить известное описание подготовки грунта к стенописи Успенского собора, чтобы убедиться в той серьезности, с какой относились московиты к иконописному делу. Помеченный в Кремле на рисунке Мейерберга иконописный терем говорит уже как бы о начале в Москве художественной школы, через сто с лишком лет возродившейся на берегах Невы в Академии художеств.
Строй художественного и всякого вообще производства был по преимуществу семейно-кустарный. Производство всевозможных узорочий – вышивок, кружев – ютилось по теремам бояр, по монастырям. Всякая «кузнь» и ценинное дело производилось тоже по дворам, не развиваясь в широкое заводское и фабричное производство. В этом было большое преимущество, дававшее свободу личному творчеству, выразившемуся с таким разнообразием и художественностью в памятниках прикладного искусства, дошедших до нашего времени, какими мы теперь любуемся в церквах, музеях и дворцах. Таким образом, трудовой уклад народного города, выразившийся в разделении труда наподобие средневековых цехов, дал неизгладимые следы в продуктах свободного творчества. Этот же чисто народный характер наложил своеобразную печать и на его облик.
Попробуем перенестись воображением на триста – четыреста лет назад и проследить то, что подскажут нам мысль и чувство в воссозданном смутном образе того, что когда-то было. Центр средневекового уклада жизни города сосредоточивался в Кремле. Здесь были главные храмы, жили царь, митрополит и самые богатые и властные мужики – бояре; здесь находились приказы на Ивановской площади, где шли суды и расправы. Окруженный со всех сторон водой и рвами, он имел вид неприступного замка, как его и называли иностранцы. С юга его замыкали река Москва и двойные стены, со стороны Красной площади – глубокий ров, обложенный кирпичом и наполненный водой по подземной трубе из Верхнего Неглиненского пруда, находившегося за Воскресенским мостом, там, где теперь площадь перед зданием бывшей думы; с запада, на месте теперешнего Александровского сада – глубокие Неглиненские Нижние пруды с мостами и мукомольными мельницами при них.







