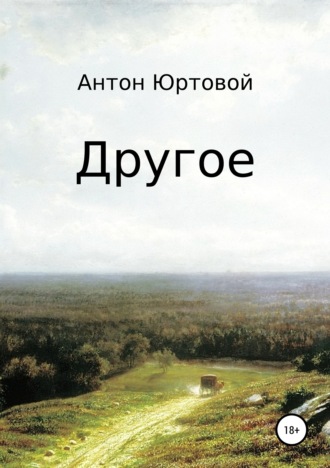
Антон Юртовой
Другое. Сборник
Эта отрезвляющая истина показалась очень подходящей к событию; с нею поэту передалась даже некоторая весёлость, которую не следовало, конечно, выставлять на вид, но которую он всегда почитал доброю своею подругою в его состояниях беззаботности и тайных отдохновений. Том осознавании самого себя, когда неизменным было рождение новых наиболее удачных стихов или, во всяком случае, мыслей, за которыми начинали проступать стихи…
Скрывая чувство, похожее на благодарность и возникшее под влиянием услышанных в этой ночной глуши собственных его строк, Алекс хитровато сощурил глаза; лёгкая улыбка появилась на его губах:
– Не в дар, – сказал он, передавая пистолеты и удерживая их за стволы, направленные на себя.
– Ещё два слова. Поручаетесь ли честью? Это для нас было бы гарантией. Другой не найти. Но, как поэт, можете не уступать…
– Цена моей жизни?
– Нет. Скорее – цена жизней наших друзей.
– Разбойничьих жизней.
– Как хотите.
– Браво! Моя честь – она же и ваша. Просьба мне понятна. Берусь её выполнить. Тайну сохраню.
Переговоры явно затягивались. Но теперь они уже подходили к концу.
Двое, каждый, казалось, по-своему нащупывали друг у друга что-нибудь сближающее, общее; и это, похоже, удавалось. Более осторожничал, конечно, собеседник Алекса. Так или иначе, а у него не убывало отягощавшей его ответственности, и она не была абстрактной. Опасным приходилось предполагать ему что угодно, и его осторожность и беспокойство могли быть охранительным средством сразу для многих. Теперь это хорошо замечалось внешне. Главарь в одно мгновение смахнул свои жесты и движения, которыми ранее подкреплялись его скупые слова и фразы. Они становились лишними. Он стоял не шевелясь и молча, видимо, заново перебирая последствия, вытекавшие из поведения и ручательства визави.
У Алекса же всё было иначе. Ему было интересно. Он не хотел острых воспоминаний о нападениях волков, и они не занимали его. Малосущественное и побочное.
А вот о самой прогулке в поле и угрюмых неотвязных размышлениях там и более всего о попытке покончить с собой вспоминать почему-то хотелось. Даже перед кем-нибудь поделиться этим. И, может быть, тут же перевести в иронию с неким совершенно ясным, но чуток затворённым смыслом.
– Не поверите ли, – обратился он к собеседнику, – я отходил отсюда, чтобы себя убить…
Признанием он остался доволен. Однако оно хоть и готовилось, но – было ещё неизвестно, – для кого и для чего. Может быть, ни для кого и ни для чего. Момент, однако, нельзя было считать ординарным; он требовал приведения в порядок мыслей, хотя в целом и вызывавшихся возбуждением и вроде бы не оторванным ото всего, что касалось возникшего нового сумбурного обстоятельства, но всё же – неостановимо стороживших прежнее, отдалившееся.
«Всего-то минуты прошли, – вдруг подумалось ему, – когда в начале торга о переуступке чести через меня просквозило сожаление: отчего там, в одиночестве и темноте, посреди поля я не направил себе пулю в сердце или в висок? Только в том бы состояла справедливость, нужная мне за всё, чем я стал уже давно, очень давно».
В контуре фигуры напротив по-прежнему не проявлялось никакого движения или хотя бы случайного жеста. Алекс почувствовал, как на него накатывает обескураженность: на такое необычное признание да столь холодное пренебрежение! Напрасным ожидание всё же не было. Испытав транс, он, видимо, просто плохо услеживал за течением времени. До слуха дошли слова:
– Мы об этом знали. И были очень огорчены. Уже ничем бы не могли помешать…
Произносимое походило на то, что уже прозвучало от разбойника раньше, в тот момент, когда нерасположенность поэта чуть было не перешла во взаимную необратимую враждебность.
Да, да, как раз тогда незнакомец успел смягчить ситуацию и перевести её в компромисс.
Он жёстко парировал сословное геройство поэта, терявшее всякую цену, так как оно не могло быть защищено обычными средствами.
Снова за главарём оставался верх, и не признавать этого было нельзя.
Явно сбитый с толку, Алекс выговорил:
– Не дадите ли пояснений?
– Те, – визави шевельнул рукой по направлению, куда отошли подельники, – успели осмотреть… Могло быть добро или провизия…– в горле у него зарокотало искреннее сочувствие. – Нашли какие-то мелочи да ещё книгу. Я и догадался по ней, когда кучер показал, кто вы и – где.
– Что же – книга?
– Я первый, кто её читал. Ещё при написании.
– Вы?..
– Я был у автора в полном доверии.
– Его положение меня интересует. Кто он?
– Он умер; издание предпринято незадолго до того… Он имел возможность убедиться в его полезности…
На ум Алексу опять пришла мысль о совпадениях.
На этот раз её вектор вновь устремлялся во тьму, в ту сторону, где поэт, уже проваливаясь в безумие, отпугивал изготовленную к нападению на него волчью стаю.
Теперь ему опять казалось, что чувство, будто он сходит с ума, вернулось и медленно и упорно теснит его внутренний мир прочь от пока сознаваемой им смещённой реальности.
«Странный человек!» – думалось ему снова и снова.
Мысли у Алекса пошли сталкиваться и биться одна о другую, множась, вихрясь и разлетаясь.
Буквально всё только что слышанное представлялось полным существенного значения и загадочности; но, разумеется, не было возможности тут же, в сырой ночи, собранно подступиться к разрешению тайны. Она сплошь закрывала взбудораженную любознательность, не оставляя никакой надежды на утоление.
Определённо, события развивались таким путём, когда была бы лишённой хоть какого-либо смысла любая попытка заговорить о скуке, обнаруженной в книге. Да это в высшей степени стало бы и некорректным и оскорбительным по отношению к личности предводителя, не отказавшегося от диалога, явно для него лишнего.
Как бы о нём ни думать, имея в виду его мерзостное занятие, а он уже внушал к себе немалое и небеспочвенное уважение. Потом: разве в данном случае уместно предпочитать более важным вещам невнятные разглагольствования о туманной особенности повествования? Ведь теперь уже, кажется, почти сам автор предстал перед тобой, – не угодно ли соблюдать хотя бы элементарный такт? Ни в коем случае нельзя допустить упрёка, не имеющего основы. Ещё точнее: образованному и порядочному человеку не пристало выражать о литературном произведении что-либо осуждающее, при том, что автор ему неизвестен или пусть даже находится рядом, и, кроме того, оставалось неясным, существовало ли об этой литературной вещи хоть какое общественное мнение. Ему, поэту, тем более надо бы было иметь такое в виду!
Вызревало желание хоть каким-то образом удержать обстоятельства в их пока и очень короткой, но уже быстро ускользающей неизменности! Где, однако, та власть, которая могла бы поспособствовать этому? По всей видимости, автора книги преследовала не только мучительная зависимость от содержания того, что выходило у него из-под его пера; действие подлого рока, не увязанного ни с книгою, как таковою, ни с выпуском её в свет, также не вполне исключалось… Дальше: не может ли быть такого, что этот вот человек, возможно, только играющий в разбойника, причастен к истории более чем просто доверием автора? И в чём оно могло состоять?
Не под его ли влиянием или по его советам, может быть, даже – весьма настойчивым, шло наполнение формы? С самого начала. Или на каком-то этапе. Вследствие чего ткань повествования приобретала оштриховку унылой искусственности…
Также, конечно, не исключалось и то, что только что появившийся перед ним немногословный субъект мог быть и самим автором произведения, предпочитавшим оставаться инкогнито…
Ситуация не располагала к получению ответов на возникавшие и роившиеся вопросы. Главарь уже отходил от поэта, и будто не существовало для него больше нечаянной дорожной встречи или, раз уж она произошла, ей не следовало придавать ровно никакого значения: впереди оставались хлопоты для него первостепенные и неотложные.
И в самом деле – разбойники уже торопливо шептались в голове повозки. Было заметно: каждый прилагал максимум усилий, чтобы не обронить ни слова полноценным голосовым порядком, вследствие чего разобрать, что говорилось, было невозможно. Слухом Алекс улавливал только интонации, и из них не могло не следовать, что езда вскоре должна продолжиться, и теперь истекают, может быть, последние мгновения до краёв наполненною тревогою, растянувшейся, нежелательной её виновникам остановки. Задержки, оказавшейся для него, поэта, в общем-то не только безопасной, но и становящейся как бы очень необходимой…
Ожидая какой угодно развязки, он отчётливо сознавал и быстро укреплялся в созревшем пожелании, исходившем из его неистребимой потребности как литератора: отсюда он ехать никуда не хочет! Определённо не хочет! Ну, что ему этот помещик-доброхот с его амбициями и увещеваниями?
Как следовало из его письма, в имении теперь гостила и горела желанием увидеться с ним, Алексом, графиня К*, молодая, красивая и изящная, муж которой, отставной генерал, надолго выехал на лечение куда-то за границу… Ещё о ней было сказано, что она изнывает от тоски без привычного для неё света. Алекс был немного знаком с нею. Но что с того?.. Если бы из письма или коротких встреч с доброхотом не вытекало его обещания займа, то эта странная поездка, скорее, не состоялась бы вовсе. Разве что нельзя было исключить желания хотя бы накоротке увидеться с его прелестной старшей дочкою Аней – на её тайный зов…
Стоя у кибитки и держась рукою за скобку открытой дверцы, поэт всеми чувствами противился любой перемене, которая могла и должна была произойти в течение ближайших минут.
Пусть и дальше его окружает всё то, что стало добавлением к путешествию, ещё даже не завершённому в его первой части: эта незнакомая глухая и глыбистая дорога, избранная слепым кучером; глубокая, непроницаемая и всеохватная густота мрака, будто бы всё ещё не позволяющая взойти и подняться над горизонтом истомлённой в её вечном и безостановочном движении луне; какая-то всюду проникающая сырая промозглость; чередования приступов природной тишины с порывами коротких, почти у самой земли, вихрей; волчий скулёж; и тревожный, долго не заканчивающийся шёпот разбойников, чьи одежды, фигуры, лица и выражения лиц ему, видимо, так и не суждено будет разглядеть и запомнить.
Магия скучной книги опять и опять объединяла в одно целое разбегавшиеся короткие всплески мыслей, давила на них со всё возраставшим усилием. И деться им было некуда.
«Что имел в виду этот вроде бы неглупый болезненный предводитель, будто между прочим сказавший, что он уже заранее знал о моём намерении убить себя исходя из того, что я успел познакомиться с повестью бедняги автора? Бывало ли подобное с кем-нибудь? Надо бы это знать. Хотя – нет, не совсем то…»
Можно ли было уяснить, что всего важнее в этой дорожной встрече, коли неизвестным в ней оставалось буквально всё – от начала? Сведения об авторе, как личности, – не в них ли первейший ключ к уразумению происходящего? Или можно ограничиться лишь содержанием книги, в одном случае взвихрившем израненную чувственность его, пассажира-скитальца, а в другом – возможно, укрепившем некие представления о справедливости в читателе, чем-то похожем на автора и перевоплотившемся в разбойника?
Больше не хотелось изводить себя, подставляясь под такие вопросы: занятие не к месту и не ко времени.
Того, однако, требовал сам предмет обдумывания, как бы загородивший собою всё остальное вокруг.
Он вызывал новые приступы самооценок, подобно тому, как это уже происходило при чтении книги.
Становилось до крайности необходимым и неотложным объяснение тому нелепому и почти горькому, состоящему в том, что и сама книга, и хоть какие-то, пусть даже мимолётные комментарии к ней, которых просто не могло не быть при постоянном прибавлении численности обозревателей и оповестителей о содержании нараставшего книжного потока, – что эти составляющие интеллектуального интереса не дошли до него, человека и любознательного и участливого. В светском обществе, которое считает его своим, безостановочно перемалывается в пыль и большое и малое.
Неужто, находясь в центре всеобщего внимания, и связанных с этим бескрайних пересудов, он не имел возможности знать о выходе издания? А если ещё автор его – провинциал, то это обстоятельство должно бы было восприниматься по-особенному живо и пристрастно. Такого не произошло. Значит, говорил поэт сам себе, и здесь у него полный короб неблагополучия.
Подверженный светской суете, он не замечал, как из него вымывалось нечто в нём стержневое, принадлежащее исключительно ему.
Да, он оставался общителен и всезнающ, но эти общительность и всезнайство помещены в узкие дворянские рамки; не раздвигая их, человек обречён быть чёрствым, ленивым, совесть его засыпает и просыпается редко, только перед лицом необычного, странного и непредсказуемого, как вот сейчас…
Кто-то из разбойников сдержанно несколько раз свистнул.
Тотчас неподалёку, в той стороне, откуда Алекс вернулся не застреленный собою и не тронутый волками, донеслись шаги по стерне, сопровождаемые тихим говором. Шорох быстро приближался к кибитке, и вскоре ещё три человеческих силуэта придвинулись к ней из темноты.
Двое пришедших несли третьего, удерживая его за подколенья и за спину; тот, видимо, был без памяти, замотанная в тряпки голова болталась на стороны или опускалась вперёд; изо рта вылетали невнятные звуки болезненного страдальческого бреда; черты лица не просматривались и не угадывались.
Было ясно, что двое, принесшие его, те самые, очертания которых Алекс едва мог разглядеть у края скирды, когда они торопливо пробежали от неё в сторону леса. Разбойники столпились у дверцы, изготовившись разместить беспомощного в кибитке. Алекс отступил, выжидая и тяжело отрываясь от будораживших его чувствований.
– Наш товарищ, – подойдя к нему ближе, сказал главарь. – Изодран медведем. Прошу извинения – проедет часть пути…
Последовал лёгкий шум, которым сопровождалось торопливое размещение несчастного внутри фуры, когда каждый считал нужным быть как можно расторопнее и осторожнее в движениях, чтобы не допустить усиления и без того мучительных болей у сотоварища. И как только компания с этим управилась, двое, доставившие бедолагу, сразу отступили в сторону и скрылись из виду, поглощённые темнотой.
– Едем! – обобщённо бросил вожак находившимся при фуре.
Значит, повеление относилось и к поэту. Больше ничего не оставалось, как втиснуться вовнутрь и закрыться дверцей.
Его плечо плотно упиралось в безвольную слабую упругость обессиленного тела пострадавшего, которое тут же посунулось книзу. С другой стороны от раненого уселся вожак. Сразу стало очень душно. Теневое движение на облучке показывало, что и там теперь не только возничий.
Лошади тронулись, подрагивая, встряхиваясь и чуть всхрапывая; их, как и людей, успели утомить и само стояние, и опасения, исходившие от затаившейся темноты, тяжело закрывавшей ближний окоём.
В порывах ветра, хотя и заметно ослабевавшего, в узком пространстве между деревьями, дорогой и небом ощущалось какое-то необъяснимое действо местных природных сил, добавлявших как бы заданной тревожности и чуть ли не страха.
В унисон этому состоянию шуршал и похлопывал кожаный верх кибитки и мягко вздувались её войлочные боковины, будто она надувала щёки.
Раненый резко мотал головой, дёргал плечами, бормотал невнятицу. Он был в жару.
– Ну, полно, Акимушка, будет… – участливо говорил ему предводитель, пробуя сжаться, чтобы дать тому больше места. – Понимаете? – произнёс он неожиданно доверительно и довольно громко обращаясь к Алексу, – не повезло ему. Молод совсем. Сбежал от рекрутчины, а тут вот это. В боку тяжёлая вмятина с порывом и стянут затылок. Пробуем найти лекаря. Иначе – не жилец…
Что было на это ответить?
Предложить содействие протекцией? Чьей? Помещика, перед которым, возможно, придётся заново обговаривать сумму займа? Или – тоскующей графини? Дать денег из имеющихся и не отнятых? Никакой из вариантов не годился, ведь изуродованному зверем помощь была нужна безотлагательная, непременно сейчас…
Без труда можно было представить содержание бедственной жизни этих обитателей тьмы, вытесненных из людского сообщества. Где они обретаются? Вероятно, в какой-то потайной землянке. Ни чего одеть, ни пищи. Надежды на возвращение с покаянием нет или она призрачна: прощения не будет, и кончится или выпоркой до смертной меры, или сибирской каторгой до конца жизни, обязательно с клеймением.
Как мерзко: вина вменяется уже простым фактом побега. Но убежавшие, которых при поимке разумнее было бы просто вернуть на прежнее место, нуждаются во всём, как и другие люди. Обстоятельства ведут к разбоям. Может, беглые только в редких случаях оказывались бы в шайках по своей воле, да куда им деться? Вина раскладывается на всех сразу – и разбойников, и примкнувших к ним по случаю.
«И вот она, моя империя! – думал поэт. – Отдаём ли отчёт разделению на свет и на падших? И не есть ли нескончаемая фальшь в текстах литературы, даже если они талантливы, когда они предназначены исключительно свету? Мои, о чём я не перестаю твердить, – в ряду как раз таких. Что я знаю об этих моих попутчиках? Об их чувствованиях? Пожеланиях? Надеждах? Ничего абсолютно. Ещё вот и книга; она из незнакомого мне мира, не для света. Если в свете о ней и говорили, то быстро кончили. Интерес у сытых не возбуждён…»
Всходившая наконец-то луна медленно и заворожённо поднималась по своей орбите, и небо просветлело, закрываемое только частью исчезавшей сплошной мрачной завесы; быстро устанавливалось безветрие, и облака, уже не двигаясь, просто висели крупными редкими лоскутьями, будто в раздумьях перед чем-то, чего предположить было невозможно или даже опасно. В открывшихся участках неба роями замелькали звёзды.
О сне даже вспоминать не хотелось. Толклось и смешивалось в уме самое разное. В непрерывном перестуке и скрипе ступиц и шелестении гужей обнаруживалось отсутствие взвонов колокольчика: разбойники, заботясь о скрытности, понудили кучера снять его.
Судорожные частые подёргивания кибитки на неровностях дороги добавляли страданий несчастному, стеснённому соседями слева и справа.
Вместе, бок о бок, в одном направлении ехали представители двух сословий, ещё ни одного дня во всей мировой истории не жившие одно без другого и никогда не имевшие намерений избавиться от взаимной неприязни и подозрений…
«Я круглый идиот, – сказал себе Алекс. – Да и один ли я? О какой свободе мы иногда говорим или думаем? Возможно ли представить её – как предмет, как явление? Или хотя бы утилитарно – как часть содержания нашей жизни?»
По звукам, издававшимся фурою и всей повозкою, угадывалось изменение пейзажа. Тут была урема. В таких местах о содержании проезжей части в более-менее пригодном для езды состоянии заботиться было, как правило, некому, поскольку такие прогоны хотя и оказывались намного короче, но считались обузой для собственников территорий, по которым они пролегали. В порядке вещей было и то, что владельцы массивов леса не знали о появлявшихся тут тесных проездных артериях, и те, вследствие этого, могли считаться ненужными в развитии хозяйствования, оставаясь как бы ничейными, с присущей им заброшенностью и таинственностью.
Она, такая таинственность, воспринималась, конечно, тем угрюмее и могла воздействовать на проезжавших тем угрожающе, что по одной даже не очень протяжённой уреме путь подобного рода мог быть не один. На некотором расстоянии от него, подальше от русла реки в том же направлении прокладывался другой, а то и третий – они выбирались как недосягаемые для сильных половодий. Не могло быть сомнений: шалившая здесь беглая братия намеренно пользовалась теперь наиболее неудобным из таковых, но зато – менее для неё опасным: в ночное время здесь можно было чувствовать себя почти в полной защищённости; на нет сходила даже вероятность обнаружения кого-либо из укрывающихся по лошадиному ржанью, которое в любой момент и где угодно становилось неизбежным, представляя видовые, исходившие из природных потребностей и отправлений позывы животных о своём расположении относительно тех из их вида, которые двигались на сближение и узнавались обонянием.
Деревья совсем близко подступали к дороге, по которой теперь тащилась кибитка, и там, где корневища соединяли обе их стены, во множестве давали себя знать то ли ещё не сбитый и не искрошенный пень, то ли неувезённая и не оттащенная подале в сторону лесина, особенно если она была ещё не истлевшей, жёсткой; также были существенной помехою выбоины на проезжей части, замедлявшие продвижение; они оставались постоянно сырыми и вязкими, поскольку не просыхали после дождей, а отдельные были заполнены водою, вероятно, всегда; лошади здесь часто спотыкались, их дыхание поминутно сбивалось, а фура, наезжая на препятствия, поднималась на добрых полколеса вверх и тут же резко опускалась вниз; из-под копыт и колёс вылетали и шмякались рядом выплески пахнувшей плесенью грязи; каскад звуков в этих местах приобретал гнетущую окраску: лошади мучительно всхрапывали, упряжка торохтела и гремела, что, разумеется, было вовсе нежелательным для разбойников.
«Можно ли быть собою при обстоятельствах, как теперь? Я не знаю. Нет у меня злобивости и претензий к этим жалким людям. Но не могу и расположением ответить. Что бы вышло из этого? Какой-либо абсурд, не более…»
Приходилось терпеливо и молча сносить молчание вожака. После короткого неожиданного извещения в момент, когда кибитка тронулась, тот, похоже, больше не собирался заговаривать с Алексом.
Время от времени он повторял в одном и том же осторожном тихом пошёптывании: «Ну, полно, Акимушка, будет…» Он, разумеется, хорошо знал, что, скорее, это поддержка состояния повышенной осторожности и вынужденного бодствования в самом себе, чем услуга израненному товарищу. Хотя пользы от такой косвенной помощи не могло быть ровным счётом никакой, не чувствовалось, что вожак изберёт в целях получения большего эффекта нечто иное.
«Акимушка!..»
Что это мог быть тот самый сбежавший рекрут, которого Маруся называла своим суженым, у Алекса не вызывало уже никаких сомнений.
Ему казалось невозможным разрушить то, что совершенно легко оборачивалось явью, совпадением, хотя и случайным.
Отсюда не могли не вытекать уже и явственные, реальные соображения, связанные с фактом побега. В памяти опять возникали впечатления и чувства, какими Алекс непроизвольно проникался, когда ему дважды пришлось быть на перекрёстке у Неееевского, неподалёку от моста, – будучи там на пешей прогулке с Марусей и – уже покидая его, отправляясь в эту вот часть поездки.
Наверняка о произошедшем с Акимом скоро узнает Маруся и – только для того, чтобы испытать во всей полноте свои душевные мучения и закрыть все былые надежды, погружаясь в глубочайшую пропасть неясных и убивающих переживаний.
Они должны быть ещё горше, если Аким останется жив и его изловят.
Не обойдётся без дознания, к разбирательству обязательно понадобится приобщить и оставленную без суженого крепостную. Того она вряд ли увидит. В усадьбе Екатерины Львовны, ввиду вменяемой в таких случаях, хотя и необоснованной вины за сбежавшего рекрута ей достанется весь набор унижений и отчаяния, какой выпадает на долю изгоев.
Её положение окажется намного хуже, чем то, которое делало незамужнюю женщину даже не вдовой, а ничейной молодкой, полностью беззащитной и перед местною неразборчивою молвою, и перед сумбурными домогательствами ретивых удальцов, как своих, так и заезжих.
За лучшее для неё было бы выйти замуж теперь же, но оно, замужество, было уже невозможным в желанном для неё смысле, поскольку в нём не оставалось бы места для прежней искренней и по-настоящему горячей любви, которою связывались предсвадебные узы, её и Акима, и, кроме того, всё тут зависело уже лишь от воли барыни. Та или выдаст Марусю замуж за кого-то из крепостных в своём имении по её суровому и вздорному усмотрению, когда мужем оказался бы даже, конечно, не кто-то из молодых, а наверняка убогий старец, скорее всего из бобылей, инвалидов или слабоумных, а то помещица и вовсе избавится от неё, продав куда-нибудь на сторону или приобретя за неё некую нужную в хозяйстве утварь…
Состояние попутчика, доставшегося медведю, ясно указывало на такое неизбежное течение событий. Он глухо постанывал и мямлил несвязный бред, разобрать в котором ничего было нельзя.
Из-за потери сознания он, видимо, совершенно не ощущал тяжёлых болей, а только всё время сползал книзу. От тела раненого исходило сырое тепло и острый запах давнего насыщенного пота. Алексу казалось, что они липко оседают у него на лице и шее, что ими уже заполнены его глаза, уши, ноздри, рот и лёгкие.
Присутствию же вожака он теперь начинал придавать значение как факту оскорбляющему и почти зловещему. Наверняка, уже нельзя было рассчитывать на возобновление разговора с ним о судьбе автора книги и тем более о её содержании.
Тут виделось некое сознательное предательство, состоящее в том, что интерес поэта к этим предметам был вожаком сначала как бы инициирован, но утолению интереса резко была поставлена немая завеса, причём оставалось очевидным, что вожак не только догадывается о неудовольствии, доставляемом его поведением пленному, но знает об этом определённо, твёрдо уверен в этом. То есть возникала ситуация ущемления чести.
Будь такая обида нанесена в светской среде, поэт, не задумываясь, принял бы её за вызов, ответить на который значило применить оружие; но как-то даже представить было невозможной дуэль с этим незнакомцем, по воле досадного случая встреченного посреди дороги, в безлюдной и чуждой тьме, одинаково равнодушной к любому, кто в ней мог очутиться.
Как такое должно быть тут устроено, когда нет ни секундантов, ни достаточного знания противниками друг о друге, ни даже возможности выбрать подходящее место? Не говоря уже о том, что и пистолетов если и набралось бы достаточно, то все они пока в одних руках. Да и серьёзно ли бросаться вызовом, не имея чести, поскольку она самим же её владельцем отдана, хотя и под влиянием насилия? Такого мир не видал!
В поединке терялось бы его истинное, строго сословное значение, и он походил бы на обычную драку повздоривших шалопаев из крепостных. «И неужели человеком такого неподобающего склада становился бы теперь я, поэт, призванный твёрдо стоять над низменным и уже доказавший, что это по моим силам и никак не вяжется с пристрастиями черни?»
Алекс одёрнул себя этой устыжающей фразой. Мысль о дуэли, впрочем, покинула его не сразу. Уж кого-кого, а оборотня Мэрта он бы не преминул поставить перед собой на расстояние смертельного выстрела! Даже если бы невнятным представлялось требование к нему: то есть – церемониться с поводом для вызова не следовало… Теперь, однако, за лучшее было вернуться к благоразумию. Ведь выхода-то нет, а значит надо просто терпеливо ждать, выдерживая бессвязный бред пострадавшего и угнетавшую тесноту.
– Вы – дворянин? – обратился к молчавшему вожаку Алекс, чтобы хоть как-то разрядить общее безмолвие между ними.
– Потерянный… – было ответом.
– Не назовётесь ли? Я бы хотел удостовериться… о написавшем…
– Сожалею, но вынужден… – сказанное главарём оказалось резко прервано кашлем, скрыть который не было никакой возможности, и его приступ был не только продолжительным, но, как представлялось, и – довольно мучительным. – Мои извинения…
Становилось понятным, что вожак больше ничего говорить не собирается, и в первое мгновение, когда тот, переборов-таки приступ кашля, опять погрузился в отстраняющее молчание, Алекса это даже устроило.
Где-то в глубинах его мозга всё-таки продолжала пульсировать мысль о дуэли, о её хотя и сомнительной целесообразности в сложившихся обстоятельствах. Но, легко и без задержки ответив на заданный ему вопрос, вожак одновременно указывал на то, что ему также хорошо известны все тонкости проведения ритуала по отстаиванию чести, принятого в дворянской среде, и – даже на то, что в текущем моменте, ввиду утраты статуса дворянина, он не мог бы рассчитывать на обсуждение условий поединка с противником на французском языке, как это, при отсутствии секундантов, двое могли бы предпочесть соответственно регламенту.
Будто бы и главарь был подвержен тем же размышлениям, касавшимся темы дуэли, что и поэт, без труда опережая его!
В итоге использование двоими хорошо известного им и крайне сурового разборочного средства попросту отторгалось само собой – как непригодное по всем основаниям.
Что же касалось ответа на второй вопрос, то он хотя и невнятен из-за недуга, но скроен полностью в соответствии с обстоятельствами.
Следовало ли оглашать то, чего ни единой сторонней душе знать не полагалось, так как позже разглашённое годилось бы стать важной частью в некоей цепочке улик?.. А что в пленнике главарь просто обязан был видеть чужака и опасаться его, хотя бы на крайний случай, – этого ведь нельзя было не признавать. Нет, главарь помалкивал и держался отстранённо явно и не только из-за своей болезненности, а, тем более – не из трусости…
Этот загадочный человек вновь демонстрировал своё умение брать верх в общении, тем самым как бы посрамляя другого. Причём общение он сводил до пределов, до минимума. Как и в предыдущем, Алекса это не могло не задевать.
В нём тяжёлою глыбою громоздились упрёки в его собственной неуместной назойливости. «Даже эта черта моего характера, – говорил он себе, – чисто сословная; a priori ею подвержено всё в моей сущности, но я не умею пользоваться ею с определённой целью, когда пробую рассматривать иной для меня мир. Войти в него, в этот мир, отодвинутый светом из опасения быть им погубленным, вряд ли возможно с капризною дворянской меркою, и две стороны жизни так и остаются отделёнными одна от другой…»
Время шло, лишённое признаков своего течения. По-прежнему обмяклым и беспомощным оставалось тело израненного; оно вздёргивалось и исходило тяжёлым запахом пота. Вожак уже не подбадривал Акима. От него можно было слышать только сбивавшееся дыхание, что указывало на осознаваемую им и весьма нужную в данном случае собранность и бдительность. Он, возможно, подрёмывал, превозмогая першение в горле.
Конечно, это обозначало, что он очень устал и ему было необходимо хоть немного расслабиться, передохнуть. Над деревьями и над экипажем провисали монотонные негромкие узоры колёсного перестука, шлёпанья копыт, живого движения лошадиных мускулов, шелестения и поскрипывания упряжи и сбруй.
«Я думаю о себе и не могу представить, что бы я мог думать о моих случайных попутчиках, – мозг Алекса никак не уравновешивался в своей работе, прибавляя новых неожиданных соображений. – Странное состояние. Пожалуй, и в отношении меня им также думать нечего, ведь они знать не знают меня как человека и даже не могли разглядеть, каков я. Разве лишь предводитель отличается от остальных. Уж ему-то, надо полагать, известно немало про меня, поскольку моё имя неразрывно с литературою, где он, очевидно, сведущ. Как же бы иначе он мог иметь отношение к автору книги? Но его воздействие на меня какое-то странное и непонятное. Властолюбив? Кто знает. Или это подобие гипноза. Ему не передалось моё раздражение, значит, он уверен в себе, и его хладнокровие устойчивее моего. Но вот же – что мне делать? Ведь дорога не вечно будет тянуться. И я ничего не узнаю…»





