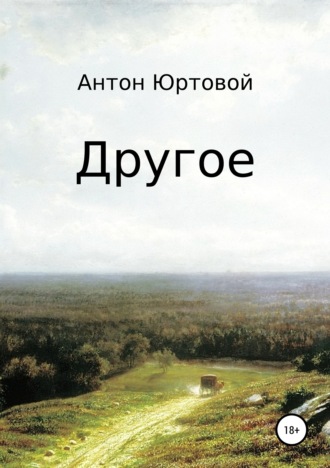
Антон Юртовой
Другое. Сборник
«Аня – светлое, доброе и доверчивое дитя, – размышлял он, продолжая внимательно вслушиваться в её слова и фразы. – Но её судьба в самом деле ужасно исковеркана и притом – ещё с пелёнок. В большей части – тою губительною силой, какую имеют молва и обычай следовать, подчиняться ей.
Конечно, Фил и Андрей поступили дурно, приоткрывая интимные фамильные закулисья. Дурно из-за того, что разоблачающие сведения они выдавали, будучи в недовольстве и в крайнем раздражении, к тому же такие сведения были, как можно их понимать, не вполне достоверными, а имели они место или попросту выдуманы, – кроме как растревоженного семейства, никого нисколько не должно бы это интересовать и касаться. Нет же – расчёт делался именно на огласку, на укорение в пороках перед лицом неких непристрастных и вроде как весьма многочисленных судей. Будто бы только и ждущих, как бы посмаковать разглашённое и принять беспрекословный гневный и осуждающий вердикт. Девушке не справиться с такой лавиною. Свободой, которою она пропиталась в извращённой усадебной обстановке, она теперь может распорядиться лишь в соответствии с возникшими перед ней угрозами и со своей оскорблённой невиновностью, то есть уже – неким непредсказуемым протестным образом.
В моих объятиях она оказалась именно ввиду такой вот причины, из отчаяния, не видя выхода, в пику попиранию её прав и по велению её чистого сердца, принеся себя в жертву…
И – могу ли осуждать её?..»
Как бы в унисон этому вопросу, содержавшему категорическое отрицание, он слышал от неё:
– Ты меня, верно, бранишь?..
– За что же?
– Ну вот за это… что мы с тобой…
Она плотнее прижималась к его боку, вдавливаясь в это место и возбуждая в поэте блаженство прикосновением всею массою повёрнутой к нему упругой, взбухшей от избытка взволнованности груди; – там билось и трепетало ненасыщаемое желание зрелой и ещё не растраченной женской молодости.
– Разве это повод к неприязни! Я, как и ты, желал этого, и ещё с того же дня… Ну, как будто искра прошла сквозь нас, а сейчас – от неё зажглось… Понимаешь?
– Ты умеешь так просто объяснить. Я и сама что-то в себе такое находила, но объяснить бы затруднилась. Как мне приятно с тобой… А скажи, ты – женат?
– Не смею обманывать. Да, моя Аннушка, женат. Имею уже и сына с дочерью.
– Но, наверное, ты столь же искренен и с другими женщинами, ну – кроме жены?..
– Если бы тебе хотелось, чтобы я сказал, что с ними – неискренен, то – изволь. Однако – можешь ли ты верить такому сама?
– Стало быть, изменяешь часто? Ведь ты по возрасту мне уже чуть ли не в отцы годишься…
– Да. И начиналось это уже давно. Ещё раньше твоих теперешних лет. Кстати, ты ведь тоже готова была любить – ещё, наверное, подростком? Сознайся! Хотя бы в мечтах. А вскоре и – в ожиданиях, телесно, как говорят в таких случаях… Позволь извиниться: из-за чего устраивались твои смотрины? Не просто же во чью-то блажь?..
– И что всё такое должно означать?
– Да только то, что мы часто не вольны в своей чувственности. Даже больше – не вольны всегда. Природа требует своего… А – сколько соблазнов! Спрошу тебя: могла бы ты простить своих батюшку с матушкой, посочувствовать им?
– Пожалуй, теперь могла бы… Однако же мы все скованы нравственностью, да и не ею одной… Прощая и выражая сочувствие родным, я должна бы признать, что наговоры, коснувшиеся меня, обоснованны, и я в самом деле могла быть рождена от связи, оставшейся невыявленной… И в таком же положении могут находиться другие, очень многие… В чём истина?
– Люди если и постигли бы её, то всё равно её бы не придерживались. Может быть, и не все, но – большая их часть. Запрещения естественного – противоестественны… Я понятно выражаюсь?
– Ничего не могла бы оспорить. Ах ты, мой сладкий наставник! Я бы тебя любила всегда. Теперь говори: ты бы женился на мне? Нет, не сейчас, это никак невозможно, а – прежде – когда ещё не был женат?
– С большою охотою и с удовольствием! – Он стиснул её в объятиях, осыпая поцелуями. – Но сразу скажу… Не обидишься?
– Нет, милый…
– Поклянись!
– Клянусь всем святым на свете!!! Гореть мне в огне, если откажусь от клятвы, какую даю сейчас!
– Верным тебе я бы смог быть совсем недолго… Я не в меру влюбчив…
– Изменял бы?
– Понимай, как хочешь…
– Бр-р-р!.. Впрочем, осуждать тебя я не имею права. Ты ведь мужчина…
– А ты как юная женщина просто ещё не знаешь себя!..
– Как раз этого я бы и не сказала! Знаю!
– Что же?
– Это – тайна…
– Только твоя или и вашего семейства тоже?
– И то и другое; не могу предположить, что тебе захочется узнать её не от меня. Клянись: не захочется!
– Клянусь! И – сгореть мне от молнии и стыда! – Он улыбался, радуясь, что возникшая словесная перепалка перетекала в нечто шутливое и забавлявшее уже обоих. – Однако, полагаю, мне всё же будет дано узнать её?
– Узнаешь.
– Когда? Мне уезжать… послезавтра…
– Собирайся и поезжай, когда захочешь и когда надо.
– А – как же с тайной?
– Она во мне, и, кажется, я сумею сохранить её.
– Долго?
– Узнаешь.
– Но…
– Когда придёт время! – Она уже смеялась и, похоже, ей было в удовольствие похваляться перед ним такою своей загадочностью, указав на неё столь неожиданно и чувствуя, как он непритворно заинтересован или даже заворожён ею.
– Я преклоняюсь перед тобою… Я покорён… Тебя нельзя не любить… – шептал он ей на ушко, испытывая прибывание в нём очередного приступа вожделения. – Только всё же не забудь о тайне. Поделишься?..
– Могу и забыть. Я ведь теперь уже совсем женщина…
– А я то вроде как забыл…
– Приди же ко мне! Вот она я… – и они смеялись и радовались оба, перемежая смех ласками и забытьём огневой страсти, охваченные счастьем от постижения родственности их душ и не обращая внимания на то, что от ночи, щедро одарившей их божественными наслаждениями, уже оставались буквально крохи…
Приглашённый Филимоном к завтраку, он спросил у того, знает ли он, по какому случаю в поместье пребывают жандармы. Раз уж встреча с управляющим откладывалась, он собирался провести наступивший новый день с возможно большею пользой.
Это, как он считал, позволило бы ему быть в лучшей готовности – и к процедуре оформления займа, и к не оставлявшему его намерению выполнить принятое от Андрея важное наставление, да и его писательству могло стать нелишним подспорьем.
– Как не знать, ваше превосходительство. – Было видно: холоп охочь до разговоров. – Наши, – он оглянулся, не стоял ли кто поблизости за спиной, – того… забунтовались… Недоимка выросла… из-за беглых… Подушные за них переложены на обчество. И вольным не сладко. Уходить из имения им не с руки, не с чем, капиталов-то не имеют, вот и служат, как прежде. Воля им хуже неволи. А ещё с баричем, их сынком, Андреем Ильичём… Пошли разговоры, что он попал к разбойникам, а те, мол, требуют, за него выкупные и – не мелочью… Опять же собирать с обчества… Правда ли с выкупными или только чтоб заполучить ещё один вершок, неизвестно… Барин тут полагаются на старание управляющего… Ну и – застроптивились… Прочих имений у семейства Лемовских, кроме энтого, шесть, и они уже все на ладан дышат. Тяжело и тем, кто отпущен и завёл своё дело – на пристани, мельнице, рубке леса, конезаводчик… Земля-то по-прежнему у господ, сдаётся в аренду, ставки и по ней повышены… Участились убеги…
– Стало быть, недовольство… И что же – принимались меры? Что происходило, коль понадобились жандармы?
– Собирали сход. Поспоримши, дрались. Подступались к барину, да вольные не позволяли… Кто больше шумел, тех служивые пробовали хватать, но толку не вышло. Разбрелись и вернулись уже с ружьями, ножами, косами… По ним прибывшие дали залпом. Барин их отговаривали; его не послушали… Опять прицельно… Наших поранило… Тут сбежались бабы, детвора, старичьё… Кто-то из ружья в самого ближнего, что стоял рядом с Ильёй Кондратьичем и кричал команды. И сразу в покойники… Ну и – в отомщение… Троих пораненных били нещадно и закололи, почитай прилюдно… штыками-с…Ещё пятерых держат в колодках на псарне, измываются… А барина заарестовали и повезли с собой…
– Того, что командовал, тут знали?
– Сказывают, из дальнего уезда, помещицы-вдовы сынок. С Ильёй Кондратьичем водили дружбу, хотя и редко, бывали тут на охоте, вроде как в зятья собирались…
– Панихида не сегодня ли?
– Если по-православному, то ноне… Только пройдёт не здесь. Убитых забрали родственники… Из разных имений: двоих в одном, третьего – в другом, – в соседних уездах. Там они были куплены. Наш управляющий оттедова; его к ним отрядили – для присутствия…
Полина Прокофьевна принимала его почти что радушно, встав с кресла, в котором сидела, и выйдя навстречу, чтобы подать руку для пожатия и поцелуя.
– Уж не обессудьте, – говорила она при этом. – У нас вот много всяких дел. – Она указала взглядом на сидевших по сторонам от неё. – Что ни день, то их всё больше…
Последовало его представление и знакомство с ними, когда она держалась важно и чопорно, негромко называя присутствовавших по должностям и именам и добавляя к этому краткие характеризующие каждого замечания.
Тут были игуменья ближайшего женского монастыря, размещавшегося где-то в здешней волости, центром которой были Лепки, волостной старшина, местный сельский староста, ещё один староста из другого имения Лемовских, писарь при управляющем и местный священник. Шёл ли разговор между ними до его появления здесь о чём-то общем для всех или собравшиеся пришли сюда только со своими нуждами, Алекс определить бы не мог, поскольку с барыней каждый по её знаку заговаривал теперь как бы обосабливаясь и добиваясь её внимания только к тому, с чем ему понадобилось прибыть сюда. Содержание обсуждавшихся дел и обстоятельств постоянно запутывалось как невнятным и сбивчивым его изложением присутствующими, так и обескураживавшими и раздражёнными требованиями помещицы к ним выражаться яснее и правдивее, так что собрание затягивалось несоразмерно той результативности, с которою оно должно бы подходить к концу, но к нему никак не подходило, и поэт уже начинал изрядно тяготиться всем этим.
На приём он не особо спешил да, собственно, и не знал, что ему тут нужно, кроме разве обычного засвидетельствования, полагавшегося в виде знака почтительности и вежливости при нахождении в чужом господском доме.
Он теребил отворот своего сюртука, уже не только тяготясь, но и скучая, однако находившимся тут было, как он мог понимать, вовсе не до него, и толчение в ступе не интересного для него всё продолжалось.
Лёгкими покашливаниями Алекс пробовал напомнить о себе, но, кажется, и сама барыня, будто бы и не склонная пренебречь вниманием к нему, как гостю, была уже не в состоянии прервать такое затянувшееся её общение в образовавшемся круге.
Обстановку изменил приход некоего человека, крепостного. Не испросив позволения войти и не извинившись, он бухнулся в ноги Полине Прокофьевне и разразился неостановимою тирадою отчаянного пьяного покаяния.
Как следовало из его слов, потрава только взошедшей озими двумя коровами и козой произошла по недосмотру его беременной жены, уже предроженицы, а он, будучи вызван сюда к самому утру, был неможный от простудливости и вот – опоздамши…
– Хам! Да как ты смеешь, негодник! Прочь с моих глаз! Отродье! Скоты! Варвары! Бусурмане! Собаки! – не прерываясь кричала ему барыня, в то время как тот, тяжело поднимаясь, шатаясь и бормоча какую-то несуразицу, бессильно отходил к двери и, повернувшись и толкнув её, буквально вывалился из помещения, где за него, как было слышно, тут же взялись и волоком, шумя, потащили дальше ретивые слуги. – Анисим! – возбуждённая гневом и раскрасневшаяся барыня обращалась уже к местному старосте, – я тебе прежде приказывала всыпать ему, то бишь…
– Двадцать пять розог, барыня… горячих… – поспешно отвечал общинный надзиратель.
– Тридцать, и не розгами, а – плетью! Сейчас же, чтобы живее трезвел! Ступай!
– А ты, Корней, пометь там… Вычесть у бусурмана… Справишься у Федота Куприяновича. Да ещё скажи ему: потраву-то усмотрели на его новой делянке; пусть и он ему всыплет, сколько найдёт нужным, да плетью, непременно плетью! Пусть потом отчитается… Гляди же, не забудь передать… Спрошу и с тебя! Уйди, уйди, дармоед, что стал истуканом-то!..
– Я, барыня, того… энтого… – замявшись и не сдвигаясь, виновато пролепетал писарь.
– Энтого, того! Ну что там ещё? Говори, болван!
– Энтого… Сынок мой, что в кузне… – голос у Корнея ослабел, а сам он сделался ужатым и жалким.
– Говори же, велят тебе!
– Младший-то…
– Прошка, что ль? Знаю, бунтарил больше всех… Ты по весне упросил барина пока не отдавать его в рекруты… И – что он?
– Сбёг… Ввечеру… Вчерась… Думалось, где-то гуляет, а оно… С утра хватились… Не найдён…
– Не найдён! – взорвалась помещица. – Я тебе покажу – не найдён! Где хочешь, а ищи и вороти… – Она тяжело, прерывисто дышала, видимо, окончательно выходя из себя.
– Виноват… оченно… Уже был разыскиваем… Бают, видели в лодке. Плымши к другому берегу, ну – к лесу… куда – уходят… Сказал, не вернусь, мол… Жёнке, то есть, моей невестке… И старшой – там… О, горе мне, горе! – как-то придурковато взвыл несчастный отец двоих беглых и громко, надсадно расплакался, даже не пробуя утереть обильные слёзы.
– Ты понимаешь, мерзавец, о чём докладываешь? – почти как прошипела владычица, уставившись прямо в его обезображенное внутреннею мукою узкое, худое и дряблое старческое лицо, спрятанное в окладе редкой, невзрачной и взлохмаченной бороды и столь же редкого и невзрачного верхнего волосяного покрова. – Сушняк стоеросовый! И чего же ты молчал, сидя здесь битый час? Чего таил злое, изверг этакий, анафема? Нет, на малое не рассчитывай… Растереть бы тебя в порошок! Сил моих больше нету! Им, вишь, потачки от самого барина. Да только не всё такой верёвочке виться! Теперь ужо и его самого за неправедное заставят погорюниться да покаяться!..
Барыня говорила ещё что-то; она уже почти не владела собой, и Алексу казалось, что, обратившись ещё хотя бы к одной случайной подробности убожеской, страшной и как будто от чего-то временами вскипающей здешней жизни, она безотчётно устремит свой вздорный гнев уже и на него, явившегося сюда вовсе неспроста, а как ещё один из тех многих и давно ей осточертевших, кто замышляет только вред и новые бедствия ей и в её лице всему – как в Лепках, так и в других имениях Лемовских, да и не только во всём близлежащем, а, возможно, – всюду, вообще, там, куда в назидание другим уже, верно, доставили ненавистного ей, беспутного супруга, или даже – дальше…
Только теперь поэт открывал в ней то, что было в ней существенного и чего ему не виделось раньше.
«Злобная старая дрянь, – рассуждал он о её неистребимой глубинной порочности. – Она вполне могла напиваться водки из животной ревности и окунаться в стихию беспутного пьяного загула, не пытаясь противиться этому и уже не придавая значения тому, что, отдаваясь телом, разделяя животную похоть без разбора с кем, ей уже не приходилось даже задумываться о последствиях такого скотства.
Местью мужу она обезобразила себя совершенно, и – нечего удивляться, если отцами её детей могли стать похотливые, грязные и неотёсанные мужланы из крепостной дворни…»
На то, что он не ошибался или ошибался лишь в некоторой, малой части, указывали густые и глубокие морщины на её щеках и тощей, точно от голода шее; её иссохшая кожа выглядела пергаментной; костлявые длинные пальцы рук тянулись куда-то вперёд и, кажется, были готовы в кого-то вцепиться; суженные глаза совершенно потухли и потускнели, и она ими уже будто и не смотрела, а, направляя их на что-нибудь, давила встреченное остатками лихорадочного их свечения, лишённого хоть какой-то осмысленности.
– Да, да, любезнейший, – наконец обратилась она к Алексу, когда он, произнеся извинение, поднялся со стула, намереваясь пройти к выходной двери. – На вас – прогулка, о чём мы вчера условились. Вы, надеюсь, не передумали? С вами желали быть Анна Ильинична и Ксения Ильинична. За вами пошлют. Приготовьтесь. Да возьмите с собой ещё… слугу. Как зовут его?
– Филимон.
– Он – не ваш? Да, да, … из наших…Вот и хорошо. Он знает своё дело… Приятно провести время! – и, сказав эти, словно бы вырубленные из показной вежливости фразы и не останавливаясь, она вмиг сменила тон на предыдущий, когда она «кипела», обращаясь для продолжения прерванного «делового» разговора уже к кому-то из присутствовавших, отворотив от поэта своё старческое, морщинистое, пергаментное лицо.
Алекс поблагодарил ее, испытывая отвращение, и, учтиво откланявшись перед собранием, поспешно вышел из комнаты, тщательно прикрыв за собою дверь. Находиться в окружении оставшихся за нею лиц он больше не мог. Так и казалось ему, что помещица бросится догонять его, чтобы вцепиться в него своими длинными, костлявыми как у ведьмы ручищами.
Прогулка была из тех обычных, какими его потчевали во многих других дворянских имениях.
Выйдя из занимаемых им комнат, он увидел в зале, двери в которую вели из одного коридора и были открыты, заезжую игуменью женского монастыря и Аню.
Они медленно прохаживались и оживлённо переговаривались, поддерживая в локтях одна другую, как имевшие что-то общее.
Уловить, в чём заключалась их беседа, Алекс не мог, так как, завидя его, они стали говорить тише, приглушённее, явно из желания не быть услышанными. Замечалось лишь то, что игуменья произносила слова ровно и наставительно, строя речь в виде ответов на вопросы Ани, а в свою очередь девушка с вопросами спешила и слушала ответы внимательно, кивая головой всякий раз, когда, как можно было предположить, они её в полной мере устраивали.
Из движущегося фаэтона было удобно смотреть вперёд и по сторонам.
В ряде мест ехавшие покидали сиденья и спускались на землю – чтобы пройтись пешком или получить пояснения от встречавшихся на пути работников; так удавалось полнее знакомиться с достопримечательностями.
Аня и Ксюша, часто перебивая одна другую, буквально одолевали поэта подробностями о том, что находилось вокруг, и поэту оставалось только слушать и запоминать. Иногда он о чём-нибудь спрашивал. Некоторые из ответов девушки позволяли давать Филимону. Тот был не только речист, но и обстоятелен.
В его рассказах как бы сама собой раскрывалась история усадьбы, для чего холоп пускался в мельчайшие подробности по части расположения улиц и строений на них, дорог, которые уходили из села в разные стороны, в частности той, что служила для отвоза из Лепок и доставки в это село почтовых отправлений.
Но присутствие в усадьбе жандармов как бы выпадало из общих сведений, получаемых теперь Алексом. И он сам об этом не заговаривал и не спрашивал.
То было особой темой, касаться которой, по всем статьям, не следовало, что хорошо знали и он, гость, и его сопровождавшие.
Алексу был показан конезавод, где разводились вороные рысаки и бурые аргамаки, и можно было видеть лошадей этих широко известных пород в их выросте – от жеребят-сосунков до взрослых жеребцов и кобылиц; небольшими гуртами часть взрослого поголовья содержалась в отдельных загонах и в особенном уходе – как предпродажные.
Также заезжему было любопытно осмотреть древесный склад, рядом с которым размещались площадка для изготовления срубов бревенчатых изб и крытые участки для разделки брёвен; лесной двор находился на дальней окраине села и примыкал к пристани и затону, куда срубленные деревья поступали из лесосек по реке.
Глубина русла реки была здесь достаточной только для вёсельных лодок; несколько их стояли на воде у пристани. В этой же стороне была водяная мельница.
Уже издали открывался удивительно красивый вид на приречье. Рядом с водной гладью по-особенному торжественно даже под нависшими над нею серыми облаками выглядел протянувшийся на несколько вёрст песчаный плёс; на обоих берегах виднелись поля с поднятым паром и зеленеющей озимью, а за ними – изреженные остатки девственного леса, перемежаемые луговинами, где ещё бродил скот.
В самой усадьбе обособленно от скученных изб крепостных размещались несколько жилых строений с подсобными хозяйствами при них, принадлежавшие вольноотпущенникам; от обычных они отличались внушительной величиною, более искусной отделкой и отменным собственным заботливым содержанием.
Возвращаясь, фаэтон проезжал мимо одной из кузниц; как следовало из пояснений Филимона, она была самой крупной в имении и выполняла заказы не только других имений Лемовских, но и сторонних, в ряде случаев даже из дальних уездов.
Здешние кузнецы выковывали лемеха, тележные изделия, весь ассортимент необходимого селу хозяйственного инструментария, фигурные ограждения, вещи, необходимые в домашнем пользовании.
На всём пути продвижения экскурсантов можно было видеть следы привычной для текущего времени человеческой деятельности. От опытного взгляда не мог бы ускользнуть тот ритм хозяйственных и побочных работ, который был необходим и снижать который не допускалось, несмотря ни на какие помехи.
Нельзя было не проехать около церкви.
Повернув к ней уже по направлению к господскому дому, экипаж медленно двигался вдоль ограды сельского кладбища.
Здесь Алекс обратил внимание на одинокий свежий крест, не смыкаемый с другими, расположенными ровными рядами чуть от него поодаль. Также поэта заинтересовало то, что ограда воспринималась передвинутой – в сторону от массива погоста и что ею прикрывался уже и свежий крест, в то время как ранее место под ним могло быть неогороженным.
В связи с чем предпринята перепланировка? И не тот ли это предмет, виденный им вчерашним ранним утром, когда мужики несли его в сторону кладбища, а его карета только въезжала в поселение?
Здесь открылась для поэта ещё одна горестная страница в судьбе Фила Антонова.
Священник, опекающий приход, отказал в похоронах самоубийцы на поселенческом погосте. По данному случаю он втянул Лемовского в грубые взаимные пререкания и в дискуссию с ним и оставался верен своей кондовой позиции, ссылаясь на существующие правила. Грозился не только донести о возникшем инциденте архиерею, но и привезти того сюда, чтобы те самые правила соблюсти в их каноне.
Так или иначе, но Фила пришлось захоронить вне кладбищенской ограды. Прежний крест над его могилой уже сильно подгнил и кренился. Лемовский, под влиянием произошедшего в самое последнее время, уже не пытался держать в себе огорчений от непослушного побочного сына. Пересиливая их, он уговорил-таки священника отказаться от предыдущего запрета.
Ограду перенесли незадолго до наезда в усадьбу жандармов. В канун отъезда с ними из имения барин распорядился изготовить и установить над могилой новый крест. В кузне ещё не успели с гравировкой надписи на табличке к нему – о бедном усопшем…
Прогулку можно было считать удавшейся, полезной и приятной. Алексу доставляло удовольствие находиться в обществе двух сестёр, красота каждой из которых, казалось, была зеркалом для другой. Хотя Аня и старалась укрыть своё тайное ночное свидание с поэтом и обращалась к нему на вы, Ксюше об этом эпизоде, видимо, было известно и не иначе как от самой Ани и притом в некоторых подробностях, и она как будто даже радовалась за сестрицу, а, может, и завидовала ей.
От Ани Ксюшу отличало лишь то, что её телесные формы хотя и были уже вполне образованы, однако ещё не имели той законченной развитости, которая была совершенно неотразимой у старшей сестры. Глядя в сияющие лица обеих спутниц, он ощущал таившуюся в них загадочность и то волнение, которое исходило от них в связи с его присутствием.
Поэт знал твёрдо, что Аня уже всецело покорена им и что она изыщет любую возможность быть с ним в интиме ещё…
Федот Куприянович, как управляющий не только в Лепках, но и во всех остальных имениях Лемовских, был прекрасно осведомлён о колебаниях курса денежных ассигнаций, об их «вольной» стоимости по отношению к серебряному рублю в той части губернии, в которую наряду со здешним входили и многие соседние уезды.
Разницей курса определялся общий уровень хозяйственного развития территории, и чем такое развитие было активнее и успешнее, тем более алчным при истребовании платежей следовало быть всякому, кто становился участником делового оборота.
В нём, в этом явлении, уже пульсировала некая свобода, истреблявшая традиционное для страны и во многом неадекватное понимание дворянами смысла той или иной сделки.
Чаще всего именно здесь пролегала граница, отделявшая ещё робкое в ту пору свободное предпринимательство от действий хотя и одинаковых по значимости, но пока не освящаемых свободою.
Соответственно этому к назревавшим переменам помещики в своём подавляющем большинстве оставались ещё глухи и нелюбопытны.
Лемовский, как отличавшийся более свежими воззрениями на окружавшую его жизнь, мог бы самостоятельно постигать существующую игру. Но даже в нём барское прежнего покроя продолжало преобладать. Поэтому так важно было для него довериться маститому управляющему. Доходная часть от ведения хозяйства, которую удавалось получать благодаря прежде всего стараниям менеджера, его вполне устраивала; ведь она хотя и не была столь уж значительной, но не опускалась ниже порога, за которым бы виделось разорение. Да и во мнениях владельцев имений и душ, ближних и даже весьма отдалённых отсюда результаты, получаемые Лемовским, на протяжении ряда лет признавались лучшими по сравнению с их собственными.
Содействуя этому, Федот Куприянович в каждой, даже мелкой операции, что называется, гнул своё. В отношении займа Алексу он, однако, не мог извлечь сколько-нибудь весомой выгоды к пользе хозяйства. Здесь курс ассигнаций хотя и мог считаться достаточно высоким, но он всё же значительно уступал петербургскому или московскому. И процент на выдаваемую в долг сумму да и она сама при её погашении, как было заведено, должны были исчисляться по курсу непременно местному – как бы в покорность влиянию столиц.
Не помогло тут и предложение управляющего о предоставлении части ссуды поэту разменной монетой, причём даже со скидкой от фактической местной стоимости бумажного, ассигнационного рубля. Это было широко известной уловкой, когда пробовали сбывать припрятанные и уже основательно обесцененные устаревшие медные деньги. Согласиться на это, значило показать в расчётах полнейшую неосведомлённость.
Также неприемлемым оказалось предложение управляющего не учитывать лажа в пользу берущего в долг – за предоставление ему суммы в рублях ассигнациями, а не серебром.
Обойдя эти препятствия, поэт получал ссуду на выгодных для него условиях, и уже само по себе выгодным было его обращение к периферийному кредитору, о чём он знал по опыту своих предыдущих таких займов. Размер долговой суммы и срок её возврата также сполна удовлетворили его: как выходило, Илья Кондратьевич благоволил к нему искренне и с пониманием.
Писарь Корней, отец двоих беглых, сидел в кабинете за отдельным столом сбоку от управляющего; он выглядел подавленным и отстранённым не менее вчерашнего, когда сполна испытал гнев барыни, но всё же своё занятие исполнял сейчас, казалось, исправно.
То и дело он обращался к Федоту Куприяновичу для уточнения учётных записей по оформляемому займу, которые вёл. Можно было подивиться, чего это ему стоило. Ведь наверняка уже ранним утром, сразу по приходе в кабинет он обязан был сообщить начальнику об очередной передряге в своём семействе, и, возможно, были при этом и неутешные слёзные стенания, как накануне, или даже истерика, «понимать» которые хозяин кабинета мог хотя и с явным, неподдельным сочувствием, но, как обременённый долгом собственного услужения властителям – совершенно отстранённо.
Ввиду почти как прямой и потому, как представлялось, сильно угнетавшей Корнея вины за убеги его сыновей, для него было также нелёгкой задачей передать своему начальнику ещё и о потраве занятой под озимью и принадлежащей Федоту Куприяновичу делянки, и уж тем более – о распоряжении барыни, чтобы тот в наказание за потраву особо, сам всыпал виновному плетью, непременно плетью…
Последнее обстоятельство заботило уже и Алекса. К тому, что управляющего используют как подручного при истязаниях крепостных, примыкало и то, о чём сообщал Филимон – о содействии наёмника в утяжелении доли не только крепостных, но и вольноотпущенников.
«Нет, – думал поэт, – такому человеку доверия быть не должно; его помощь сомнительна, и она, скорее, была бы мизерной. С учётом присутствия служивых обращаться к нему опасно, да, пожалуй, и поздно. Аким, верно, уже умер. Также и Андрей – мог ли он столько ждать? А обо мне как посреднике этот если и не ярый, а всего лишь пунктуальный исполнитель чужой воли способен проговориться… Что тогда?.. Допросы, опала… Нет, поступку с моей стороны не быть, хотя, разумеется, этим затрагивается моя честь.
Должно подумать обо всех в тайном сообществе. Допустимо ли, что по неосмотрительности я стал бы причастен к их обнаружению и к возможным другим их несчастьям и бедам?..»
До момента, когда оформление займа было завершено, Алекс всё же не оставлял надежды выйти из круга одолевавших его сомнений. Но чтобы изложить просьбу Андрея, требовалось обойтись без свидетеля.
– Нам бы остаться с вами наедине, – сказал он хозяину положения, слегка поведя взглядом на измождённого писаря. – Важное обстоятельство…
– Это невозможно, сударь; мы – при исполнении, – чётко ответствовал управляющий.
– Но… Мне нужно…
– Примите сожаление. Только в присутствии…
– С чем это связано?
– С теперешним надзором. Вы ведь, наверное, знаете, что у нас произошло и происходит? При всём желании – не могу. Распоряжение от барыни. Их воля…
Поэту не удавалось сосредоточиться ввиду возникшей преграды.
– Благодарствую, – сказал он, медленно вставая. Дальнейшие объяснения он посчитал излишними и бесполезными. – Добрых дел и процветания!
Визит к управляющему на этом можно было считать законченным. Не искать же встречи с ним вне такой вот «официальной» беседы: менеджер мог сослаться на то, что он должен явиться к барыне по её срочному вызову и уже торопится; или – у него неотложный выезд из Лепок в какое-то из других имений Лемовских; то есть – он мог найти какую угодно причину отказа в приватном общении, и в каждом таком случае ему было бы удобно ссылаться на его зависимость от своей барыни, рьяно замещавшей теперь её отсутствовавшего супруга, что Алексу приходилось воспринимать как должное: он сам, владея имениями, хорошо знал об ответственности и норовах управляющих, которых нанимал и с которых был вынужден строжайше спрашивать об исполнении своей, господской воли.
Огорчённый несостоявшейся передачей просьбы Андрея, Алекс, чтобы не усложнять своего возвращения из Лепок, когда надо бы было заезжать за Никитой в ночное время, решился покинуть имение уже в этот день, к его концу, для чего следовало поспешить и с почтовой пересылкой переходящей к нему суммы займа.





