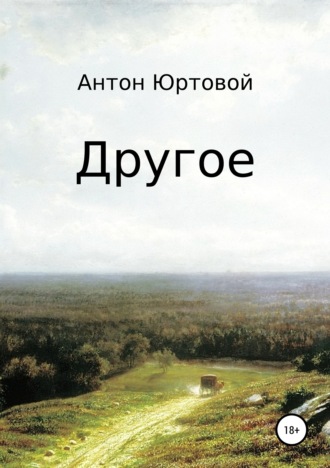
Антон Юртовой
Другое. Сборник
С трудом ему удалось воспротивиться её напористости, чтобы, подчиняясь требованиям сословной вежливости, сказать несколько коротких учтивых и в достаточной степени уклончивых фраз в ответ на её вопросы о себе, как путешественнике.
Подошедший к ним Ирбицкий, убедившись, что лишь своим строгим распоряжением он сможет прервать столь малополезную для всех трату времени, громко выкрикнул команду отряду приготовиться к дальнейшему передвижению и, извиняясь, попросил беседующих занять свои места в их фурах. Всё теперь быстро подчинялось тому общему распорядку, какой был нужен. Конечно, при этом не обошлось без привычных в таких случаях словесных россыпей едущих из Лепок, когда каждый не удерживался дать встреченному целые вороха добрых напутствий и пожеланий.
Алекс, как он ни был стеснён и озабочен своими тайнами, также не считал позволительным пренебречь этой устоявшейся и никого ни к чему не обязывающей традицией, и его ровное и располагающее добродушие, насколько ему удавалось изображать его таким в момент прощания, в одинаково приемлемой мере могли ощутить не только прелестная графиня с Лемовским, но и штабс-ротмистр Ирбицкий со своими подчинёнными.
Лепки, задвинутые в лесистую провинциальную отдалённость, но имевшие удобный выход к реке, могли произвести неплохое впечатление на заезжего, очутившегося здесь впервые.
В их внешнем виде, открывавшемся с идущей изгибами, вверх по лёгкому склону, въездной дороги, угадывались стародавние намерения хозяина придавать застройке, их общему расположению и уходу за ними признаки напыщенности и роскошества, хотя эти черты были уже почти стёрты ввиду последующих изменений, вносимых сюда с учётом самых разных причин и обстоятельств, диктовавшихся внутренней житейской необходимостью.
Былая соразмерность в использовании отвоёванного у леса пространства, его свободы, теперь нарушалась постройками и видами самого обыденного крестьянского назначения, и они уже преобладали над приметами прежней утрированной изысканности, так что на смешении тех и других хотя и можно было останавливать внимание, но лишь из интереса, связанного с восприятием попросту нового, не возникавшего перед глазами раньше.
Деревянные жилые избы под соломенными и сенными скатами с массивными поленницами почти у каждого крыльца или у ворот и помещениями для скота, сенными стожками и огородами возле них перемежались то ли амбаром, то ли конюшней, то ли парником. Краями отдельные строения подступали к улицам и переулкам и едва ли не впрямую доходили до их проезжей части. На этом уже утеснённом ландшафте были по-особенному просторно размещены только лесной склад, кузница и гумно, рядом с которыми имелись подъезды, площадки и навесы для штабелей из брёвен, инвентаря для обработки пахотных земель и лугов, саней, телег и прочих нужных хозяйству объектов и предметов. Хотя отдельные избы и постройки для обеспечения хозяйственной деятельности из-за своей изношенности уже не выглядели безупречно, имели скосы или проседали к земле, однако поселение в целом нельзя бы было назвать бедным или обедневшим, запущенным. Во властвовании над ним чувствовалась достаточно опытная и твёрдая воля, не устремлённая исключительно к обогащению владельца.
Не вызывало сомнений, что эффективность работы здесь не могла не зависеть от некой значительной степени свободы, предоставлявшейся местным крепостным людям и определённо осознававшейся ими и побуждавшей их к надлежащей исполнительной старательности и расторопности, в том числе – по собственной их инициативе и привычной домашней заботливости.
Довлеющими над массивом воспринимались только размашистое в торцах здание барского дома из камня в два этажа, выкрашенное белой и густо-жёлтой известью, где вблизи от одного из торцов на столбовидном основании возносился бельведер, да – церковь, стоявшая неподалёку отсюда на возвышении и казавшаяся нарядной и привлекательной из-за её внушительного по величине центрового и ещё четырёх окружавших его куполов поменьше, ярко блестевших серебром, а также – из-за наложенных на её стены и входы красок разных цветов или их сочетаний.
Был тот час раннего утра, когда село уже успело стряхнуть с себя оцепенение тёмного времени суток и начиналась его обычная суетная жизнь. Пели петухи; лаяли собаки; в разных местах были видны или только слышалось тарахтенье гружёных и пустых телег в конных и воловьих упряжках; звенели вёдра у журавелевых колодцев и во дворах; какой-то жадной устремлённостью в область нового дня в этом потоке звуков выделялись поскрипы отворяемых и закрываемых въездных ворот и избяных дверей и громкие, до натужности, мужские и женские голоса.
Навстречу кибитке Алекса шли группой несколько мужиков, нёсших на себе свежеизготовленный деревянный крест, предназначавшийся, понятно, для установления на кладбище, часть которого была видна в отдалении, позади церкви.
В одном из проулков Алекс заметил двух конных жандармов в экипировке, одинаковою с той, какую имели уехавшие отсюда с отрядом; скорее всего, это был тот самый дозор или его часть, о котором сообщал Лемовский и обязанностью которого было регулярно объезжать село, услеживая, не объявятся ли тут подозрительные личности и не происходит ли того, что могло считаться несоблюдением установленного здесь надзорного порядка.
На фуру с едущим поэтом стражи, казалось, не обратили никакого внимания, так как их неспешное продвижение в сторону заезжавшего экипажа не было ускорено, что могло указывать на присутствие в поселении ещё одного или нескольких таких же служивых и что они находятся не иначе как при барском доме, несут караул там, размещаясь в том числе в верхней части бельведера, и непременно должны взять на себя наблюдение за прибывшею кибиткой, раз она направлялась не куда-нибудь, а именно к тому дому и ей до него оставалось проехать уже совсем немного.
Алекс и в самом деле увидел одного такого караульщика; тот, хотя рядом с ним не было никого, подчёркнуто выставлялся своей отменной выправкой, строго подогнанной к его фигуре одеждой с мундиром и увешанной подобием кисточки высокой кирасирской каске на его голове; он выжидательно, важно прохаживался у ворот, за которые предстояло въехать упряжке.
Приняв подобающую служаке стойку перед прибывшим, дозорный назвался в чине и, получив от поэта краткое повеление известить о себе хозяев усадьбы, открыл ворота и проводил его к фасаду здания.
Незнакомец, очевидно, сразу был кем-то замечен со стороны окон напротив, так как из дверей главного входа тут же вышел человек, торопливо спустившийся навстречу приезжему по ступеням невысокой, но внушительной по ширине каменной лестницы и доложившийся как приказчик. В доме он позаботился о размещении поэта; к гостю был приставлен слуга, что позволяло существенно упростить получение в усадьбе сведений, касавшихся как барской семьи, так в значительной мере и – крепостных. Слишком обольщаться этим, разумеется, не следовало: поэт хорошо знал традиции сословного гостеприимства, когда за прибывшими, нередко с пустяшным умыслом или даже безо всякого умысла, просто из любопытства, вызревавшего от бытовой скуки, кто-либо из владетельного семейства или даже из числа гостей устраивал слежку, и приставному слуге как раз и поручалось управляться с соответствующими доносами.
Теперь, в связи с наездом в село полевых жандармов, исключать такого было тем более нельзя и тем более Алексу, не забывавшему об угнетавших его сторонних пристрастиях – как сословного характера в целом, так и – ведомственных, административных.
То есть – ему следовало быть предельно осмотрительным, и он, ввиду этого, не склонен был пренебрегать касавшимся всех дворян простым, хотя порой и не совсем подходящим для использования предостережением: «Il ne faut pas parlez aux gens…»2; обстоятельства заставляли его не забывать о нём даже в общении с Никитой, которому он мог доверять хотя и очень многое, но лишь в той пространной части, когда ему нельзя было обойтись без получаемых от него сведений о разных сторонах внутренней жизни обитателей в имениях; самому же подступаться с этим непосредственно к барам или их челяди было ему не всегда удобно, так как те имели веские причины заводить свои секреты и не разглашать их, в особенности те из них, которые были связаны с их вещными или денежными манипуляциями или – с сословными пороками. Никита быстро сходился с дворней и чужими слугами и умел поддерживать с ними добрейшие приятельские отношения, так что помощь его в таком посредничестве Алекс по-настоящему ценил и вполне довольствовался ею. Теперь, оказавшись без своего слуги, поэт не мог обойтись без того, что становилось для него необходимостью, и он был просто вынужден рассчитывать на приставного.
Его звали Филимоном. Узнав его имя, заезжий тем пока и удовлетворился.
«Порасспрошу его позже», – решил он.
Из окна здания открывался вид на обширную огороженную дворовую территорию с парой длинных флигелей под зачернелыми от времени деревянными тесовыми крышами. В этой стороне размещались также кладовые с погребами для хранения съестных припасов и конюшня с примыкавшею к ней загородью для вольного выгула животных, полагавшегося им после трудных поездок или в их преддверии. Дальше начинался и тянулся на значительное расстояние сад с ровными, ухоженными рядами или пятнами елей, берёз, клёнов и дубняка, а также – небольшой фруктовой плантацией.
Еще дальше виделся искусственный пруд с недлинной мощёной прогулочной дамбою вдоль берега и просторною крытой кабиною на ней – для переодевания и отдыха купающихся или просто для любования оттуда водной гладью и круговым пейзажем.
За исключением двора, где туда-сюда сновали работники, эта территория выглядела теперь совершенно безлюдной.
Сбоку от сада, отделённая от него массивом густого коренного леса, размещалась псарня; оттуда, приоткрыв раму окна, можно было слышать сильно приглушённый расстоянием прерывный, беспорядочный лай и ворчание собак.
Псарня должна была составлять гордость хозяина поместья, так как могла обеспечивать эффективную и увлекательную охоту и в этом смысле позволяла в угоду амбициям владельца даже не днями, а целыми неделями удерживать в усадьбе заезжих дворян-соседей да и кого угодно, кому доводилось тут погостить или очутиться по случаю, безо всякого приглашения.
Первой из Лемовсих, кого Алекс увидел, едва только он вышел из отведённых ему комнат и сделал отсюда несколько шагов, будучи приглашён отзавтракать, была Аня; в том, конечно, была всего лишь случайность, но он мог бы сказать, что это нисколько не входило в противоречие с его намерением не отстраняться от той не касавшейся лично его своеобразной ситуации, которая должна была складываться ввиду не только постигших семью горестей, связанных с бегством Андрея и арестом отца, но и – со введением в усадьбе своего рода осадного положения, когда тут могли случиться ещё и другие столь же неприятные и непредвиденные события.
Аня поднималась по лестнице, и уже подходя к ней, Алекс ощутил произошедшую в ней перемену – и внешнюю, и душевную, чувственную, причём она, эта перемена, открывалась какою-то, видимо, совсем недавно закрепившейся двойственностью.
Её глаза, смотревшие прежде лучисто и прямо, теперь были полуприкрыты сыроватыми и покрасневшими веками; тронутый испугом и болью переживаний взгляд устремлялся больше к низу; можно было предполагать, что она много плакала, о чём свидетельствовали также посинелые оттенки по краям ноздрей её носа и отсутствие прежнего жаркого румянца на щеках. Однако её движения и вся её слегка смятая утончённость если и говорили о пока не преодолённой ею огромной изматывающей скованности, вызывавшейся, без сомнения, раздумьями о необычном повороте в жизни её семьи, а значит и в жизни её самой, но это на данный момент было ещё в ней не всё из того, что следовало бы считать существенным; было вместе с ним и другое, и оно заключалось в некоем почти что принятом и, казалось, почти дерзком решении, позволявшем ей легко смириться перед сложившимися неблагоприятными обстоятельствами, причинявшими ей страдания.
Укрепившаяся в ней устремлённость к тому, что, вероятно, могло быть известно пока только ей и никому больше, хотя и в неотчётливой форме, но обозначалась наружно уже сейчас – поскольку ей как-то сразу хватило мужества частью перебороть своё состояние унылости и печали, и на это ушли буквально какие-то мгновения.
Подавая Алексу руку, она, хоть и с усилием, улыбнулась подобием той улыбки, которая раньше представлялась ему восхитительной в её жизнерадостности и в неге и такой ему помнилась. Также он не мог не отметить, что девушка, при всей её подавленности не казалась хотя бы в малости постаревшей: роскошествующая молодость, что называется, била в ней ключом, и в её персоне пока ещё ни одной чёрточкой не выдавала себя коварная дурнота, легко поражающая женскую красоту, в особенности в тех случаях, когда она, такая напасть, появляется и обнаруживается неожиданно.
– Здравствуйте! Как я рада! Вы нам посланы свыше. Мы здесь так безутешны. Извините… – произносила она с задержками, уже оставив позади самую верхнюю ступеньку лестницы, при этом трогая платочком уголки глаз, где искрились мелкие искренние слезинки удовлетворения от встречи. – Я была готова увидеться с вами не в такой вот обстановке нашей общей неразберихи… Вы уже, наверное, знаете?.. Мне вы были очень нужны в особенности… Я пережила такое… я в отчаянии… – говорила она, не находя, очевидно, способа, как сдержать нахлынувшие эмоции.
Алекс посчитал оправданным сообщить ей, что он действительно о многом уже знает, видев по дороге её отца и беседовав с ним.
– Как странно, как странно! Это нам всем наказание. За что? – Её сбивчивый, трепетный голос начинал крепиться, однако, становилось понятным, – не для ровных и спокойных изъяснений; отдельные ноты показывали, что она, возможно, близка к истерике или даже к обмороку.
Явно не желая допустить этого, но и не собираясь прерывать обозначенного ею столь необходимым откровенного общения, Алекс энергично взял её под локоть, и они вместе сошли с места, где встретились и стояли и где как будто уже вызревало нечто неизбежное, изрядно торопившее и способное смутить их обоих, горячее, почти взрывное и одновременно печалящее.
Проводив поэта к нижнему этажу и готовясь оставить его, девушка, как ни мало продлилось их рандеву, успела спросить у него пока что одно: было ли что сказано её батюшкой о ней, Ане, при их встрече и беседе на просёлочной дороге? Чувствовалось, что знание об этом было очень для неё важным, а вопрос, хоть ей он, может быть, и давался с трудом, но, вместе с тем, – с какою-то смелою, почти готовой к немедленному обнаружению осмотрительностью.
– Нет, ничего, – отвечал на её обращение Алекс. – Его торопили следовать с эскортом…
При этих словах Аня вспыхнула лёгким свечением желанной удовлетворённости и будто разом сбросила с себя мешавшую ей скованность. К ней как будто откуда-то передалась чуть ли не весёлость.
Ей, казалось, по силам было перечеркнуть сами обстоятельства, влиявшие из-за своей тяжести и непредсказуемости на всю обширную усадебную территорию вместе с её обитателями.
О произошедшей скорой метаморфозе, не оставшейся не рассмотренной Алексом, он мог строить какие угодно догадки и предположения, но постичь её истинный смысл ему не удавалось.
Окончательно сбитым с толку он почувствовал себя, когда Аня еле заметным движением склонилась головой к нему на плечо и едва не коснулась щекою его щеки, а одной из её грудей, томно и пышно колеблемых при каждом вздохе, так и в самом деле к нему притронулась, вначале её тугим соском, неохотно подававшимся назад от возникшего перед ним препятствия, а затем и той её частью, которая служила для него основанием и которая, будучи выражена неудержимою мягкой пульсирующей упругостью, мгновенно давала знать о своей искушающей обольстительности.
Впору было оторопеть от столь многозначных сближающих жестов, никак не вязавшихся с бедовой угрюмостью окружающего и с какою-то ускоряющейся возвратностью времени – к его действительной, здравой сути.
– Мы увидимся и о многом поговорим, не правда ли? – услышал он её тихий и уже вполне уравновешенный голос почти у самого своего уха.
То, что речь тут могла идти уже не иначе как о кокетстве и не иначе как о таком его проявлении, когда оно выношено вполне расчётливо и, очевидно, в пылу какой-то вязкой и заволакивающей задумчивости и осознаваемой рисковой жертвенности, поэту становилось совершенно ясным. Причём разрешение загадки если и должно было наступить в соответствии с проведённой девушкою как бы нечаянною игрой, то – уже где-то вскоре, в самое, вероятно, ближайшее время, и в этом случае отстраниться от углублённого восприятия произошедшего было уже попросту никак невозможно.
Алексу тут не могли не припомниться чувства его взволнованности при первом контакте с Аней, когда они вместе танцевали на столичном балу, непроизвольно впадая в смущение от направленного на них множества любопытствующих глаз.
Легкие прикосновения к ней и её к нему хотя и можно было возводить тогда в некую возвышенную степень чувственного интима, но в этом было, скорее, только то общее, что в подобных ситуациях не воспринимается необычным; хотя оно и вполне естественно и способно возбуждать в танцующих партнёрах воодушевление и даже восторг или некую надежду, но его легко подавляют привычным усилием рассудка и воли и вскоре так же легко забывают о нём, соприкасаясь уже с иным партнёром или с партнёршей; не оставаться забытым такому нейтральному состоянию предназначено разве что в связи со смотрением глаза в глаза двоих, длящимся не обязательно долго, а в дополнение к этому – пусть пока лишь и беглым разглядыванием каждым лица и всего внешнего облика визави, когда в акте такого сакрального взаимодействия возникает искра непостижимого торжественного съединения душ, готового в любой момент вспыхнуть ярким факелом необоримого влечения…
Для Алекса, умевшего тонко воспринимать как особенную поэтику, так и житейскую значимость этого возвышенного человеческого чувства, не было секрета в том, что искра подобной увлечённости могла сохраняться или даже пестоваться, по крайней мере, Анею, ещё в столице – под влиянием некой мечты, когда она с опаскою и с беспокойством сторожила свою удачу по части её возможного сватовства и так и осталась несосватанной; а – что касалось его самого, то, несмотря на его былую готовность удовлетвориться давним неотчётливым девичьим призывом и откликнуться на него, то теперь этот ход уже не мог казаться ему благостным, а уж необходимым и допустимым – тем более, – ввиду так настойчиво повергавших его дорожных перипетий, окончание которым ещё не виделось отчётливым. Будучи, впрочем, искушён в обстоятельствах, наблюдаемых им при его разъездах по провинциальным углам и зная о своей необоримой влюбчивости, он не склонен был удивляться тем стремительным флиртам, в какие он часто вовлекался не только в тех случаях, когда его инициатором выступал сам, но и просто не умея и не имея воли противостоять натиску приятной особы.
То были уже, как правило, соискательницы удовольствий с опытом солидным и продолжительным, конечно, в массе представительницы дворянства или чиновничества, моложавые вдовы или девы, не имевшие перспективы обзавестись своими семьями, а нередко – даже замужние, с рисовкою самою разной, от напускного туманного безразличия, как у отъехавшей из Лепок графини, так и с явным, неприкрытым и почти что неприличным позывом, рассчитанным на безусловное согласие принять его, причём не где-нибудь, а – тут же и не откладывая, несмотря на присутствие рядом кого-то из ближних, знакомых и других соглядатаев, не исключая супругов, по большей части рассеянных и озабоченных, бывало, одним и тем же…
Успех едва ли не всякий раз мог тут быть как бы гарантированным, так что каждой стороне можно было не утруждаться и подсчётом, в каких количествах эти преходящие встречи следовало относить к результативным и помнить о них.
Алекс в эту вольную стихию прелюбодейства входил ещё совсем молодым, и быть в ней белой вороной ему, как и любому в его сословии, также «не полагалось». Само собою, о многом из этого он вспоминал и часто даже с огромным удовольствием, но многое успело уже выветриться у него из головы.
Соответствующие чувственные меты, закрепившиеся в подсознании, неплохо служили формированию его представлений о человеческом бытии и природе человека, мужчина то или женщина, и потому этот багаж ему нельзя было не ценить особо: им укреплялась его поэтическая зоркость как сочинителя, возможность лепить образы в той желаемой условной форме, которая хотя и берётся из реального, но качеством должна его на много превосходить – как предназначенная выражать прекрасное.
Алексова память, с какого бы края он ни захотел её встормошить, не могла, однако, указать ему на ситуацию, когда бы он обольщался или был обольщаем натурою юной и девственной, ещё не истратившей своей пылкой короткой жизни на огорчения и разочарования и вполне искренно верящей пока идеальному и усердно оберегающей свою честь и достоинство – не только перед окружающими, но и, что ещё важнее, – перед самою собой. Теперь же мог осуществиться ещё и такой вариант…
«Женщины!» – резюмировал поэт свою неготовность разобраться в окутывавшем его странно-сладостном вихревом наваждении, которое, размышляя о нём, он уже мог считать определённо выжданным – им самим и – с того самого, прежнего срока…
– Конечно, конечно… – машинально и торопливо проговорил он на её готовность пообщаться с ним, между тем как, завидев появившихся почти рядом слуг, Алекс оставлял Аню, чтобы удалиться от неё.
Передав через слугу запрос барыне, когда бы он мог явиться к ней на приём, поэт вскоре был уведомлен, что с этим в данные часы можно бы и не торопиться, а лучше как следует отдохнуть с дороги, выспаться, и уже только завтра она в любое время и непременно примет его. Другого начала пребывания в усадьбе Алекс бы и сам не желал, поскольку ему и в самом деле требовалось преодолеть усталость, сопровождавшую его ещё в Неееевском, а на всём пути от него сюда ему даже подремать не привелось.
Спал он крепким сном, перед этим наведавшись в отменно истопленную баньку с парилкой, и уже лишь к вечеру его буквально растормошил слуга, передавший ему приглашение к ужину.
В небольшой и уютной гостиничной зале, оформленной непритязательно, хотя и не совсем по-старинному, собрались, кроме самой барыни – Полины Прокофьевны, Ани и её сестры Ксюши, управляющий имением, лекарь, учитель-француз и приказчик.
Ждали ещё священника местного прихода и корнета – от занимавшей село группы жандармерии, но те не появились.
Общество удостоило Алекса повышенной внимательностью и простым трогательным обхождением, что следовало соотнести как с его известностью и знакомством с ним владетельного семейства зимой в белокаменной, так и с фактом его нахождения в усадьбе в качестве единственного на данный смутный момент гостя и не какого-то, а – представляющего таинственный по периферийным понятиям свет самой столицы.
Место Алексу за столом было отведено по соседству с Аней справа и её сестрой слева. Все остальные разместились напротив них. Барыня сидела в центре – прямо перед заезжим поэтом.
Она была бледна той нескрываемой бледностью, за которой проступали черты очередной для неё и уже, возможно, заключающей степени быстрого постарения. Было видно, что она подавлена скрытой обеспокоенностью и это же состояние, но только в стыдливой для себя форме замечает в её дочерях.
Общение проходило в той распространённой повсюду среди дворян консолидирующей домашней атмосфере, когда допускалось свободное присутствие здесь любого из господских поколений и каждый, кто их представлял, мог дополнить обсуждаемое своим рассказом, спрашивать и надеяться на ответ о спрошенном, однако – лишь в тех жёстких рамках, когда заводить речь о чём-то, касавшемся деловой сферы, хотя и не считалось непозволительным, но именно таким ему позволялось быть.
Чувствовалось, что Полина Прокофьевна, обременённая переживаниями, связанными с постигшими имение передрягами, а также обязанностью ещё и хозяйки стола, вынужденной заботиться о соблюдении ритуала приёма блюд, старательно ограничивает разрастание возникшей здесь оживлённой беседы – явно из желания опустить нечто в ней более значительное или – переместить в другое время. Это удавалось ей, конечно, с трудом, поскольку нельзя было совсем приглушить изощрённой любознательности и пылкости прежде всего её дочек, устремляемых на что угодно, где дозволенное легко растворялось или было рядом с противоположным, – хотя оно и умещалось в той же устоявшейся степени общесословной тактичности и здравомыслия.
Аня и Ксюша более других имели чем блеснуть перед поэтом, удивляя его отменным познанием содержания и особенностей его поэтического творчества, подкреплявшимся хотя и кратким, но прочно закрепившимся в их памяти непосредственным общением с автором ещё в Москве, чем они, провинциалки, имели право по-особенному гордиться и готовы были без конца делиться с кем угодно.
Мать их, казалось, даже поощряла их в таком полезном усердии, и в целом, если даже надо было иметь в виду те самые, навалившиеся на имение печальные обстоятельства, она в этот раз словно бы и сама также проникалась их участливой живостью, и в ней при этом, пожалуй, невозможным было обнаружить ничего из барской заносчивости, а тем более – из барского деспотизма, если бы наверняка знать, что они, такие качества, – мнимо и только вслух и за глаза признававшиеся неподобающими самим дворянством, – были ей присущи.
Впрочем, Полина Прокофьевна всё же не снизошла к позволению девушкам рассуждать таким образом, чтобы их мнения касались событий по-особенному неприятных и огорчительных для своего семейства; несколько раз она весьма корректно осаживала их, переходя на галльский говор, что отгораживало суть их поспешных высказываний, по крайней мере, от тех из присутствующих исполнителей воли своих господ, кому знание французского не вменялось в их обязанности.
Как бы там ни было, а уже здесь, в этом собрании, Алексу дано было узнать некоторые способные интересовать его сведения.
Например, из щебетания двух сестёр и созвучных ему реплик матери выходило, что Ксюшу, годами теперь около семнадцати с половиной, возили на столичные смотрины первый раз, Аню же – вторично и что в обоих заездах участвовали оба их родителя, причём попытки их просватания были многократные, и девушки не были предрасположены давать отказы сами; отказывались искавшие их рук, поскольку этому препятствовали воззрения отца, весьма свободные по существу и в их отвлечённости, но сохранявшие окрас давнего имперского деспотизма, в том числе по отношению к дочерям.
Их замужество Лемовский ставил в зависимость от согласия на это его самого, а также – от величины состояния каждого соискателя, причём они могли устроить его, будучи по меньшей мере вдвое превосходящими его собственное, – только таким вздорным соотношением якобы должны были перекрываться красота и прочие достоинства его дочек, настойчиво и тщательно им превозносимые в присутствии немалого числа лиц, заинтересованных процедурою сватовства впрямую или только с пристрастием её наблюдавших.
Потому-то поиски женихов на дальних выездах и оказались безрезультатными, а как это могло быть досадно девушкам, а также, естественно, и их матери в условиях, когда женихов долго не находилось и поблизости, прежде всего в своём, хотя и весьма обширном уезде, следовало только догадываться. Ведь местных-то не находилось теперь уже по той далеко немаловажной причине, что устроить свои судьбы девушкам не удавалось не где-то, а – даже в столице…
В таком случае здешние претенденты на их сердца имели полные основания для сомнений в их достоинствах да и в возможностях подступиться к ним, а значит можно было ожидать, что новых попыток сватовства на местной территории уже просто не последует или, если они и будут, то – редкими и нерешительными.
Тут же, в этом вечернем собрании, незадолго перед тем как разойтись его участникам Алекс узнал, что управляющий имением, звавшийся Федотом Куприяновичем, назавтра ещё на утренней заре должен был уехать из села по неким неотложным надобностям и будет при месте лишь через день.
Гостя об этом уведомила Полина Прокофьевна, сказав обоим, что они уже сейчас могут согласовать время их деловой встречи, о предмете которой, как она выразилась, ей доподлинно известно.
Согласование состоялось; встретиться предстояло послезавтрашним ранним утром; однако такому обороту поэт не мог радоваться, поскольку затягивалось время на получение ссуды, и надо было позаботиться ещё и о пересылке суммы почтовым отправлением, так как брать деньги с собой в дорогу было бы верхом неосторожности ввиду тех же разбойников, разве лишь их толику – на сопутствующие незначительные расходы. Поделать тут ничего было нельзя, и в соображение такого обстоятельства барыня предложила поэту провести завтрашний день по своему усмотрению, в частности хоть и немного развлечь вот их, – она глазами указала на дочерей, – да пройтись, то есть прогуляться по усадьбе, не пренебрегая, конечно же, и аудиенцией у неё, на которую она его приглашает пораньше с началом дня.
Было ли ей по-настоящему ведомо, как дорого ценил он возможность отвести хотя бы часа три на своё творчество, пусть и в такой несообразной для этого, как сейчас, обстановке?
Ведь в отличие от владычицы Неееевского барыня даже не заикнулась о такой его потребности, составлявшей уже его привычку – как часть его подвижного, хотя и довольно сумбурного образа жизни.
Обходиться без сочинительства никак не входило в его планы; без него и так уже протекали один за другим целые дни, с чем теперь он всё-таки вынужден был примириться, прикинув, что пусть бы только всё как следует решилось со ссудой.
И ещё одним штрихом существенной значимости обозначался для него оконченный ужином и столь полезным общением вечер первого дня его пребывания в имении. Повод подавала Аня: на её лице и во всей фигуре он не увидел знаков уныния и подавленности, какие были явственны утром и тяготили её. Она была мила и приятна; нельзя было ею не залюбоваться. Исчезли красноты от слёз; нега таилась в чистых и манящих зрачках её глаз; на щеках укрепился отменный румянец, в котором не прибывало излишества.
– Хотите, я с вами увижусь сегодня? – спросила она Алекса, не понижая голоса и этим как бы показывая, что не собирается быть игривою или особо скрытничать, когда они уже расходились и времени для ответа ему оставалось в обрез.





