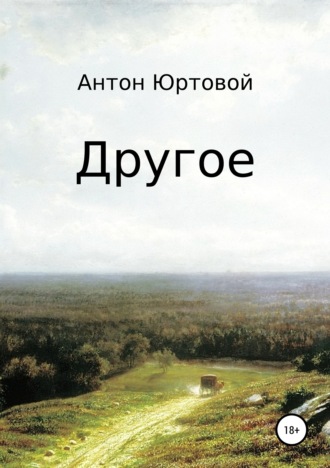
Антон Юртовой
Другое. Сборник
– Был бы весьма рад. У меня – или?..
– Ну да, у вас. Ни о чём не беспокойтесь. Я буду к половине одиннадцатого…
– Это уже скоро. Идёт!..
Сговариваться о свидании в подобном виде считалось делом обычным, принятым не только в среде, близкой к царскому двору, но уже и на периферии, какой бы дальней в империи она ни была.
Тут имелась в виду, собственно, встреча или аудиенция, где кто-либо считался принимающим, другие же, один или несколько, выступали как ему равные или – в роли только покровительствуемых, а то и – обычных просителей. Время приёма выбиралось самое разное на протяжении суток. Не существовало ничего, в чём бы ограничивались предметы, которые могли обсуждаться сторонами. Дворянам такая традиция не могла не импонировать, так как позволяла индивидуально распределять каждому часы дня или ночи как для своих нескончаемых увеселений и праздного безделья, так и для занятий серьёзных, отправляемых не только в присутствиях, как тогда именовались гражданские офисы, или по месту военной службы, но и – на дому, в том числе будучи у кого-то в гостях
Столь рациональную, а вместе с тем и достаточно эффективную организацию внутрисословного общения просто невозможно было не совместить также с потребностями жировавшего класса удовлетворяться в неофициальном интиме или адюльтере, каковой, как и в любые времена и буквально всюду, следовало, не оспаривая, рассматривать как данность и в той обширности, а также, разумеется, и в широчайшем негласном его оправдании, в каких он мог проявляться сам по себе – как выходящий из неустранимой особенности каждого человека быть в любовных пристрастиях не зависимым ни от каких установлений и – неподотчётным никому. Он хотя и замыкался в своей таинственности и нуждался в тщательном сокрытии, но даже при той оговорке, что сословную дворянскую консолидацию он, наряду с другими на неё воздействиями, методично подтачивал и обрекал на истощение, её целям он всё-таки и служил достаточно исправно, – хотя это и приводило к умножению разврата.
Разумеется, его очевидные «минусы» нисколько и ни с какой стороны не могли пресекаться с достаточной, а тем более надлежащей эффективностью, и, собственно, этим существенным обстоятельством объяснялось то, что отделить интим от деловой сферы и приватной общительности тогдашние господа не считали нужным и даже не пытались этого добиваться.
Мода на такое проявление свободы нравов распространялась темпами неслыханными на западе Европы уже более чем за полтора столетия до описываемых здесь событий, а в наибольшем размахе – во Франции, в пору регентства там герцога Орлеанского, когда власть имущие, накопив богатства, показывали их со всею возможной пышностью и великолепием.
При этом вызывающие уклонения от устоенных укладов в отношениях между полами соседствовали с полнейшим забвением господами требований гигиены, как личной, так и – своих слуг, не говоря уже о соблюдении хотя бы элементарной санитарии внутри помещений и в людных местах снаружи – в её более позднем понимании, на что в частности указывали всесословные привычки месяцами не мыться и даже не освежать влагою своих тел («заслоняясь» от неприятных запахов обильным употреблением искусственных духов, что опять же становилось модой), а также – мириться с тем, что на усеянных конским помётом и неубираемых улицах сёл и городов, не исключая Парижа, жителям позволялось пасти домашних животных и птиц, разделывать их туши, устраивать массовые гулянья, и тут же бродили своры бездомных, нападавших на людей одичавших и злых собак, сюда выплёскивались и помои – прямо с парадных лестниц и крылец, а нередко и – из окон – как дворцов и домов богатеев, так и – хижин простонародья.
Естественно, всё это не могло не оборачиваться вспышками тяжелых и в большинстве ещё не поддававшихся достаточному излечению инфекционных заболеваний, в том числе венерических, по части приобретения которых господскому сословию принадлежало тогда несомненное первенство…
Именно в тех землях поползновения устроиться с неофициальным интимом как можно легальнее глубоко пропитывались на все лады возвышаемым кодексом феодальной чести.
Его когда-то негласно вводили под знаком неписаного корпоративного права странствовавшие и оседавшие в замках бесшабашные рыцари и землевладельцы, и уже с той поры из него всё в большей степени выглядывал немалый урон.
Ущемлёнными до крайности оказывались мужья, жёнам и пассиям которых позволялось перебирать и менять любовников как им могло заблагорассудиться и лелеять в себе ту неудержимую их распущенность, какую всем полагалось принимать снисходительно и всепрощающе. Модель поведения для мужьёв предусматривалась хотя и сильно схожая с этой, но и своеобразная.
Обращения к справедливости им обязательно требовалось увязывать со строгой нормой защиты породной чести. А это в высшей степени усложняло сведение счетов с появлявшимися отовсюду любовниками их женщин, а также и с самими неверными женщинами, когда в наказание или в устрашение как тем так и другим годились бы средства вроде суровых назидательных объяснений или даже физических воздействий – пощёчин или серьёзных побоев.
Речь могла идти только о картеле – вызове обидчика (и лишь одного – мужского – пола) на поединок или дуэль с соблюдением правил исключительной сословной вежливости и с применением смертельного оружия, рапиры или меча, а – на это решались очень и очень редко.
Предпочитали молча сносить позор от изменниц и от вероломства их сторонних обожателей, а заодно и – соответствующие светские сплетни, как бы не замечая очевидного, и в результате большинство мужей, а в немалых случаях – уже и женихов или наречённых обрекалось на восполнение презренного племени рогоносцев…
Будучи поставлен в условия, когда выбирать ему не приходилось, Алекс, готовясь к предстоящему ночному визиту к нему Ани, был тем не менее не склонен принимать их, досконально в них не разобравшись.
Что значит ни о чём не беспокоиться?
Даже о том, что могло быть связано с присутствием слуги?
Проговорившись, тот мог представить его встречу с девушкой перед жильцами дома и даже дворней в каких угодно вольных интерпретациях и намёках.
По своему статусу тот, конечно, обязан держать язык за зубами, но ведь гарантии этому нет никакой. Сплетни могли дойти до столичного света, а мало ли их там разносилось о нём по любому, даже мелочному поводу, неизменно доставляя ему досаду и раздражение? Нет, оставлять слугу не годится.
Отсылая его отдыхать вплоть до завтрака и сказав ему, что во всём управится сам, Алекс, однако, чувствовал неловкость от ущемления той его свободы, какою должны были быть обоснованы другие его действия и намерения. Ладно, не всё шло как бы он хотел со ссудой и с сочинением стихов.
Но не мог же он забыть о вещах не менее серьёзных и едва ли не главных на данный момент, поскольку они впрямую касались его порядочности и достоинства – как дворянина.
Да, именно о них следовало теперь помнить постоянно. В частности, никак невозможным было устраниться от мыслей об израненном и совершенно беспомощном Акиме, страдания которого ещё предыдущей ночью воспринимались как невыносимые. Или – об Андрее, с его обречённостью из-за тяжёлой простуды и уже почти до конца выношенном решении покинуть лесное сообщество и скрыться.
Что принуждены будут делать люди, оставаясь без пропитания, без лекарской помощи, без вожака? Пусть они и разбойники, но он поручился честью, пообещав посодействовать им.
Не будет такого содействия, они наверняка предпочтут поступать не иначе как только по-разбойничьи, зло и жестоко, уже в отношении каждого, кто встретится им на их пути, в том числе, разумеется, и в отношении таких личностей, как он, известный поэт. В том правота – за ними, а вина – его, пусть даже и – не во всём.
Уже теперь ему становилось чуть ли не ясным, что дело с оказанием содействия, за которое он взялся, может быть ему неподъёмным.
За столом во время ужина у него была хорошая возможность определить, насколько вероятна его удача в предстоящем. Почему Андрей предложил ему обратиться лишь к управляющему? Тот нисколько не показался ему достойным доверия. Знает всё, что происходит в имении, о тратах и всякого рода обращениях, связанных с ними, вынужден докладывать своим господам.
Как он воспримет переданную через него просьбу? Только как просьбу? Или, может быть, как требование, намёк на жестокую расправу в случае отказа? Значит, этот человек заведомо должен быть поставлен в губительные для него обстоятельства…
Подступаться к другим лицам, которых поэт узнал во время недавнего ужина, также было рискованно или даже нелепо.
Если кто-либо из них и мог сочувствовать беглым, то с изрядной оглядкой – как бы не быть в этом замеченным его властителями.
Уставившись на единственную горевшую свечу, уже основательно осевшую ко дну посеребренного шандала старой работы, рядовой носитель сословной чести, уйдя в себя, снова и снова пробовал укрепиться в тех соображениях, какие позволяли бы ему преодолеть возраставшую неопределённость почти как неизбежных предстоящих событий и – так не свойственное для него убывание в нём решимости перебороть свои сомнения.
Аня застала его в таком отстранённом состоянии, но каким образом и с какой стороны она впорхнула в его обиталище, он даже не заметил. Она, оказывается, несколько опаздывала. Почувствовав её рядом и придвинув ей стул вблизи напротив себя, он усилием воли заставил себя встряхнуться, и когда она наконец уселась и откинулась на спинку, стараясь не показывать своей смущённости и озорно улыбаясь, выбрав позу, при которой свет от свечи падал бы также и на неё, он принялся внимательно рассматривать её.
Теперь в его взгляде легко угадывались та повышенная, глубокая внимательность и тёплое искреннее любопытство, приправленные лукавинкой и иронией, которые всегда украшали его, когда отвлечённые мысли постоянно были готовы взаимодействовать с его чувствами, затрагивавшими в нём что-либо близкое поэзии.
В обстановке уединения в довольно просторной комнате хотя и с ограниченным освещением Аня и в самом деле не могла не заметить этого возвышения в нём как бы искрившейся его чувственности, а соответственно этому ей очень легко было сразу обратить внимание и на себя, на свою красоту и развившуюся пышную её женственность, скрыть которые было бы вообще никак невозможно, тем более сейчас, в условиях некой кружившей девичье воображение неизвестности, почти таинственности, так что уверенность её в себе тут же падала на благодатную почву, подстёгивая воодушевление визави.
– Что же мы молчим? – тихо произнесла она и слегка притронулась пальцами своей руки к одной из его пястей, не прикрытой манжетой рубашки.
– Как вы хороши; я любуюсь, – проговорил он, уставившись взглядом прямо в её глаза и сознавая, что на этом нить его мыслей обрывалась и возвратиться к ним он не сможет.
– Я польщена и – очень рада. Благодарю. Я ждала… Однако позвольте вам напомнить?..
– Что?..
Вместо ответа она принялась декламировать стих. Это была часть того довольно объёмистого текста, начало которого он услышал от Андрея, когда с ним они только сошлись у кареты, куда Алекс возвратился, не убив себя в ночном поле. Аня им не ограничилась и разверстала фрагмент до его конца; казалось, она готова была читать ещё дальше, всё произведение. Голос её был ровным и чеканно-спокойным.
Она как будто не собиралась раскрывать читаемое в приподнятой игровой торжественности, какой можно было ожидать. И всё же затраченные усилия выдавали себя: её дыхание участилось, а вместе с этим чаще поднимались и резче опускались выпуклости её грудей, волнуемые тайно хранимой, но сдерживаемой страстью.
– Весьма польщён. Весьма… – Он не переставал смотреть на неё, как бы предлагая ей самой ответить на вопрос, который мог быть важным как для неё, так и для него, и вожделение, вызываемое притягательностью её манящего облика, уже томило его, становясь назойливым и жгучим.
Как бы желая отвлечь его от этой нелегко скрываемой им чувственной неудержимости, Аня принялась декламировать его короткие, наиболее содержательные лирические стихотворения, удостоенные самой широкой популярности и признания.
Автор не перебивал. Он уже хорошо отличал старание чтицы: ни в малой части оно не выдавало обывательского трафарета. Это было то понимание сути его творчества, какое поэт находил едва ли не в полной мере схожим со своим собственным, и оно нисколько не входило также в противоречие с теми искренними рассуждениями обеих сестёр во время недавнего ужина, указывавшими на уже обоснованную и устоявшуюся в имении постижимость его лучших произведений в результате непосредственного углублённого и вдумчивого их прочтения, а не с оглядкой на чужие мнения – случайные, занесённые со стороны общие отзывы о них, кругами ходившие по провинциальным пространствам.
– А теперь очередь за вами! Пожалуйста! Не отказывайтесь! – Девушка будто вздёрнула своё предыдущее озорство; она светилась удовлетворённостью и осознаваемою силой неотразимости своей неги.
Отказать Алекс не мог и не хотел. Он выбрал тройку стихов, сочинённых им недавно, причём одно из них вышло у него экспромтом, а два – из тех, которые он читал… Мэрту.
Вовсе некстати было вспоминать об этом отщепенце, так что за лучшее он посчитал остановиться, не бередить себя раздражением. Хотя и с усилием смягчив интонирование при окончании декламации, он, по примеру Ани, притронулся к её руке, но уже – к запястью, у самого её плеча, неплотно сжав это место и с полминуты задерживаясь на нём.
Аня вспыхнула, и он ощутил, как из-под её ровной и мягкой кожи его руке передаётся участившееся биение мышечной крови. Ему показалось, что он не только чувствует, но и слышит, как стучит её возбуждённое сердце; своё же трепетало и билось в нём уже каким-то гулким стуком, будто спеша покинуть занимаемое в груди место и выпрыгнуть…
Уже не укрощая пьянящего наваждения, он провёл пальцами вниз по её руке, робко гладя её, и когда они коснулись её кисти, поднял её к своему лицу, покрыв поцелуями и не переставая смотреть в её зрачки.
Заметить в этот момент нечто вроде растерянности на её лице было нельзя. Девушка вполне совладала с собой, показывая образцовую интимную сдержанность, принятую в дворянском сословии как часть обязательной ритуальности поведения.
– Здесь у нас настоящий ваш культ, – подвела она итог неожиданному и такому сближающему обоих представлению, вполне удовлетворившему Алекса: в отношении своей поэзии он не терпел ни эпатажного суесловия, ни слащавости. – Восхищаемся каждой вашей строкой. Ксюша даже даёт мне фору; то же и Андрей: он просто бредил вами…
– Это ваш брат? Почему вы говорите о нём в прошедшем времени?
– Вы его знаете?
Своим вопросом она как бы озадачивала его, о том не подозревая; однако он не намерен был открываться в завезённой им сюда тайне.
– Как вам сказать. Мне ваш батюшка…
– А-а, понимаю. Это наша боль, извините… – На глазах у неё показались слёзы. – Ах, господи! Только представьте, они с папенькой много и дружно спорили о французских событиях до и после Бастилии. Андрюша к этой теме имел особенное влечение ещё с детства; в университете и после на военной службе, которую он оставил, его убеждения укрепились, и они были уже во многом схожи с отцовыми; однако время показало, что папеньке это служило только забавою. Порка холопов за провинности у нас поручается прислуге в лице мужских персон; часть их вы сегодня видели… Но – и на этом остановки не делается. Андрей как-то проиграл в карты большую сумму и просил выдать её в возмещение долга. Папенька устроили торг на свой лад. Сын должен был взяться за плеть – так звучало выставленное ими условие. Непослушание решило всё. Покидая усадьбу, Андрей написал объяснение, и в нём отказывался от звания дворянина. Для папеньки это стало ударом. Они готовы были простить сыну его горячность, бумагу изорвали и выбросили. Но тот на примирение не пошёл. И родителям, и нам с сестрой так до сих пор и неведомо, знает ли он о возможности уладить конфликт. А минули уже месяцы. К нам доходят слухи, один тревожнее другого…
Слёзы, катившиеся по щекам, мешали ей; Аня их старательно вытирала, и было видно – стыдилась их. Несколько крупных слезинок упали на её прелестный подбородок и устремились дальше, к открытому вырезу под ним. Девушка судорожно потянулась туда рукой и, уберегая груди от сырости, касалась их платочком, слегка приподнимая над ними краешек лёгкого вечернего одеяния.
– Право, я не должна была этого рассказывать… Я не позволяла себе такого ни перед кем… Но, пожалуйста, поймите – это для нас так ужасно, так невыносимо… Смелею лишь перед вами… От чистого сердца… Хочу быть искренней, как тогда… тогда… Вы помните? – И она уже плакала, звучно и скомканно всхлипывая и с трудом преодолевая накатившую на неё разлаженность.
Алекса нисколько не выбивал из колеи резкий переход от возвышенной декламации его стихов и соответствующего возвышения его неотделимой от поэзии чувственности к парадоксам оборотной стороны жизни в помещичьем имении, где, как он давно знал по опыту своих странствований, могли вызревать и проявляться ещё и не такие события и происшествия.
Взяв Аню за обе руки и подвинувшись на стуле, чтобы сесть к ней ближе, он тихо уговаривал её успокоиться и уже как бы ждал, что девушка обратится и к иному разделу тревоживших её, как, несомненно, и всех в имении, и тщательно ими укрываемых подробностей местного безалаберного крепостнического существования.
И в самом деле – она пошла дальше, как могло казаться – опять чуть ли не из озорства, при котором смелость, с какою она вовлекла его в декламирование его стихов и предельно откровенно изложила передрягу с Андреем, давала ей возможность или даже право быть такою же смелою в вещах хотя и иных, но – того же, притаённого, скандального дворового ряда. Подбадривая её своею нерушимой внимательностью, поэт видел, что она и не хотела бы сдерживаться, хотя к тому уже появлялась немаловажная причина: догорала единственная свеча в шандале, и в комнате, как и за окном, где ещё было далеко до восхода луны, очень скоро должно быть совсем темно… Впрочем, это обстоятельство не заботило уже и его самого – как слушателя, предвкушавшего, что, возможно, вот сейчас приоткроется для него нечто более занимательное предыдущего слёзного рассказа.
– Папенька подобным же образом намеревались подмять под себя Фила. Но успеха и с ним не имели. Замашка и тогда закончилась драмой и их же позором. Но – они таковы; им всё нипочём…
– Фил – это кто?
– Наш сводный брат. И его уже давно нет в живых. Он утонул в пруду, как считали, – по собственной расположенности… Старше Андрея на шесть лет. То есть сейчас ему было бы тридцать четыре. Судьба его трудна. Мать у него – крепостная, служила кухаркой. Папенька водили с нею амуры, будучи только-только женаты. Когда это стало известно маменьке, пришлось её удалить. Её продали в чужое имение. Там Фил и появился на свет. Позже, когда он подрос, папенька привезли его сюда. Ему дали обучение. Папенька всегда были странными в их пониманиях свободы и справедливости, но многие полагали, что в случае с усыновлением незаконного дитяти в них попросту возобладало отцовское чувство. С Ксюшей мы знали Фила уже молодым человеком, будучи сами ещё детьми. Сводный братец был до крайности строптив, неуживчив, не хотел верить документу о его новой переписи, не радовался этому. И то, с чем ему приходилось жить, отражалось в нём крайне болезненно… Всегда его терзали стрессы, какие-то угрызения, чьи-то помехи… Мне, впрочем, кажется, что теперь и я и Ксюша могли бы понять его значительно лучше…
– Почему вы посчитали нужным рассказать о нём?
– Он успел написать небольшую книжицу, где осветил свою бедственность и горечь от разочарований… Как сочинителю, вам это, может быть, нужно.
– Невероятно! В вашем дворянском гнезде! Книжицу? Вам довелось прочесть её?
– Да, и не один раз. Изложение очень волновало меня.
– Из-за чего?
– Он тяготился данными ему правами, при которых мог рассчитывать на получение части наследства. Тяготился и нами, его сёстрами. С одним Андреем отношения у него были ровные и искренние. Тот наставлял его в подправках текста книги, брал на себя хлопоты по её скорейшему изданию…
Алекс напряжённо вслушивался, стараясь не упустить ни одной мелочи. Он уже не мог отделаться от ощущения, что в Анином рассказе ему приоткрывается тайна, связанная не только с содержанием повести, но и с её автором…
– Что же – с изданием?
– Андрей пользовался связями со студенчества и с воинской службы… Нашёлся человек, имевший типографию… Где, в каком месте, брат не говорил никому, даже папеньке…
– И тот… Как он это воспринимал?
– На деньги не поскупились. Книжек было отпечатано немного. Папенька их сами развозили и оставляли на постоялых дворах и почтовых станциях, где им приходилось бывать. Чтобы, как они утверждали, усвоение прочитанного не зависело ни от каких пристрастий и было свободным, людьми, пусть и совершенно незнакомыми, даже малограмотными. Говаривали, что это лучше, чем подсовывать образцы бесчестным и бестолковым столичным критикам. От такого писательства те, мол, носы воротят, им подавай что-нибудь непременно об адюльтере, вихревом и сентиментальном, на манер модного заграничного. Часть раздаривали по имениям, хозяевам – своим приятелям. С тех пор книгу находили даже в кабриолетах. О ней узнали, кажется, и в других странах…
– Фила это устраивало?
– Очень. Мы все заметили его потепление к папеньке. Только скоро это оборвалось… Было решено его женить; невесту подыскали хотя и не в своём уезде, вдалеке, но – из зажиточного дворянского рода, с хорошим приданым… Фил воспротивился. Оказалось, у него была любезная здесь. И – кто же? Вы бы знали! Кухарка! Словно бы в насмешку над папенькой… Обвенчаться с нею был согласен, но – того уже не последовало. Папенька его невзлюбили…
– Он был вашей фамилии?
– Нет. По его матери: Антонов. Теофил Антонов.
– Книгу можно видеть?
– Я сейчас… В папенькиной библиотеке… – Аня порывисто встала и чуть ли не бегом устремилась из комнаты, тихо ступая по полу.
Совсем скоро она возвратилась, вручая ему уже знакомый ему простенький невзрачный переплёт. Свеча в шандале потухала. Поэт воспользовался почти что последним её светом – успел заглянуть под обложку. Это было то же издание, какое он прочитал и над которым, растрогавшись, плакал в дороге, но, впрочем, не столь зачитанное и не затёртое.
– Я теперь достойна вашей похвалы, не так ли? – Аня прижалась к нему, вздрагивая и теребя ему плечо. Темнота уже скрыла её черты. Алекс, изумлённый услышанным, касавшимся необычного издания и его автора, радуясь этому, обнял её, покрывая частыми поцелуями разгорячённые щёки, плечи, быстро терявшие стыд влажные губы…
– Ещё, ещё, – шептала она, подчиняясь восторженной неистовости и поддаваясь изнеможению… Уста их слились, и так они стояли с минуту, пока она, чуть-чуть отстранившись, не сдвинулась с места и не взялась торопливо расстёгивать свои пуговки… Алекса обдало наготою завораживающего атласа её грудей с упругой колючестью шершавых пупырышек сосков, и при этом он мог быть уверен, что уже плохо владел собою.
– Я берегла себя для вас… Я вас люблю… С тех самых дней… С первой встречи… Люблю!.. – шептала она. – Возьмите меня!.. – И она уже тянула его за руку, направляясь к невидимому пологу.
Туда было каких-то два шага. Он поднял её, понёс на руках, и они уже вместе очутились в охватившем их состоянии мощной, почти как болезненной судорожности, обжигающей и неотвратимой…
Когда с её девственностью было покончено и последовали новые приступы обоюдного страстного, безудержного упоения ласками, они в паузах между ними тихо переговаривались, используя уже выстроенный ими ряд исповедальности и реплик.
Первенство здесь принадлежало, конечно, Ане, и Алекс не спешил воспринимать её как болтушку по рождению. Что-либо говорить ему о себе пространно значило опустить то, что предлагалось ею, а как раз этого он не хотел. Над ним, как он должен был понимать, довлело то необъятное писательское любопытство, которое возбуждалось в нём нередко даже по какому-нибудь простому случаю, а от чтения дорогою книги будто нечаянно вспрыгнуло в нём каким-то уже почти что роковым движением в лесной глуши, когда захваченный разбойниками, он испытал сильнейшую огорчённость от поведения их вожака, хотя и обронившего об Антонове несколько отчётливых, как бы наводящих на что-то фраз, но – остававшегося замкнутым и отстранённым вплоть до скорого расставания с ним.
Вспоминая поездку в фуре, он холодел от возникшей тогда шальной мысли определиться с поступком по защите своей дворянской чести посредством вызова предводителя разбойников на смертельный поединок, осуществить который не было никакой возможности. Она, эта мысль, хотя уже и была интерпретирована, поскольку оказывалась не связанной больше с живым присутствием вожака, но – как вызывавшаяся жаждой необходимого очищающего поступка, так пока и не совершённого, она продолжала держаться в нём, то и дело отдаваясь в его душе неотчётливой обеспокоенностью и шевеля в нём чувство вины, взять которую на себя он как бы обязывался, но ещё сомневался, по своему ли почину или ввиду чьей-то, сторонней воли следовало это сделать…
Чтобы всё же не застревать в том уже неустранимом из его памяти эпизоде и не обидеть хотя бы и коротким отчуждением возлегавшую с ним на ложе пылкую обожательницу его таланта, он поощрял её всё тою же нерушимою своей внимательностью, направляя в ней охоту к изложению её собственных незатейливых, но вполне здравых мыслей и местами лишь короткими вопросами или словами участливого одобрения побуждая её исповедоваться в избранном ею тоне и в подробностях – дальше, к тому, что он непременно хотел слышать и знать.
– О чём же ты плачешь? – спрашивал он её, когда при её новых упоминаниях о Теофиле и об Андрее она вздрагивала и торопливые слёзы влажнили ей щёки.
– Я… боюсь, – говорила она, прижимаясь к нему.
– Чего? Скажи.
– Фил в его дерзостях успел испортить мнение о себе до крайности. Он доходил до того, что напускал порочное на всех нас…
– Если тебе это в тягость…
– Нет, я должна тебе рассказать… Совесть меня задушит, если не выговорюсь… Тебе ведь уже и так многое известно… Ну, вот представь: он вслух и прилюдно распространялся о том, что, якобы, наши маменька – блудящие. Они и правда, узнав об измене им, а затем и о рождении на стороне мальчика, часто позволяли себе выпивать наедине водки. Со временем это перешло в распития затяжные и с прислугою, причём не только здесь, в доме, а где-нибудь во флигеле, в саду, в риге… Фил божился, что не раз видел её в бесстыдных сношениях прямо на ковре или на соломе с красавцем истопником. Папенька вознегодовали. Фила они сами высекли и долго держали взаперти. Взялись и за соблазнителя. Тот несколько раньше был ими отпущен на волю – у нас таким образом поощряется особая старательность в хозяйствовании; но, как ещё совсем молодой, неженатый и не имея средств завести своё дело, он продолжал служить в усадьбе. Боялся потерять привилегии. И с выдачей любовницы упрямился. Жестокие избиения были безрезультатны, и его отправили в солдаты. Само собой, не обошлось без шумных нападок на маменьку. Те в свою очередь укоряли в неверности супруга. Масла в огонь подлил Андрей. Когда покидал усадьбу, сказал в присутствии родителей, меня с сестрою и слуг, что мы с нею рождены не от папеньки, а от того самого истопника и от кого-то ещё. Будто бы Фил знал об этом и делился с ним… Взялись было разыскивать незадачливого служивого, чтобы от него добиться-таки истины, однако тот, оказалось, подался в бега… Да и что можно теперь уже сделать?.. Мы с Ксюшею так несчастны… Для нас жизнь закрылась наглухо… Мы никому не нужны!.. Что с того, что нас возили… и мы выглядим беззаботными или даже весёлыми?.. В замужестве нам не бывать! – Аня рыдала трогательно и безутешно, изрядно смущая Алекса.
Его уже коробило её присутствие и столь гнетущая безудержная откровенность.
«Отечественный адюльтер, – хотелось говорить ему вслух, – обрисован теми же красками, что и французский, эффектно расписанный перед нами в наше развлечение и как будто в поучение.
Но ведь он – предмет нашей природы. Ему покорны и чернь, и такие сословия как моё.
Чего могут стоить сочинённые мною интимные вирши, где я отодвигаю в сторону действительное и силюсь выделить из него нечто возвышенное и будто бы облагораживающее?
Знаю, что, как и другие, подвержен пороку и что о нём, сидящем во мне, известно не мне одному, но – не отказываюсь потчевать общество слащавыми натяжками, по существу же – враньём. Стихи о любви ведут к сопереживаниям, взъерошивают эмоции, это – так. Но с моей стороны это – медвежья услуга.
Приобщённые к поэзии отнюдь не склонны удерживать в себе позывы к наслаждениям плоти. Поэзией они подталкиваются. А одновременно сплошь и рядом легко перечёркиваются мнимые запрещения, исходящие от молвы. Сколько во всём этом глупостей!
Люди прячут сокровенное в себе и напропалую прелюбодействуют, тут же сообща и не иначе как с плёткой устремляясь в защиту будто бы желательной непорочности. Чьей? Тех, кто ханжеством хотя и прикрыт, но не в силах воспротивиться необоримому, естественному… То есть – их же самих!
Чёрт бы побрал такой порядок!..»
Давно уже светила луна, и темнота внутри, накрывавшая их и удерживаемая лишь неплотным и не до конца задвинутым пологом, стала разреженной и даже позволяла отличать им их очертания.
Утомлённые, они тяготились затянувшимся возлежанием, и это заставляло их употребить позу сидя поперёк довольно просторного ложа, спинами прислоняясь к стене, или же – повдоль его, в обоих случаях – поджав ноги. Говорить было удобнее.
За окном уже слышались отдалённые петушиные выпевки; по числу стуков сторожевой колотушкой выходило, что часа через полтора в церкви должны были прозвонить колокола – с возвещением к заутрени.
Ощущая теплоту и ласковость Аниного тела, жаждание ею настойчивых прикосновений с его стороны, Алекс чувствовал, что несмотря на всю её открытость в исповедании, бывшей поначалу похожею на озорство, она сильно подавлена – и тем, о чём осмеливалась рассказывать ему чуть ли не в срамных оттенках, и своим состоянием крепнущей привязанности к нему, которой она должна бы стыдиться – как сама, по своей инициативе употребившая для их сближения всё, что только смогла, ещё с самого зарождения в ней страсти, с момента, как она сообщала, той их первой встречи, в искренности чего он теперь не мог бы сомневаться.





