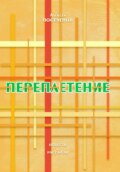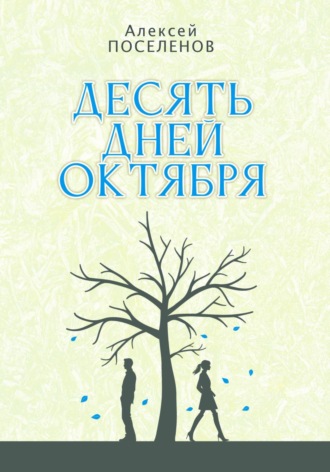
Алексей Поселенов
Десять дней октября
– Погоди, – возразил Артём, – но если, как ты говоришь, души не рождаются заново, а просто переселяются из одного тела в другое, то на земле должно быть всегда примерно одно и то же количество людей.
– Ну почему же? Ведь законы физического размножения никто не отменял. Допустим, род людской начался с минимального количества людей. Давай даже согласимся, что их было всего двое: Адам и Ева, как в Библии сказано. Они стали размножаться, ну и вот доразмножались до семи с половиной миллиардов. А души этих миллиардов до этого времени могли находиться где-нибудь во Вселенной. Ведь вполне возможно, что наша цивилизация далеко не первая на земле, что они многократно появлялись и погибали. Говорят же про всяких там лемурийцев, атлантов… Может, их души потом и воплощались неоднократно в современных людях. А может, и на других планетах где-нибудь во Вселенной. Да мало ли, чего мы не знаем. Почему бы и нет?
– Ну не знаю… Хорошо, а вот буддисты, про которых ты говорил… Там тоже о любви говорят?
– Конечно! Хотя буддизм довольно сильно отличается по форме и от христианства, и от ислама. Там вообще нет понятия Бога-творца или Бога-спасителя, буддисты отрицают существование бессмертной души, вечного наказания или блаженства, а их целью является освобождение от страданий, от земных воплощений и переход в нирвану. Какие там основные моменты? Если двумя словами, то жизнь – это страдание, страдание проистекает от привязанностей, освободишься от привязанностей – освободишься от страданий. Поэтому освобождайся от привязанностей ко всему земному. Но вот если ты опять посмотришь на то, каким образом достичь всего этого, то есть, как следует человеку жить и что делать, то увидишь много общего с другими религиями. Но повторю: если смотреть именно на то, как жить здесь, на земле.
А что касается любви, то Будда говорил, что ненависть нельзя победить с помощью ненависти, что ненависть побеждает только любовь. Чем не христианское «ударили тебя по одной щеке – подставь другую»? Или его слова, что нужно излучать безграничную любовь ко всему миру? Буддизм учит сострадать всем живым тварям на земле, не причинять никому вреда. Там говорят, что нельзя убивать, красть, прелюбодействовать, лгать, быть скупым и так далее.
И ты понимаешь, что получается… Если не погружаться в теоретические вопросы, кто такой Бог и есть ли Он вообще (а это именно теоретический вопрос, так как ни один человек на него достоверно ответить не может), кому и как молиться, а думать лишь о том, как жить здесь на земле, как относиться к тем, кто рядом с тобой живёт, то все учения говорят практически об одном и том же! О любви! Да что религии! Без религий хватает философских теорий, фактически учащих тому же. Почитай древних стоиков, например, Эпиктета. Там только что упоминаний о Христе нет, а когда читаешь, так полное ощущение, что это какой-то христианский святой или просветитель писал: практически всё то же самое. Я опять же имею в виду именно «как жить». Понимаешь?
Иногда я вообще думаю, что Бог, не зная, чего ждать от человека, посылает на землю разные учения в надежде, что хоть где-то мы да начнём жить по любви. Если одно мы испортим, второе, так к третьему, может, прислушаемся. Ну или чтоб каждый выбирал себе по вкусу, людей-то много. А иногда кажется, что одно учение лишь дополняет и усиливает другое. Я вообще думаю, что Бог, который даёт эти правила людям, делает это для того, чтобы мы именно здесь жили так, как там сказано, а не для того, чтоб этим заслужили себе какую-то райскую жизнь после смерти. Если Бог есть любовь, и Он милосердный и прощающий, то он потом всех к себе примет. Не за что Ему души людские судить, по большому счёту. Их, эти души, никто не спрашивает, хотят они жить на земле или нет, где и когда им родиться. Ему надо, чтобы мы именно здесь жили так, как он просит. Понимаешь? А все разговоры про рай и ад, это для нашей же мотивации, чтоб подвигнуть человека жить соответствующим образом.
Дядя Гена замолчал.
– Погоди, как это – Бог всех примет? – не понял Артём. – Даже тех, кто преступления всякие страшные совершал, кто жил совсем не так, как этот Бог указывает? Гитлера какого-нибудь или убийц всяких? Им что, тоже жизнь райская уготована, как и праведникам?
– Не сразу, но потом когда-нибудь – да. Я же тебе говорю, что считаю, что люди не один раз на землю приходят. Тот же Гитлер ведь не сам по себе взялся, он тоже продукт своего времени, воспитания, каких-то качеств характера, которые были заложены в него от рождения на генетическом уровне. Натворил дел в этой жизни – в следующей сам окажется в роли жертвы, будет искупать страданием, пока не искупит. Пока жить по любви не научится. Грубо говоря – рано или поздно все святыми станут. Но кому-то на это понадобится тысячи жизней и не факт, что при нашей цивилизации, а кто-то за сотню или десять уложится. Впрочем, может, я и ошибаюсь, может, какие-нибудь души и сгинут напрочь, вовсе исчезнут. Думаю, тут никто точно знать не может, только предполагать. Вот и я лишь предполагаю.
– Гм, интересно. Слушай, дядь Ген, а ты сам в церковь ходил когда-нибудь? – чуть погодя спросил Артём.
В их деревне была небольшая деревянная церквушка, построенная на закате советской власти.
– Ходил, – вздохнул дядька. – И причащался, и исповедовался, но потом перестал.
– Почему?
– Как тебе сказать… В душе я себя, конечно же, христианином считаю, но выходит, что по сути, а не по форме. Вот церковники перечисляют разные грехи, выделяют из них основные – кто семь, кто восемь: гордыня, чревоугодие, сребролюбие, тщеславие и так далее. А как по мне, так есть только один единственный грех – отсутствие любви к ближнему, и от него уже все остальные произрастают.
– И чревоугодие, что ли?
– А почему нет? Человек развитый духовно, который любит и Бога, и ближних своих, и себя самого вряд ли будет обжираться за столом. Он будет разумно относиться к своему телу, которое обильная еда огрубляет, и не будет потакать своим животным страстям. Ну так вот… А про отсутствие любви к ближнему, как про грех, почему-то никто ни слова не говорит. А мне кажется, надо сразу в корень смотреть. Чего толку рубить эти головы, если о любви и не помышляем? Не одно, так другое вылезет. И вот поймал я себя как-то на том, что каждый раз на исповеди в одном и том же каюсь, в том, что нет во мне этой самой любви к ближнему. И каждый раз мне этот грех как бы отпускается. А я через две-три недели опять то же самое говорю, и снова мне это прощается. И знаешь, какое-то ощущение возникло, что будто обманываю я Бога-то. В Евангелии как написано? Иисус, когда отпускал грех человеку, говорил: «Иди и больше не греши». А я что делаю? Покаялся, мне этот грех отпустили, а я потом то же самое повторяю, выходит по-прежнему грешу. Опять же вот говорят, что человек не может не грешить. Так, дескать, он устроен. Но если это так, и человек грешит только потому, что он человеком уродился, то какой смысл тогда вообще каяться в своих грехах? Ведь он по‑другому, выходит, просто жить не может! Не понимаю я таких покаяний. Стыдно мне стало за эти исповеди, и перестал я делать это. А каяться в том, что я, допустим, в постный день бутерброд с маслом съел или кусок рыбы, так этого тем более не понимаю. Что было в холодильнике, то и съел. Какой тут грех? Кому от этого плохо? И если я не съем в среду или пятницу кусочек колбасы, у меня что, от этого любви к ближнему прибавится? – дядька пожал плечами. – А что касается причастия, так по мне самое настоящее причастие – это наличие любви в душе, вот и всё. Что толку, если ты вином и хлебом причастился, а в душе-то любви вовсе и нет ни к кому? Говоришь, успел прочитать, как там апостол Иоанн сказал: «Пребывающий в любви, пребывает в Боге»? Вот оно самое настоящее причастие и есть – пребывание в любви.
– Значит посты разные, по-твоему, вовсе не нужны?
– Нет, Артём, нужны, и очень даже нужны! Но если они к месту, если пост этот вовремя. Понимаешь? Точечно, а не по графику. А у нас часто пост называют своеобразной жертвой Богу. Дескать, я вот жертвую ему тем, что не ем чего-то ради Него, а Он мои молитвы услышит и поможет мне. Но это ведь и есть языческий подход, о котором я тебе уже говорил. Ведь Иисус ясно сказал: «Не жертвы прошу я, а милости». Пост должен быть не жертвой, а своего рода духовной тренировкой, упражнением таким: через него я свои животные страсти побеждаю, показываю, кто тут хозяин – тело моё или дух. Сегодня в еде себя укротил, а завтра – в гневе. Ведь Христос так и постился в пустыне, чтоб дух свой укрепить перед служением, а не принести жертву Богу через это. Но если пост переходит в разряд регулярной диеты, то человек просто не ест определённую пищу в определённый период и всё. Но помогает ли это возрастать ему духовно? Больше ли в нём становится той же любви? Если это делается без внутреннего побуждения, без осознания этих глубинных мотивов, то я уверен, что нет. Такой пост может даже стать наоборот предметом гордыни: вот я какой молодец, я Богу милее, так как сорок дней без скоромного выдержал, а другие – слабаки!
Мне кажется, что человек, идущий по пути духовного совершенствования, должен сам принимать решения, когда ему нужен пост. Сам должен видеть необходимость в нём. А не так, что срок подошёл и – вперёд! Выкинул из холодильника все яйца, всё молосное, мясное и сел на диету. Пост как таковой был и раньше: у иудеев, у некоторых язычников даже, но если опять говорить о первых годах христианства, то там ведь и не было такого количества постов, как сейчас. Сначала, насколько я знаю, постились лишь в пятницу; позже, только примерно в четвёртом-пятом веках церковь установила один пост – сорокадневный, перед Пасхой. А там уже стали добавлять и другие. Посидят попы, посмотрят на народ – что-то плохо люди молятся, нет рвения в человеке, недостаточно о Господе радеют, надо бы новый пост ввести или тот что есть увеличить. Вот, например, перед Рождеством пост сначала был всего неделю, а потом увеличили его постепенно до тех же сорока дней. Да только вот история-то показывает, что количество постов и их продолжительность не привели к тому, что люди больше друг друга любить стали, вот в чём вопрос. А повод наложить епитимью за несоблюдение поста появился. Не соблюдаешь пост? Грешник! Виноват! А я уже тебе говорил, когда про эмоции рассуждали: виноватого проще в повиновении держать, им проще управлять, он всё сделает, чтобы его простили. Тем более, тут не просто сосед или жена, тут – церковь!
Или вот ещё говорят, что человек должен вечно каяться за первородный грех. Дескать, мы все сами виноваты в том, что изгнаны из рая и живём так, как живём. А мне опять же непонятно: в чём именно мне каяться? Какое отношение это ко мне имеет, к моей душе? Если Адам с Евой Бога ослушались, так они путь и каются. А они, кстати, церковью к лику святых причислены. Но остальные-то миллиарды душ при чём? Выходит, все они отвечают за грех, когда-то совершённый двумя людьми, которые, в отличие от них, вообще-то с Богом напрямую общались. А как же опять быть с тем, что Бог есть любовь и Он милосерден? Разве это милосердно, наказывать детей за то, что когда-то совершили их родители? Да не просто детей, а пра-, пра-, пра- и так далее. Даже в наших законах, далёких от понятий любви и милосердия, а построенных более по принципу «око за око, зуб за зуб», то есть по‑ветхозаветно-му, такого нет. Я так думаю, это тоже придумали, чтоб в людях всегда комплекс вины перед Богом держался. Вот так как-то.
Артём посмотрел на дядьку:
– Выходит, в храмах да мечетях необходимости и нет вовсе?
– Почему нет? Я так не говорил. Я же про себя только сказал. Мне, чтоб Богу помолиться, достаточно глаза закрыть. Ведь главное при этом твой внутренний настрой. Но тут уж пусть каждый сам решает: кому-то это нужно, кто-то без этого не может. Службы, литургии, молитвы коллективные – пусть будет, ничего плохого в этом ведь нет. Многим, чтоб просто к Богу обратиться, нужна вся эта обстановка вокруг, убранство церковное, иконы, лампады и прочее. Я знаю таких людей. Они на службы могут не ходить, а просто в церковь регулярно заходят, чтоб в одиночестве там в тишине постоять, помолиться. Я просто думаю, тут гораздо важнее, чтоб человек не зацикливался на внешней форме, на разных обрядах, а смотрел вглубь, не забывал о сути учения. Вот в чём дело. Чтоб самой жизнью старался ему соответствовать.
Кстати, по поводу храмов… У нас ведь тут тоже многое с ног на голову поставили. Впрочем, не только у нас. Раньше-то как было? Вот живут люди общиной, вера у них есть своя, и им нужно где-то собираться для той же совместной молитвы, для служб, для отправления обрядов. То есть возникает потребность в соответствующем помещении и человеке, кто бы это всё делал. Вот они и сбрасываются деньгами, строят на свои средства храм, ну и, соответственно, все потом посещают его.
– Погоди, а если денег нет?
– Что значит – нет? Значит, насколько хватит. Значит, пусть в обычной избе службы идут, в пещере. Когда это высота потолков в храме да количество золота на иконах способствовали увеличению в прихожанах любви к ближнему? Это опять же говорило лишь о степени поклонения, но какое отношение это имеет к вере как таковой, к силе духа? А старцы разные, которые жили отшельниками в пустынях да в дебрях лесных, монахи, которые стали святыми, живя в тесных кельях? Как же они смогли дойти до такой степени святости без всей этой дорогой помпезности? Так что деньги в вопросах веры ни при чём, милый мой. Это, кстати, и годы советской власти подтвердили, когда те, кто хотел, веру в душе хранили там, где и вовсе никаких храмов да церквей не было. Вот это и есть настоящая вера.
Ну так вот, о чём я говорил?.. Значит, строят они на свои средства храм, приглашают к себе священника, которого так же сами и содержат. Он их окормляет духовно, и всем хорошо. То есть, ты понимаешь принцип? У церкви не могло быть иных денег, кроме как снизу, от своих прихожан. И это, как мне кажется, правильно. По идее, для храма этого должно быть достаточным, чтобы выполнять свою функцию. Но что произошло потом? Церковь срослась с государством, где-то даже подменила его, где-то стала служить ему и в итоге стала сама хозяйствовать и зарабатывать деньги. Причём весьма немалые. И стали храмы строиться не там, где людям надо, и не на их деньги, а там, где захотят те же священники или государственные мужи. Но это ведь ставит всё с ног на голову! Ты понимаешь? Сначала должна быть вера, потребность в храме, а только потом и сам храм строиться. А у нас получается – сначала храмы, и только потом мы начинаем через них веру распространять. Если честно, я не знаю, есть ли вообще толк от такого подхода. Вон, революция семнадцатого года показала, сколько было в людях веры и любви к ближнему, хотя храмов было полным-полно. Храмы стали не помещением, которое построила на свои средства религиозная община для удовлетворения своих духовных нужд, а способом расширить территорию присутствия определённой религии, способом расширить власть государства. Но это же в корне неверно. Это меняет весь вектор взаимоотношений между служителем церкви и простым прихожанином. Священник должен служить простому человеку, а не наоборот.
– М-да, интересно, – Артём почесал затылок. – Никогда не задумывался об этом. Дядь Ген, ты вот ещё сказал, что на исповеди каялся в том, что у тебя любви нет. Но ты так говоришь про всё это, что я подумал, уж ты-то сам всех подряд любишь.
Тот горько усмехнулся:
– Эх, Артёмка. Говорить, это одно, а на деле делать – совсем другое. Я же обычный человек, из костей да мяса, не святой, не монах, среди людей живу. У меня тоже, бывает, всякое в душе творится. Этому всю жизнь учиться надо – любви, да и, думаю, когда помирать будешь, то страшно станет, что так и не научился. Иной раз вот кажется – всё хорошо, живёшь, мир в душе и покой, а потом встретишь кого‑нибудь и ужаснёшься: «А где любовь-то твоя? Куда подевалась?» В тот же райцентр за бумажкой какой‑нибудь поедешь, так иной раз кажется, будто тебя кто-то специально искушает на гнев и злобу. Если уж в монастырях монахи друг с дружкой, бывает, в согласии не живут, то что о нас говорить? И чашка с чашкой бьются. Только вот, если честно, то мне кажется, что любовь-то, она здесь нужнее, среди людей, а не в келье. Хотя не мне судить об этом, кто я такой… У каждого свой путь. Вот так вот, – он встал и взял ведро с углём. – Ладно, пошли в избу, а то что-то заболтались мы с тобой не на шутку, совсем темно да холодно стало. Я уж замёрз, печку топить надо да ужинать. А ты дрова прихвати.
Артём встал и повёл плечами. Только сейчас он заметил, что тоже стал замерзать. За разговорами это было как-то и незаметно.
– Как твоя рука? Получше? – спросил дядя Гена, когда племянник с охапкой дров пришёл в дом. – А то попросил тебя дрова взять, а про руку твою позабыл совсем.
– Нормально. Так, ноет чуть-чуть, но не страшно. Сильно высоко поднимать только не даёт. Думаю, завтра намного лучше станет.
– Может, компресс водочный сделать?
– Не надо, так заживёт. Не обращай внимания.
5 октября
Артём проснулся ночью от стука дождя в окно. Капли мерно лупили по стеклу, и, казалось, старались подстроиться под тиканье ходиков. Было слышно, как на улице шумят берёзы. «Опять ветер поднялся, – подумал Артём. – Когда же погода наладится?»
Полежав немного, он повернулся на другой бок, потом на спину. Сон не шёл. Встал, сходил в прихожую, на ощупь, осторожно, чтоб не разбудить дядьку, попил воды. В доме было черно́, даже не разобрать, сколько времени показывали часы.
Снова укрывшись одеялом, Артём задумался. Удивительно, но сейчас он почему-то совсем не ощущал ни обиды, ни злости к жене и бывшему другу. «А ведь, действительно, знал же, что Олег бабник. Знал, что мимо юбки, не оглянувшись, не пройдёт. Чего же ждал тогда от такого? С чего ты решил, что жена друга для него это такое же табу, как и для тебя? Разве он когда-нибудь говорил тебе такое? Нет. Выходит, и вправду – за него решил, что он подобного не сделает, а тот совсем так и не думал. Или Эльвира эта… Ведь прекрасно видел, что нет у неё к тебе никаких чувств, что не любит она тебя. Зачем же тогда второй раз женился на ней? Из‑за дочери? Сам себе внушил чего-то, напридумывал, а потом и страдаешь: ах, ах, как так? Ведь прав дядька: сам слеп был, так чего сейчас слёзы лить? Действительно – наплевать на них да растереть. К чему тебе такая жена, к чему тебе такой друг? Наоборот, хорошо, что так всё вышло. Зачем тебе жить бок о бок с теми, кто на подлость готов? М-да уж… Так, выходит, прав дядька, получается? Ну хорошо, простить да отпустить – это ещё ладно. Но он про любовь толкует, хоть и по «агапэ» этой. Не знаю, не знаю… Насчёт этого как-то посложнее получается. Быть милосердным к Эльвире да к Олегу? Ценить их? Сострадать им? Не знаю, дядя Гена, тут что‑то ты лишка загнул».
Думая так, он ворочался на диване с боку на бок. Дождь через какое-то время стал стихать, и постепенно Артём снова заснул.
Проснулся он довольно поздно, когда дядя Гена уже затопил печку. После завтрака дядька спросил:
– Когда тебя обратно-то ждать? Сегодня вернёшься или завтра?
– Сегодня, на последнем постараюсь приехать, как в пятницу.
– Ну давай… Смотри только в ямы больше не падай.
– Постараюсь, – улыбнулся племянник.
К двенадцати часам он пошёл на «площадку». Сев на место позади водителя, Артём привалился к окну и прикрыл глаза. Судорожно вздрогнув всем своим железным телом, «ПАЗик» тронулся. «Любовь, любовь… – снова задумался Артём о вчерашнем разговоре с дядькой. – Да… какая она, получается, разная любовь эта бывает. «Агапэ». Люби ближнего, как самого себя. А кто, кстати, этот ближний? Если все, то почему так и не сказано прямо: люби всех, кто живёт на земле? Или ближний, это только родня твоя да те, кто рядом в данный момент находится? Так, они ведь могут меняться. Сегодня один, завтра может быть другой. Вот кто сейчас рядом?» Он открыл глаза.
Прямо напротив него сидела женщина средних лет. Довольно полная, на коленях лежит старая пошарпанная сумочка из кожзаменителя, которую она придавила крупными пухлыми руками с обветренной кожей. Такое же обветренное лицо с массой мелких морщинок вокруг глаз. Но при этом ресницы накрашены, брови неумело подведены, яркая помада на губах. Видно, что проводит много времени на открытом воздухе, руками работает, а вот макияж – нет, не её это, чужое, но вот поехала в город, надо же красоту навести. Глаза какие-то вялые, без эмоций, смотрит в окно на проплывающие мимо деревья, кусты, поля. Кажется, что видела всё это уже сотни раз и не смотрела бы больше, да другого ничего нету, вот и приходится. «Ну и как мне любить её? – думал Артём, исподволь разглядывая женщину. – Ценить? Заботиться? Сострадать? Но я её совсем не знаю, первый раз в жизни вижу. Может, она дура последняя, или выпить любит, или мужа бьёт? Такая, в принципе, может. Кулаком своим врежет, мало не покажется».
Он перевёл глаза влево. В соседнем ряду сидел молодой парень, лет под двадцать. На ногах джинсы в обтяжку и слишком уж яркие, вычурные кроссовки на толстенной подошве и с торчащими наружу здоровенными язычками. Закрыл глаза, руки в карманах такой же броской куртки, голову, на которую накинут капюшон, опустил на грудь и делает вид, что спит, показывая всем своим видом: «Мне нет никакого дела до того, что вокруг творится. Я всю ночь гулял, не выспался, так хоть в автобусе вздремну». «И этого, что ли, любить? – продолжал размышлять Артём. – Сострадать ему? С какого перепуга? Ценить его, но за что? Такие мне вообще никогда не нравились, для них главное, это понт, крутым казаться, а заглянуть внутрь, так там и нет ничего, пустота. Выклянчил денег у родителей на кроссовки да на куртку, а сам за свою жизнь копейки не заработал». Парень откинулся на спинку сиденья и забросил ногу на ногу, выставив огромный кроссовок в проход. «Ну вот, ему-то самому плевать на всех – мешает его лапоть кому-то или нет, главное, чтоб ему удобно было, – продолжал коситься на парня Артём. – Самый такой возраст, когда они чего-то всем доказывают, выпендриваются. В армию таких надо, там спесь-то быстро собьют. Так и тут, поди, папа с мамой отмажут, плоскостопие какое-нибудь придумают».
Он посмотрел дальше. Через одно сиденье за парнем сидела молодая ещё женщина лет двадцати пяти, может, чуть постарше с ребёнком-дошкольником. Не красавица, но и не дурнушка, не худая и не толстая. Как говорила его баба Дуся – справная. Самая обычная внешность, даже макияжа у неё меньше, чем у тётки перед Артёмом, но от этого она выглядела только лучше. И одета средне, без вызова. Ребёнок, мальчишка лет четырёх, задремал рядом с ней, прислонившись к матери. Она обняла сына одной рукой, второй придерживает его голову, чтоб не сильно болталась на кочках, а сама смотрит в окно и вообще не ясно, думает ли о чём, либо просто провожает взглядом проплывающие осенние пейзажи. Глядя на них, Артём почувствовал даже некую симпатию: «Ни дать ни взять – мадонна с подросшим младенцем. Деревенский вариант в автобусе. Наверное, к таким и любовь испытывать можно, тут я ничего против не имею. Но, выходит, я как-то выборочно ближних люблю? Опять что-то не так получается, или с ближними тут ерунда какая-то. Может, пассажиры эти, никакие и не ближние мне? Но Эльвира-то ближней была, да и Олег тоже. Ближе некуда. И что? Перестали быть таковыми, можно не любить их дальше? Или как? Что-то совсем я запутался».
Остальных пассажиров Артём разглядывать не стал, снова закрыл глаза и вздохнул: «Хорошо сказать – возлюби. А возможно ли это вообще? Пусть даже и по «агапэ». Не знаю, не знаю…»
В какой-то мере Артём ехал в гости к Игорю наугад. Он помнил, что во время их последней встречи тот работал простым специалистом в районной администрации в каком-то отделе, связанным не то с местной промышленностью, не то с торговлей. До армии он успел окончить торговый техникум, а потом его пристроили по знакомству на тёпленькое и непыльное местечко. Впрочем, за эти годы многое могло измениться. Теоретически Старченко вполне мог даже переехать жить куда-нибудь на новое место, но Артём надеялся, что в таком случае он всё же известил бы его об этом.
На входе в здание администрации строгий вахтёр спросил Артёма, куда он идёт, сказал, что – да, Старченко работает здесь, переписал с Артёмова паспорта его данные, назвал номер кабинета и объяснил, как туда пройти. Поднявшись на второй этаж, Артём заглянул в нужную дверь. Ближе к нему сидела за столом пожилая женщина в массивных очках и в толстом вязаном кардигане.
– Здравствуйте, скажите, а Старченко где можно найти? – негромко спросил он её.
Та повернула голову с пышным шиньоном в сторону:
– Игорь Михайлович, тут вас спрашивают.
Артём заглянул в кабинет поглубже и увидел армейского сослуживца, также сидевшего за столом в самом углу у окна.
– Оба-на! Тёмыч! – громко закричал Игорь, увидев товарища. – Вот сюрприз так сюрприз!
Губы его растянулись в радостной улыбке, в глазах блеснул огонёк, и он, громыхнув стулом, быстро выбежал в коридор.
– Ты как тут? Специально приехал? Проездом? – завалил он Артёма вопросами после того как они обнялись.
– Специально, тебя вот повидать, из деревни.
– Так ты уже давно в наших краях, что ли?
– Да нет, не очень. В пятницу к дядьке приехал, отпуск взял. А сегодня до тебя решил доскочить, повидаться.
– А в пятницу чего не зашёл? Эх, ты! Тут был и не зашёл? В пятницу-то лучше было бы, выходные впереди, посидели бы по‑человечьи, переночевал бы у меня, а потом и в деревню б свою ехал, – Игорь укоризненно посмотрел на бывшего сослуживца.
– Да времени мало было, торопился, – начал было оправдываться Артём, но ему тут же вспомнились слова дяди Гены про обиду, про чувство вины, которое люди испытывают на автомате: «А ведь точно, чего я сразу оправдываться начал? Игорёк типа обиделся, что я в пятницу к нему не зашёл, а я сразу виноватым себя чувствую, хоть ни в чём и не виноват». Он усмехнулся и расправил плечи.
– Чего смеешься? – не понял Старченко.
– Да так, не обращай внимания, мелочь одну вспомнил. Ты чего докопался до меня? – посмотрел Артём в глаза приятелю. – Ну не зашёл к тебе в пятницу, и что? Сейчас, зато зашёл, или не рад? Обратно уехать?
– Да ладно, чего ты… – пошёл на попятную Игорь. – Конечно, молодец, что приехал. Так, ты погоди тут секундочку, я сейчас…
Он вернулся в кабинет:
– Раиса Никитишна, я тут отлучусь, друг ко мне приехал, сто лет не виделись. Если кто будет спрашивать – я на обеде, а потом сразу на выезде. Сегодня меня не ждите, а завтра утром я как штык.
– Игорь Михайлович, – женщина сдвинула очки на кончик носа и посмотрела поверх них на Старченко, – а как же сводка за сентябрь?
– Да успею я! Завтра с утра быстренько всё доделаю. Там осталось на полчаса работы.
Женщина укоризненно покачала головой:
– Ну смотрите, вам же влетит, если что. Я вас прикрывать не буду.
– Да всё нормально будет, не переживайте. – И Игорь, схватив куртку, висевшую на вешалке у двери, выскочил из кабинета. – Всё, пошли! Ну их всех в баню, им сколько ни работай – всё мало.
– Так тебе влетит же, – Артём придержал друга за рукав. – Куда ты намылился? Прогул схлопочешь. Давай тут постоим, поболтаем. Мало ли что. Я пока один погуляю, а потом часик посидим где-нибудь, кофе попьём.
– Щас! Ага! Ко мне друг в кои-то веки приехал, а я тут буду сидеть над бумагами ихними? Да и кофе ты не отделаешься, пошли давай!
Артём только покачал головой. В принципе, это было в духе Игоря, особой ответственностью и дисциплинированностью он никогда не отличался.
– Ну и что, куда пойдём? – спросил Артём, когда они вышли на улицу.
– А вон, куда Ильич показывает, – Игорь кивнул на памятник Ленину, стоявший перед серым зданием районной администрации.
– И куда он тут у вас показывает?
– Как раз в сторону моего дома, – засмеялся Старченко. – Самый верный путь. Олеськи дома сейчас нет, на работе, так что посидим спокойно, чтоб никто не мешал.
Проходя мимо магазина, Игорь тормознул:
– Слушай, ну так надо взять же чего-нибудь. На сухую‑то сидеть как-то несподручно. Ты деньгами не богат?
Артём засмеялся.
– Чего опять хохочешь?
– Да так, ничего… Просто за последние три дня меня уже второй раз про деньги спрашивают, когда речь о выпивке заходит.
– Блин, ну я же не виноват, что нам ещё получку не давали. От аванса осталось кот наплакал, а зарплаты не было пока.
– Ладно, расслабься, – Артём повернул в магазин, – есть у меня деньги. Только водку пить как-то не хочется.
– Я не против, давай коньяка возьмём, если ты такой богатый. Ну не вино же нам с тобой цедить? Чай, не девочки.
– Ладно, водки купим, только нормальной. Продают у вас хорошую?
– А чего мы, хуже вас что ли? Любой каприз, были бы деньги.
– Закусить-то есть чего дома?
– Закуску найдём. Мать позавчера с батей приезжали, привезли там банок каких-то: лечо, салаты разные. Хлеба только взять надо, за него не ручаюсь.
Игорь жил с женой Олесей в отдельной благоустроенной квартире, доставшейся супруге в наследство от отца. Детей у них пока не было.
– Чего вы детьми-то не обзаводитесь? – спросил Артём, когда они поднимались по лестнице на четвёртый этаж. – Годы-то идут, сколько жене твоей уже?
– Да она ещё молодая, двадцать шесть летом стукнуло. А насчёт детей, так мы над этим работаем, – хохотнул приятель, – будут, никуда не денутся.
За столом в первую очередь пошли разговоры об армии: вспоминали общих друзей, командиров, разные случаи из армейской жизни.
– С Олегом-то видишься? – вспомнил об общем сослуживце Игорь. – Вы же друганы были не разлей вода. Как он там?
Артём на секунду задумался. Ему вовсе не хотелось говорить сейчас с Игорем о своих проблемах. Вообще его отпуск получался немного не таким, как он представлял себе изначально. А после всех разговоров с дядей Геной совсем не хотелось ворошить произошедшее. Думать об Эливире да об Олеге с позиций любви у него явно не получалось, жалеть их в чём-то – тоже, но сидеть и перемывать им кости, осуждать, говорить об изменах и предательствах никакого желания также не возникало. Хотя, когда он ехал в деревню, то думал, что примерно так и будут строиться все разговоры, а уж Игорю-то он про этого гада Олега точно бы рассказал. Пусть разделит с ним его праведный гнев и ненависть к бывшему дружку. И Игорь бы его несомненно поддержал, по‑другому и быть не могло. Ведь как иначе? Олег, можно сказать, воткнул нож в спину армейскому другу, разве можно такое не осудить? Но сейчас он не знал, что ответить на вопрос Старченко.