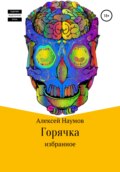Алексей Наумов
Ушма
Глава 8
Поиски идут уже третий день. Настюков и ещё несколько мужиков ночуют прямо в лесу, в палатке, чтобы не терять время на пустую беготню. Им приносят еду, но она, по большей части, уходит чайкам. Отец ночует дома. Говорит, что и Олег тоже – Людмила совсем плоха.
Соседние СНТ тоже подключились к розыскам. На болотах народу больше чем деревьев, но всё тщетно – Анюта как в воду канула. Исчезла без следа. Это наводит на мысль, что её похитили. Так думает большинство. Но есть и те, кто уверен, что она заблудилась в лесу и утонула в болоте. В подтверждение своей теории, они указывают на то, что Свифт тоже пропал. Очевидно же, что он пошёл по её следу и сгинул в той же трясине что и девочка. Вот если бы его не отпускали, а вели бы на поводке, то, кто знает, быть может оба были бы живы… На это им резонно возражают, что с таким же успехом Свифт мог догнать похитителя и тот его убил, а труп спрятал – спаниель не лошадь, поди найди его в лесу… Так или иначе, но все сходятся в одном – живой Анюту скорее всего уже не найти…
Я узнаю новости по сплетням, которые циркулируют между участками. На улицу мне категорически нельзя. Полный домашний арест. В первые дни так делают многие. Особенно это касается девочек. Их на улицах вообще не видно, а если они и появляются, то только в сопровождении нескольких взрослых. Кое кто вообще увозит детей с дач. На всякий случай.
Чем больше народа принимает участия в поисках, тем более дикими становятся слухи. Говорят про волков, беглых зэков, сумасшедшего из психушки, призраках и проклятье старой церкви, что разрушили неподалёку. Доходит до того, что кто-то уже рассказывает о каком-то жутком каннибале, который якобы уже много лет орудует в Подмосковье и растерзал не один десяток детей. Слухи повторяются, множатся, сливаются, рождают новые, угасают и вновь вспыхивают, рождая пелену ужаса.
На второй день по участкам разлетается весть, что кого-то схватили в соседней деревне, и чуть ли не линчевали на месте, но его отбила милиция и он уже во всём уже признался. Сплетня живёт около часа, после чего выясняется, что взяли не того и совсем по другому делу. Всё опять кипит.
Последний акт этой мрачной драмы приходится на четвёртую ночь. Дом Анюты вспыхивает сразу после полуночи. Люди бегут к нему с вёдрами и баграми, но пламя бушует с такой неистовой силой, что совместными усилиями едва-едва удаётся не дать огню перекинуться на соседние дома. К прибытию пожарных от уютного домика остаётся только груда дымящихся углей и полуобвалившийся остов камина. Машину успевают выкатить в последний момент, когда она уже начинает дымиться. Настюков разбивает топором окно, снимает ручник и выкатывает её наружу. Вид у жигулей жалкий – вся краска на левой стороне пошла пузырями, шины оплавлены и спущены, салон и двигатель жутко пахнут горелой изоляцией. Спустя сутки, когда машину загонят обратно за забор, кто-то вытащит с заднего сиденья мягкие игрушки и положит их на остатки камина.
Но самое страшное, что соседи в один голос уверяют, что слышали в доме громкие крики.
Слухи начинают ползти сразу, однако к полудню, когда угли полностью остывают, и пожарные начинаю разбор, они приобретают кошмарные очертания. Я слышу их отголоски, хоть и сижу взаперти, и все подробности я узнаю лишь через несколько дней, вечером, из разговора отца с матерью. Перед этим он встречался с Настюковым, а тот в курсе всего.
Поздно вечером родители тихо разговаривают на лавочке под сосной, думая, что их никто не слышит. Но это не так. Я давно уже выяснил, что в этом месте очень странная акустика. Звук, даже самый тихий, будто бы ударяется о землю и поднимается прямо в окно второго этажа. Поэтому, я выбираюсь из своей «больничной койки» на первом этаже, прокрадываюсь наверх, бесшумно открываю форточку, встаю на стул и с замиранием сердца слушаю его короткий рассказ.
Оказывается, Людмила умерла ещё до пожара … Повесилась на втором этаже… После обеда… Утром её соседка видела… Говорит ничего такого не заметила… Наоборот, причёсанная была и вроде даже накрашенная… А перед тем как повесится она ещё и платье надела красное и серьги золотые… А от Олега только левую руку нашли… Такой жар там был… Степаныч слышал, как он кричал… А загорелась лампа керосиновая… В коридоре… С чего он её зажёг, непонятно… Свет в доме был… Может нашёл её и того, тоже решил…
Отец стихает, а у меня перед глазами стоит одна картина – ужасный вспухший труп висящий рядом с бильярдом на втором этаже. Я очень ясно представляю себе всю сцену, а мои догадки о том, что же произошло там в действительности, пугаю меня до помутнения сознания.
Я слезаю со стула и полуползком добираюсь обратно. Перед глазами висящая в воздухе босоногая одутловатая фигура в красном платье, раздутым лицом и растрепанными волосами, закрывающими глаза. Она снится мне потом много раз – парящей в моей комнате труп, с иссиня-черным, страшно перекошенным лицом и шевелящимися вокруг головы волосами, точно они находятся под водой. Иногда она поднимает руки, точно пытается меня схватить, точно мы играем в жмурки, но не знает где я, и продолжает медленно дрейфовать по комнате.
Когда мать возвращается в дом я уже в кровати. Она гладит меня по голове. Потом, поздно ночью, я слышу, как она тихонько плачет у себя в углу, а отец шепчет ей что-то ласковое. Затем они оба засыпают, а я лежу без сна. Мне страшно, но всё же, это не тот липкий и безысходный ужас, в который я был погружён несколькими днями ранее. Я просто боюсь, как боится ребёнок, когда чувствует, что все вокруг испытывают страх. Впрочем, от этого не легче. Мои ночные кошмары усиливаются, хотя и приобретают спонтанный характер. Мне редко снится одно и то же, кроме повешенной Людмилы. Только иногда, из хаоса различным ужасов, я вижу те, что узнаю – кровавые сны про охотника и дичь в горячих джунглях, но они являются всё реже…
Журчания воды я больше не слышу. Даже самого отдалённого. Голос воды полностью стих для меня. Правая рука почти не болит, только иногда её сводит лёгкая судорога. Тем не менее, я бережно ношу браслет, который мне сделала бабка Света. На ночь, чтобы он не свалился, я повязываю поверх него платок, а утром, внимательно осматриваю.
Я не хочу ни о чём думать, вспоминать и анализировать. В моей памяти точно появилась стена, отделяющая всё что произошло до того, как я попал в руки Глазуньи и после. Эта стена не очень высокая и, при желании, я могу заглянуть за неё, но у меня нет ни малейшего намерения это делать. Я ухожу от неё всё дальше и дальше, и даже сама Анюта, иногда, кажется мне лишь плодом моей фантазией. Как и истории про Ушму и прочие болотные проклятья.
Я много сплю, хорошо ем и читаю с утра до вечера, благо что на втором этаже у меня почти полная «Библиотека приключений». Мама довольна – я явно иду на поправку. Она только никак не может понять, где и чем это я так вымазался в то утро, когда она ненадолго уснула на кресле. Я упорно утверждаю, что ничего не помню, хотя нам обоим понятно, что я лгу. Но это, в конце концов, не так важно – я жив, я здоров, и кажется, вполне доволен жизнью. Чего ещё может желать мать? Она нежна со мной. Остро нежна. И эта лютая, жгучая, почти звериная нежность, с которой она порой прижимает меня к себе, говорит мне больше любых слов, о том, что кругом происходят ужасные вещи.
Слухи продолжают ползти пока на дачах остаётся достаточно людей. Их не остановить, они как туман – ползут куда хотят и накрываю всё вокруг, и нет силы, чтобы полностью их выкорчевать. Особенно, когда в деле замешаны смерть и болота.
Чуть ли не ежедневно всплывают всё новые и новые подробности пожара от «очевидцев». Теперь уже говорят про детские крики из пламени, в том числе и анютины. Что она всё это время была в доме (как будто его не обыскали несколько раз, с милицией и без). Всё это вполне ожидаемо заканчивается тем, что кто-то имеет неосторожность высказать мысль, что сам Олег и убил всех своих домочадцев, а потом, ужаснувшись содеянному, сжёг и себя и все следы.
За эти слова, этот кто-то очень сильно получает в морду от рассвирепевшего Настюкова. И дело даже не в очевидной глупости его слов – у Олега было железное алиби: в момент пропажи Анюты он вёз знакомую на станцию, а потом всё время был на болотах с другими мужиками, – а в том, что сама идея, что среди заводских может находиться монстр Настюкову претит.
Их быстро растаскивают и дурак больше не открывает рта, но слух всё равно обретает свою жизнь, и плывёт вместе с остальными. Только про Ушму я так ничего и не слышу, хотя жду и боюсь этих слов. Все точно внезапно забыли местные рассказы о Хозяйке, и не в состоянии произнести название реки, вдоль которой шли поиски.
Одновременно с этим чувствуется и то, что пожар положил конец этой жуткой трагедии. Многие, если не все, почувствовали стыдливое облегчение, словно огонь подвёл итог всей истории. Итог простой и понятный, знакомый большинству с самого детства – смерть взяла своё. Взяла играючи, без спросу, сполна. А раз так, то теперь можно смело покинуть зрительный зал и, утерев слёзы, заняться своими делами. Жестоко? Быть может.
Но эти люди знали и нечто другое – жизнь тоже умеет брать своё. Никогда и никого не спрашивая и не стесняясь. Она властно и неуклонно продолжает свой путь, переступая через смерть столько раз, сколько потребуется и в этом и кроется её главная, древняя, неукротимая сила. Всё остальное – слова.
В августе переулки опять наполняются детьми, спешащими урвать последние жаркие дни перед школой. Дни слишком пригожие, чтобы питать людской страх, а постоянные приусадебные заботы не дают много времени для пустых сожалений. Весёлый смех снова наполняет дачи, сначала осторожно и неуверенно, но затем легко и без оглядки, и звенит без устали уже до самого сентября. Да, на Разрыв никого не отпускают без сопровождения взрослых, а вечерами детворе не разрешается гулять по переулкам, но то пустые формальности. Все прекрасно понимают, что дачная жизнь вновь идёт своим чередом, а прошлое замерло позади. Только иногда, когда поднимается ветер и разносит над дачами пепел, который затем медленно оседает на участках, люди ненадолго оставляют свои дела, замолкают и ищут глазами своих детей. Пепел кружился в воздухе, горький, жуткий, невидимый, но вполне ощутимый, и пока он там, люди помнят о таинстве и торжестве смерти. Но стоит только ветру стихнуть, как лица дачников немедленно разглаживались и они с утроенной силой принимались за свои нехитрые дела, точно были бессмертными существами.
Я отлично себя чувствую и всецело следую общему ритму. Стайный инстинкт берёт своё и я восторженно ему подчиняюсь. Я хочу затеряться в общей массе. Я не хочу быть меченным телёнком. Я хочу быть как все – незаметным, безликим, серым, хочу слиться с другими в большую, безликую, бесформенную биомассу. Хочу просто существовать, просто впитывать солнечный свет, просто дышать и мчаться по переулку чувствуя босыми ногами вечное тепло земли. И у меня получается. Недавние события уже кажутся мне прошлогодними, а к концу лета, всё это едва ли не прошлая жизнь. Даже непрерывные кошмары, кажется, помогают мне забыть то, что я слышал, видел и чувствовал. В сравнением с тем злом, которое ненадолго коснулась меня, сны, пусть даже и самые ужасные, остаются лишь снами. Они не могут ни ранить, ни убить. Они лишь страшные тени на стене, узоры, что бесконечно плетёт старуха ночь, но за ними нет ничего, и я это понимаю. Я больше не боюсь теней, хоть и не ищу с ними встречи. Я даже не боюсь тьмы. Я боюсь того, кто в ней живёт. Поэтому, я избегаю её как только могу. Я не параноик. Просто я знаю, что тьма скрывает призраков, множество призраков, а у них есть Хозяйка.
Дни мелькают – уже не такие жаркие, но сухие и пригожие. Заботы поглощают нас без остатка. Много дел не сделано, много планов пошло прахом. К тому же, осенью нас ждёт долгожданный, но ставший внезапным переезд в другой район и меня сейчас всё больше заботит моя новая школа.
Вечером накануне отъезда, по старой традиции, я забираюсь на нашу сосну, чтобы снять скворечник и в последний раз окинуть взором свои владения. Закат едва отгорел. В домах начинают мелькать огоньки. Стая ворон, шумно хлопая крыльями в неподвижном вечернем воздухе, в траурном молчании проплывает над моей головой и кружиться над лесом, ища место для ночевки. Сквозь увитое виноградом окно хозблока, я вижу свою маму накрывающую стол для ужина и отца, задумчиво сидящего в кресле. Я с грустью смотрю по сторонам и неожиданно понимаю, что больше никогда не увижу маленького красного огонька в окне втором этажа дома Анюты, что мелькал там иногда вечерами. На моих глазах наворачиваются слёзы. Я плачу, вцепившись в клейкий ствол сосны, всем своим существом внезапно осознавая чудовищную невозвратимость потери. По сей день это чувство со всей ясностью всплывает во мне, стоит лишь мне оказаться среди сосен, и застывшие белесые капли смолы на них, кажутся мне чьими-то невыплаканными слезами.
Я долго сижу тем вечером в пахучих и клейких ветвях, глядя как ночь размеренно опускается на участки, скрадывая очертания притихших домов и переулков. Я грежу, пока встревоженная мать не выходит на улицу и не зовёт меня. Только тогда я неохотно спускаюсь на землю, но тот вечер, та неожиданная близость потемневшего неба, те огни в маленьких домиках, разбросанных среди облетающих садов, навсегда остаются во мне, столь же близкие, сколь и недостижимые, как сама жизнь.
Следующим летом, я еду на две смены в пионерлагерь, а после, с мамой, на Чёрное море и на даче отдыхаю всего неделю, в самом конце сезона, когда многие уже разъехались. Всё вокруг идёт своим чередом и никто, кажется, уже и не вспоминает толком о прошлогодней драме. Отец весь в работе – кроет железом крышу на хозблоке, Настюков в больнице – проблемы с сердцем, вечная баба Света скончалась осенью – инсульт, и только человек-пароход Степаныч по-прежнему бороздит просторы дач, оставляя за собой клубы дыма, но его взгляд потерял прежнюю страсть, так что при встрече, я, вместо привычной робости, неожиданно чувствую глубокую жалость к этому одинокому старику.
Не знаю почему, но я тяну с посещением участка Анюты почти до самого отъезда. Только когда уже пора убирать велосипед на зиму, я прошу подождать 10 минут, вскакиваю седло и несусь на соседний переулок. Моё сердце скачет так, что я с трудом дышу и вынужден сбавить обороты.
Я слезаю с велосипеда и прислоняю его к ворота. За ними горбится рыжий жигуль. Струпья краски слетают с него и лежат вокруг, как опадающая листва. В воздухе все ещё можно различить кислый запах пожарища.
Я подхожу к калитке и дёргаю ручку. Она жалобно скрипит, но не поддаётся – кто-то обмотал её цепью и закрыл на большой замок. Смотрю сквозь прутья и вижу на остатках камина мягкую смятого и полинявшего плюшевого медведя. Его черные глаза-пуговки смотрят прямо на меня, словно спрашивая, как же всё так получилось. У меня нет ответа, а если и есть, то он запрятан так глубоко, что легко его не найти.
Я смотрю направо, на близкий лес, на черный провал тропинки в нём, на злополучный куст, где я в последний раз видел Анюту. Я вижу её так ясно, что но на мгновенье чувствую её запах – цветочное мыло и что-то мятное. Всё же, в голове у меня отпечатался другой её образ – тоненькая фигурка в лёгком летнем платье, обдуваемая невидимым чёрным ветром. Быть может, она стоит там, в глубине леса, на тропинке? Я качаю головой. Конечно нет. Там ничего нет и быть не может. Всё кончено. Я сажусь на велосипед и спешу домой. Ветер с поля приносит запах луговых трав. Я закрываю глаза и качусь вперёд глядя, обдуваемый тугими струями ветра. Всё кончено, несётся у меня в голове… Всё кончено… В эту ложь легко поверить и я верю… Всё кончено, повторяю я, в такт своему движению… Всё кончено…
ЧАСТЬ II Хозяин
Глава 1
Брата он не любил. Его и не за что было любить. Грубый, вспыльчивый, жестокий, Сергей во всем повторял отца и когда того не стало, он естественным образом занял его место, и теперь все в доме боялись его.
«Горилла» называл его про себя Олег и старался сбегать из дома, когда брат возвращался пьяным. Вид тяжёлого, обезьяньего лица Сергея, с застывшей на нём гримасе тупой, звериной ярости наводил на него ужас. Он физически чувствовал, как что-то каменеет у него в районе желудка. Этот камень остаётся лежать там надолго, иногда по нескольку дней, причиняя тупую, вяжущую боль, словно он и вправду проглотил булыжник. Он ненавидел себя за этот страх и часто рисовал в своём воображении картины, в которых он усмиряет брата, ставит его на место. Иногда это помогало и камень в желудке начинал таять, но брат вновь приходил нетрезвым, и всё повторялось заново.
Со временем, картины расправы с братом становились всё более жестокими, и чем страшнее были кары, которые Олег насылал на него, тем быстрее ему становилось легче, и его живот становился мягким. Он знал, что всё это понарошку, и не боялся калечить брата в своих мечтах. Он только никак не мог его убить. В последний момент, он всегда его отпускал – окровавленного, полуживого, молящего о пощаде, но живого. Этого ему было достаточно. Пока.
Однажды, когда матери не было дома, брат в припадке бешенства с силой швырнул его через стол, за то, что тот недостаточно быстро принёс ему папиросы. Тогда Олег сломал себе левое запястье и так сильно ударился головой о пол, что за мгновенье до того, как потерять сознанье, ему показалось, что он видит стоящего в углу своего мёртвого отца. Матери он тогда сказал, что упал с дерева и она, сквозь слёзы, сделала вид, что поверила.
Это было для него ударом. У него что-то оборвалось внутри. Нет, он не разлюбил её, мать была для него всем, просто Олег вдруг почувствовал себя свободным от неё, от её любви и тепла, и эта ужасающая, противоестественная свобода обрушилась на него точно вода из прорванной плотины, закружив безумном водовороте, не давая возможности ни дышать, ни чувствовать.
Через месяц, когда рука почти зажила и голова уже не кружилась, трое ребят из школы в который раз решили поиздеваться над ним после уроков. Они скрутили ему руки его же шарфом, стащили шапку и ткнули лицом в сугроб. Они держали Олега в снегу, пока его лицо не окоченело, и боль насквозь не пронзила голову. Он знал, чего они ждут – просьбы о пощаде, но в этот раз он не собирался унижаться. С тёмной радостью он терпел жгучую, леденящую боль, пронзающую виски, желая себе ещё больших страданий и вдруг осознал, что боль исчезла, оставив его одного, парящего в густом белом тумане.
Это новое чувство была настолько восхитительным, что когда встревоженные его молчанием «весельчаки» перевернули его на спину, он не пошевелился и не открыл глаз. По-видимому, он выглядел так скверно, что один из них, Колька Кузичев, склонился к нему, чтобы проверить, жив ли он. Олег чувствовал его дыхание на своём лице. Когда тот был совсем близко, он ринулся вперёд и остервенело вцепился зубами в щёку своего мучителя. С непередаваемым ликованием он, наконец-то, ощутил на губах вкус чужой, а не собственной крови…
Крик мальчика почти оглушил его, но он не разжал зубы, и его пришлось буквально отрывать от Кольки как фокстерьера от лисы. Его лицо, шея, грудь, снег кругом был залит кровью и он вдыхал её горячий, металлический запах и его голова снова кружилась, но уже не от слабости, а от звериного восторга победы.
Скандал был жутким. Отец Кольки грозился упрятать Олега в колонию, кричал, что он мразь и уголовник, как и вся его семейка, и что он сам придушит его, но всё закончилось иначе. В школу пришла внучка какой-то безногой пенсионерки, в прошлом, видной участницы партизанского движения, и рассказала, что её бабушка несколько раз видела из своего окна, как «эти фашисты» издеваются над Олегом, и что она лично повесила бы их, как вешала в своё время полицаев, будь на то её воля и ноги…
Её заступничество решило исход дело. Олега исключили из пионеров, но дальше этого дело не пошло. Когда спустя некоторое время в школу вернулся Колька, выглядел он неважно. Правый уголок его рта теперь был всегда слегка приподнят, точно он усмехался над чем-то, но все знали, что эта усмешка принадлежит другому человека. Теперь каждый ученик в школе знал, что не стоит задирать худого, долговязого, неразговорчивого подростка с холодными глазами по кличке Волчонок…
Страх в глазах одноклассников и ребят старше грел ему душу. Он быстро осознал свою силу. Всего через месяц он настолько осмелел, что безбоязненно прижал в углу девочку из его класса, пышную, рыжеволосую красавицу Веру. На свою беду она слишком долго возилась со своим портфелем после звонка и осталась в классе наедине с Волчонком.
Всё заняло не более двух минут. Он решительно придвинул девочку к стене и методично ощупал всюду, куда смогли дотянуться его внезапно ставшие влажными руки. Вера застыла перед ним словно статуя: бледная, онемевшая, окаменелая. Её глаза были распахнуты и стеклянны, а дыхание натужным.
Когда он отпустил её и вышел из класса, она с трудом могла двигаться – всё ее тело свела сильнейшая судорога. Она хотела сбежать домой, но боялась упасть. По звонку, на негнущихся ногах, она покорно поплелась на следующий урок и просидела его как в бреду, чувствуя на своей спине его горячий, звериный взгляд.
Вера никому ничего не рассказала и это его не удивило. Он уже начал понимать, что делает с людьми страх. Он больше не чувствовал камня внутри себя. Если же ему начинало казаться, что его солнечное сплетение вновь твердеет, он закрывал глаза и представлял себе близкое, бледное, перепуганное лицо Веры, её сбивчивое дыхание, крепкое, струной натянутое тело и вздрагивающую в его неуклюжих и жадных руках нежную плоть.
От этих видений он испытывал жгучее возбуждение, с которым не мог совладать. Он часто мастурбировал прямо на уроках, сквозь брюки, глядя на затылок Веры и если его сосед и замечал это, то не осмеливался открывать рта. В такие моменты он жалел лишь об одном – что не зашёл тогда дальше. Но он знал – шанс ещё будет.
Волчонок преследовал ее словно тень: умело, настойчиво, терпеливо дожидаясь удобной возможности. И хоть Вера стала осторожнее и старалась нигде не ходить одна, он был одержим и бесстрашен. Однажды, он прижался к ней прямо в переполненном автобусе, когда они всем классом возвращались домой из парка, после школьной лыжной эстафеты. Вера стояла спиной к нему, раскрасневшаяся и свежая и разговаривала со своими родителями. Она вздрогнула, когда почувствовала его руку на ягодицах и попыталась отодвинуться, но в автобусе было слишком тесно. В этот раз он был настойчивее и смелее, и его правая рука быстро нашла то, что искала. Те двадцать минут, что отделяли их от дома, он запомнил навсегда, а Вера просто стояла вцепившись в лыжи, мелко вздрагивая, как напуганное животное и односложно отвечала на родительские расспросы.
Она не появлялась в школе больше недели после лыжной гонки, болела гриппом, но он знал, что это не так и вновь и вновь прокручивал в своей голове всё, что он успел почувствовать. Некоторое время спустя, он назовёт это «фильмом». У него будет много таких фильмов, гораздо более откровенных и страстных, но этот – первенец – будет одним из его самых любимых. Он будет часто «прокручивать» его оказавшись в битком набитом транспорте, и чем теснее будет толпа, тем острее он будет его удовольствие.
В третий раз он настиг её в женской раздевалке, прямо перед уроком физкультуры. Он заметил, что все девочки уже вышли в зал, а её всё ещё нет. В тот день мальчики играли на улице в футбол, а девочки, в зале, в волейбол. Вера знала это и, вероятно, решила, что она в безопасности. Когда он вошёл в раздевалку и застал её там, в спортивных трусах и майке, она вскрикнула, но страх сдавил ей горло. Когда он повалил её на лавку, она молчала, только дышала тяжело и шумно, точно только что пробежала стометровку.
Он крепко сжал её, плохо понимая, что делает, и начал стягивать с неё спортивные трусы. Она не сопротивлялась, но всё её тело было так напряжено, что он никак не мог согнуть её ноги. Внезапно он кончил прямо в штаны и униженно замер на ней, не в силах посмотреть в её кукольно-распахнутые глаза. Пролежав так около минуты, он встал и вышел из раздевалки и отправился в кабинет физкультурника, чтобы взять насос для мяча. Он не знал, когда Вера вышла из раздевалки, но она больше никогда не появилась в их школе. Когда он понял, что это конец, от ярости он до крови изгрыз дома свои кулаки, рыча точно дикий зверь. Дичь, столь лёгкая и столь желанная навсегда ускользнула из его рук. Это был трудный урок и ему потребовалось время, чтобы его усвоить.
В последний раз он увидел Веру лишь спустя пятнадцать лет, слегка располневшую, но всё ещё довольно привлекательную. Она стояла на платформе в ожидании электрички. С ней была дочь, чудесная, рыжеволосая девчушка лет 8. Он посмотрел на неё вскользь, по-кошачьи, тем взглядом, который у него появился в последние годы, и который он тщательно скрывал на людях. Вера подошла к открывшимся дверям и внезапно почувствовала его взгляд на себе. Повернув голову, она внезапно увидев своего мучителя вольготно сидящего у окна, в паре метров от неё. Она отшатнулась, словно увидела чудовище и закрыла рот рукой. Девочка удивлённо посмотрела на маму, не понимая, почему они не входят в их поезд, но Вера не могла пошевелиться. Её лицо приобретало черты маленькой, напуганной девочки, которую он первый раз схватил в пустом классе после урока и слезы катились из её глаз. Он окинул её взглядом, каким сытый хищник на прощанье оглядывает свою недоеденную добычу и улыбнулся. Двери закрылись, и подмосковная электричка стала стремительно набирать ход. Он медленно закрыл глаза, положил руки на колени, успокоил своё дыхание и с наслаждением начал тщательно вырисовывать в своём воображении «фильм», в котором, по заснеженной дороге, неспешно колесил пассажирский автобус, битком набитый детьми в лыжной форме…
Брат зауважал Олега, после случая с прокушенной щекой. Он даже потрепал его по голове и предложил папиросу, но уже два дня спустя, едва не придушил, а когда Олег попытался пустить в ход зубы, что есть сил ударил его коленом в живот, да так, что Олег пролежал в углу четверть часа.
– В следующий раз все зубы повышибаю, сучёнок… – бросил Сергей, уходя из дома.
Олег молча корчился, пытаясь сделать вдох, но сквозь подступавшую мглу, ему хотелось смеяться. Он давно привык к боли, а после того случая в снегу, понял, что она лишь иллюзия. Просто красная мигающая лампочка в сознании, которая предупреждая его об опасности. Спустя годы, он научился выключать этот свет, но в тот день, извиваясь на полу словно полураздавленный червь, он только начинал постигать этот механизм. Но главное, он понимал, что его страх ушёл и вместо него, он чувствует необычайное возбуждение, такое сильное, что казалось, сквозь его тело проходит электрический ток.
Когда брата посадили, они с матерью вздохнули свободно. Олег с отличием закончил техникум, отслужил в армии и устроился на ламповый завод, где до этого проходил практику. Мать была счастлива и плакала, когда он принёс домой и отдал ей свою первую зарплату. Но он стал другим. Мать не понимала этого, но это было так. Он уже видел смерть и открыл для себя её волнующую притягательность. Отныне Она принимала участие во всех его новых «фильмах». Он видел её всё ярче и ближе, и порой, ему чудилось, что Она тоже видит его и улыбается в ответ.
В день, когда вернувшийся из тюрьмы Сергей напился и начал угрожать матери, Олег молча скользнул к плите, схватил сковородку с жарившимся на ней картофелем и ударил ей брата по голове, желая убить. Однако череп Гориллы выдержал удар. Он сполз на пол, очумело моргая, а потом, с материнской помощью, дополз до кушетки, где и отключился. Мать рыдала у его кровати всю ночь, а утром ушла на работу. Олег немного задержался. Остановившись напротив кушетки с братом, он негромко, но отчётливо произнёс:
– Увижу тебя здесь ещё раз – убью… – и тоже ушёл.
Они оба знали, что он сдержит своё обещание, а потому, вечером квартира была пуста. Вместе с Сергеем исчезли серебряные ложки, приёмник, пара колец и серёжек матери, а также немного деньг, что хранились в серванте. Мать снова рыдала, а когда Олег сказал ей, что так даже лучше, крикнула, что он бессердечный, и поэтому и девушки у него до сих пор нет.
Олег ничего ей не ответил. Слова матери давно перестали трогать его. Когда кто-то ругал или оскорблял его, он сразу вспоминал леденящий холод снега и вкус крови сквозь плотно стиснутые зубы. А ещё, крик, – жалкий и насквозь пропитанный страхом вопль Кольки, отчаянно бьющегося в зубах связанного Волчонка… Этот крик всегда начинал звучать у него в ушах, когда его злили, и его глаза постепенно застилал белый туман, сквозь который, ещё робко, но всё отчетливее, проступала Она. Тогда он начинал улыбаться. И те, кто отчитывал его, смолкали на полуслове, чувствуя, что на них смотрит нечто большее, нежели просто существо из плоти и крови.
К тому же, мать была не права. У него была девушка. Уже несколько лет. Он не знал её имени и никогда не видел лица, но не было дня, чтобы он не вспоминал её и тот удушливый, июльский день, когда он впервые увидел её лежащую ничком на асфальте под колёсами пыльного грузовика. Это было одно из самых дорогих его воспоминаний, и он старался никогда не думать о нем в спешке. Впрочем, он вообще больше никуда не спешил. Мир, в котором жили другие люди, с некоторых пор прекратил существовать для него. У него был свой собственный, гораздо более справедливый и привлекательный, и он покидал его лишь иногда, в жару, когда приходило время нового поиска…
«Им никогда не понять меня… – часто размышлял Олег, перед тем как уснуть. – Это не потому, что они глупые… Это потому, что они бояться… Страх, вот что мешает им жить… Только он и ничего больше… Я освободился от страха… Они освободили меня… Но им самим никогда не освободиться от своего собственного… Никогда… Поэтому им никогда и не понять меня… Только те, кто убивал, может быть, смогут… Только они… И Она…»