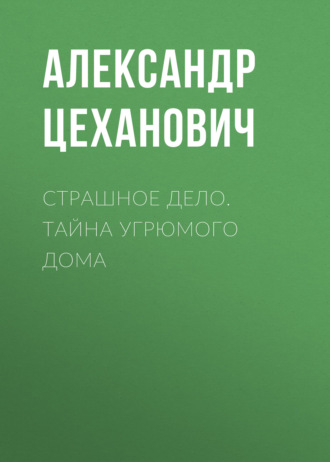
Александр Цеханович
Страшное дело. Тайна угрюмого дома
Сиротские слезы
Смельский познакомился с Татьяной Николаевной недавно только. Ранее этому мешала ее болезнь, но и Татьяна Николаевна ему и он ей очень понравились.
Краева была душевно рада, что мужа ее будет защищать именно Смельский, а не кто-то другой. Бедная женщина почему-то питала уверенность, что если он выступит защитником мужа, то дело непременно должно быть выиграно.
Если бы почему-либо Смельский отказался теперь от защиты, она была бы неутешна.
Но Краева знала, что он любит Анну и ради этого уже не откажется оказать это благодеяние ее родственнику.
И Татьяна Николаевна питала себя надеждой, как больной, который верит в опытность своего врача.
Она часто последнее время беседовала со Смельским о муже, клялась ему, что он не виновен, ссылаясь на сон и прочее.
Смельский выслушивал ее с состраданием и подавал кое-какие надежды на то, что, мол, бог даст, дело примет хороший оборот, что правосудие не допустит наказать невиновного и прочее.
Он нарочно не высказывал своего истинного взгляда на это дело из опасения за здоровье только что начавшей поправляться Татьяны Николаевны.
Он же в числе других, то есть Сламоты и Анны, отговаривал ее от свидания с заключенным впредь до окончательного укрепления ее здоровья.
Краева наконец привязалась к Смельскому как к родному, да она и считала его таковым, потому что Анна была его невестой.
Но вот последнее время что-то случилось с Анной; она стала какая-то странная, и что день – то хуже; даже лицо ее изменилось.
Потом она стала пропадать из дачи бог весть куда на целые часы и, возвращаясь, говорила, что она гуляла в парке.
И теперь все в парк, все в парк начала ходить… Точно у нее там сокровище какое-то зарыто.
Стала, наконец, уходить и по вечерам, а вечера теперь уже темные; даже страшно за нее.
Этакая она смелая!
Спросила как-то на днях Татьяна Николаевна у Смельского, не с ним ли Аня по вечерам гуляет, тот и глаза опустил.
Краева даже испугалась, что сказала это.
– Я, – говорит он, – сам ищу вот уже два дня Анну Николаевну, хочу переговорить с нею о важном деле и не вижу ее.
Краева задумалась.
Что бы это могло быть?
Но когда сегодня, сейчас, Смельский, бледный и встревоженный, приехал и сообщил, что Анна уехала с Шиловым, Татьяне Николаевне сделалось дурно, так дурно, что она опять слегла в постель.
Смельский ушел к себе на дачу и предался самым мрачным размышлениям. Он сел у открытого окна и задумался, глядя в поле, где виднелся выступающий угол сламотовского парка.
«Вот этот проклятый парк, – думал он, – вот это чертово гнездо измены и воровства…» Потом мысли его перенеслись на Анну…
Он был зол, ему хотелось бранить весь свет; бранить Анну он не имел силы: он и теперь еще слишком любил ее, чтобы сделать это. Взамен ее лично он стал думать о женщинах или о женщине вообще; не похвальны оказались его выводы об этой половине рода человеческого. Но в них была правда, масса правды и разве только какой-нибудь один процент преувеличения, происходящего от горя и обиды. Ему пришло на ум, что женщина очень странное существо, потому что все качества, составляющие ее нравственную фигуру, можно назвать огульно отрицательными, так что в женщине, собственно, нет ни хорошего, ни дурного, а есть только тени того и другого чувства, тени, легко меняющие свои места и сливающиеся одна с другой. Не спалось в эту ночь Смельскому, не работалось и над проектом защитительной речи, как он ни уговаривал себя, что постыдно, мол, с его стороны опустить настолько руки в этой беде, чтобы забыть даже обязанность честного человека.
Ведь он не бросит же защиту Краева только потому, что Анна изменила ему? Конечно, он сделал бы это с охотой, но он не должен, он не смеет, он – присяжный защитник обвиняемых, кто бы они ни были и что бы ни было связано с ними. Это – назначение и цель его жизни.
На следующий день, после нескольких часов тревожного лихорадочного сна, под утро, он пришел к такому решению: при первом удобном случае вызвать Шилова на дуэль, но не ранее как после разбирательства дела; впрочем, если бы Шилов вздумал не принять это последнее условие, он готов был передать защиту другому лицу. Теперь он собирался ехать к Сламоте и просить быть его секундантом, а также решил заехать и к Краевой, объявив ей, что по непредвиденным обстоятельствам, быть может, придется ему передать защиту одному из своих коллег, человеку, также способному и знающему еще лучше его ведение подобных дел.
Одевшись, он направился сперва к Краевой. Она была еще в постели и чувствовала себя хуже после вчерашнего обморока; но, узнав, что пришел Смельский, встала с кровати и принялась одеваться, крича через закрытую дверь:
– Подождите, дорогой Андрей Иванович, я сейчас к вам выйду.
Ждать Смельскому не пришлось долго.
Татьяна Николаевна вышла бледная, с желтыми кругами под глазами.
Она взглянула на Смельского с испугом и вопросительно.
Она ждала какого-нибудь известия или об Анне, или о муже, но доброго ни с той, ни с другой стороны не ожидала.
Увидя серьезное лицо Смельского, она смутилась еще больше.
– Татьяна Николаевна, – сказал молодой адвокат, – мои обстоятельства сложились так, что могут потребовать изменения моего прежнего решения защищать вашего мужа. Мне придется, может быть, на днях уехать очень далеко, и в таком случае считаю долгом предупредить вас, что я передам дело вашего мужа одному моему товарищу, человеку, за которого я вполне…
Татьяна Николаевна вдруг стремительно бросилась из комнаты, так что Смельский остался один с неоконченной фразой на устах.
Несколько минут все было тихо.
Он уже хотел встать и узнать о причине этого странного исчезновения Татьяны Николаевны, когда она сама появилась в комнате, ведя за руки двух малюток. Еще у дверей она наклонилась к ним и шепнула что-то.
Дети приблизились к Смельскому, и один и другая стали перед ним на колени.
– Ради бога, защитите папу вы! – сказал старший мальчуган.
– Папу! – тихо уронила девочка и больше ничего не сказала, оглянувшись, потому что не приобрела еще за трехлетнее пребывание на свете большего количества слов, необходимого для красноречия.
А за ними и Краева упала на колени, моля:
– Нет, нет, никто, кроме вас! Вы! Вы защитите мужа! Я только в вас верю, вы вся наша надежда!
Смельский был так растроган и смущен, что на глазах его показались слезы.
Он забыл в эту минуту все и дал обещание, поцеловав обоих малюток и руку Краевой.
Нечестное дело
Сламоту Смельский застал у себя в кабинете.
Он сидел на восточном балконе, укутав ноги пледом, несмотря на то что день был теплый, даже жаркий.
Графа мучил его застарелый ревматизм.
Входящему Смельскому он приветливо улыбнулся, как старому хорошему знакомому.
Но вслед за тем, увидя встревоженное и даже несколько исхудавшее лицо молодого человека, он изменил и выражение своего на серьезно-вопросительное.
Смельский подробно рассказал все происшедшее в последние три дня между Анной и Шиловым и просил графа быть в этом деле судьей чести, обязать Шилова принять вызов со стороны его, Смельского, по окончании судопроизводства по делу Краева.
Старик опустил голову и долго не поднимал ее, словно обдумывая что-то.
На лбу его то и дело вздрагивали морщины, пальцы нервически комкали край пледа на коленях.
– Хорошо! – сказал он наконец, поднимая голову. – Я возьмусь за это дело, и вы получите удовлетворение… но и он тоже получит его от меня, – заключил старик, и так грозно сверкнули его красивые, благородные глаза, что Смельский невольно залюбовался им.
Когда он ушел, граф велел тотчас же позвать к себе управляющего, но его не оказалось дома.
Тогда Сламота велел сказать, что ждет его во всякое время, когда бы он ни вернулся.
И действительно, верный своему слову, он даже ночь просидел в кресле с тем же суровым лицом и сверкающим взглядом.
Шилов явился только наутро.
Войдя в кабинет графа, он удивился выражению его лица: таким еще он никогда не видел Сламоту.
Граф молча указал ему на кресло против себя, но руки, против обыкновения, не подал.
– Вчера, – прямо начал Сламота, – ко мне приезжал господин Смельский, чтобы через мое посредство предложить вам дать ему удовлетворение по делу, известному, конечно, вам.
– Я недоумеваю, граф.
– Вы? Тогда недоумевать придется и мне, но зачем играть в недоумения, господин Шилов, не лучше ли будет нам обоим высказаться откровенно. Я сперва готов выслушать то, что вы скажете в свое оправдание относительно соблазнения вами невесты Смельского, а потом выскажу свое мнение.
– Соблазнения нет, граф! – немного вызывающе ответил Шилов. – Насиловать чувство ни мужское, ни женское никто не может.
– Это верно, но позвольте мне припомнить вам, господин Шилов, что вы же сами в этой же самой комнате, даже, кажется, на этом же кресле, не один раз касались вопроса любви и высказывали передо мной ваши оригинальные взгляды, иллюстрируя их фактами из вашей прошлой жизни, так изобилующей приключениями этого рода, но тогда это была только просто тема разговора. Одобрять или неодобрять ваши тенденции по этому поводу я не считал нужным и просто находил ваши рассказы забавными, а тенденции их чересчур оригинальными, и только.
Ваш взгляд на женщину, немного циничный, не затрагивал моей брезгливости, так как я лично слишком далек был всегда от женщин, но теперь, когда эпизод ваших почти порнографических новелл вы перенесли на честную девушку, на невесту вашего товарища и даже друга юности, как вы мне его рекомендовали, я возмущен, и возмущен глубоко. Припоминая ваши же собственные рассказы о тех приемах, которые вы усвоили себе для соблазна хорошеньких грешниц, в среде которых весьма возможно, что вы были неотразимы, теперешний поступок ваш я считаю откровенно нечестным.
Граф остановился.
Шилов встал.
– Вы, вероятно, окончили, граф? – спросил он немного театральным тоном.
– Последним словом я окончил то дело, за которым призвал вас сюда.
– В трехдневный срок прошу принять от меня все дела и полномочия.
– Хорошо. Я только что сам хотел предложить вам сделать это.
– Я предупредил вас, граф.
– Это делает честь вашей догадливости.
– Я ею всегда отличался, граф, и был даже отличен вами за это, – с иронической усмешкой поклонился Шилов. – Что же касается господина Смельского, то я жду его поверенных от сегодняшнего дня вплоть до истечения суток после судоразбирательства, где он выступает защитником Краева.
Шилов поклонился и вышел.
Что же это за человек, скажет читатель, умеющий вести себя с таким достоинством и в то же время способный на одну из самых низких подлостей, какие когда-либо пятнали человеческое «я»?
Это человек нашего века, это злодей во вкусе начала его, это поклонник денег, это человек без принципов, кроме одного, заключающегося в девизе – все хорошо, что богато, нарядно и имеет хороший вид.
Он презирал бедность и одним взмахом освободился от нее, ни минуты не задумываясь над качеством избранного средства.
Выкройка этих людей пришла к нам оттуда же, откуда идут и выкройки для ублажения наших жен и дочек.
Накануне суда
По камерам разнесли ночники.
Это значит – наступила тюремная ночь и окончился тюремный день.
Слава богу, что окончился, одним меньше в жизни, одним ближе к чему-то: к смерти или облегчению суровой участи.
Арестанты любят ночь более дня. Потому они любят ее, что, во-первых, она меньше напоминает о свободе, разлука с которой тем ощутительнее и тоска по ней тем жгуче, чем ярче день, чем голубее клочок неба, только и видный в верхнее оконце арестантской камеры.
Проходив почти весь день из угла в угол, Краев лег на постель.
Уже два месяца ровно, два месяца сегодня, как он томится в этой мрачной камере.
Многое изменилось с тех пор.
Собственно, он, Краев, знает только, что жена переехала с дачи в город и поэтому навещает его теперь каждый приемный день.
Знает он от нее, что живет она на деньги графа Сламоты, что этот граф – чудный старик, что у него благородная, чисто дворянская душа.
С большой похвалой также Таня отзывается о Смельском.
Ну, этого-то он и сам знает, и сам успел полюбить.
Это честный, хороший человек!
Дальше она рассказала ему, что с Анной что-то неладно, что она убежала от нее с управляющим графа, что граф отказал ему от места и временно делами его управляет Смельский.
Граф теперь живет в Петербурге и очень интересуется, чем кончится его дело. Но, несмотря на то что граф прогнал от себя Шилова, он не верит в то, что он оклеветал Краева.
Татьяна Николаевна, сообщая это, заливалась слезами, хрустели от отчаяния заломленные пальцы и у несчастного невиновного узника, но что поделаешь – не верят, и кончено.
Дошло наконец до того, что Краев и сам себе не стал верить, и сам себя начал допрашивать в минуты помутнения сознания:
– Да и правда, не украл ли я эти деньги?… Может быть, со мной случился какой-нибудь припадок сумасшествия, может быть, взамен одного я помню другое?
И холодный пот орошал лицо несчастного, и дико блуждали полные слез глаза, и падал он на свою соломенную подушку, весь трясясь от рыданий.
Но вот завтра суд.
Сегодня была Таня, был Антон Иванович, они говорили что-то и между собой, и с ним, а он ничего и не помнит, словно во сне промелькнули их фигуры.
Завтра суд!..
Только заключенный может понять всю грандиозность этих слов.
Завтра суд!..
Завтра решится участь его.
Краев упал перед медным образком, прилепленным в углу каземата, и долго молился.
Мираж
Есть странные женские натуры. Психология их по сложности своей стоит наряду с самыми серьезными проблемами философии.
Спроси у каждой такой женщины собственное мнение о себе, и она затруднится с ответом, если захочет быть искренней.
Проще всего определить их характер отсутствием устойчивости, может быть, по этим типам и складывается общее понятие о легкости женского характера, тогда как на самом деле это далеко несправедливо в отношении других женщин.
Одною из таких натур была Анна.
Она стремительно бросилась на помощь сестре, но потом новое чувство вытеснило эту стремительность, и она охладела в своем порыве.
Анна начала симпатизировать Смельскому и даже позволила ему назвать себя невестой, но Шилов произвел более сильное впечатление, и она, не задумываясь, едва ли не пассивно отдалась этому порыву.
Она горячо полюбила Шилова, за него и для него теперь она готова была на все.
Из-за него она порвала всякие сношения с сестрой и даже возненавидела ее, даже согласилась с ним, что Татьяна – гнусная притворщица и сообщница преступления мужа.
Она согласилась и с тем, что у Краевой где-нибудь запрятана сотня тысяч сламотовских денег и она для отвода глаз плачет и пользуется благодеянием от того же обокраденного мужем графа.
Шилов совсем терялся в догадках насчет этой странной девушки.
Он видел ясно, что она влюблена в него по уши, как он выражался, но в то же время был уверен, как знаток женской души, что она ни за что не переступит ту грань, которую сама начертала в их отношениях.
Другой на месте Шилова стал бы скучать уже, но он был так заинтересован странной девушкой, что нашел особую прелесть в этих отношениях, и чем более было препятствий к его цели, тем более интересной делалась для него Анна.
Теперь он говорил с нею все про отъезд за границу, как только кончится краевское дело, на котором он обязан присутствовать в качестве главного свидетеля и потерпевшего. Анна с удовольствием выслушивала его планы, с восторгом глядела на красивое лицо его…
Она, казалось, спокойно ждала чего-то, спокойно и терпеливо. Мысль о Смельском иногда тревожила ее легким уколом, но она спешила отогнать ее, как в жару отгоняют назойливую, больно кусающуюся муху.
С ним у нее было все кончено, вихрь чувств переметнул ее любовь к другому, и она будет принадлежать этому, второму, будет его женой, его другом на всю жизнь так же, как при других обстоятельствах была бы подругой для Смельского.
О том, какую глубокую рану она нанесла ему, как страдает теперь он, Анна даже не думала, то есть не хотела думать. Она знала, что он страдает, ей было жаль его, но что она могла для него сделать? Ничего!
А Смельский страдал, жестоко страдал!
Он все еще не мог ни разлюбить Анну, ни позабыть ее.
И днем и ночью она стояла перед ним рядом с ненавистным для него человеком, и он скрежетал зубами от ненависти и душевной боли, шепча: «Постой, постой! Теперь уже скоро! Мы рассчитаемся!»
Но вот в последнее время на Анну начала нападать странная, ей самой (впрочем, как и все в ней) непонятная тоска. Как и всегда поступают женщины в таких случаях, она вдвойне уцепилась за свою последнюю любовь, но тщетно – тоска росла, а чувство к Шилову таяло, как снежная глыба в солнечный день.
Она с ужасом стала замечать, что даже лицо его, это дьявольски прекрасное лицо, перестало производить на нее свое прежнее впечатление, и она начала находить в нем какие-то черты, которые делали его выражение чересчур жестким, почти отталкивающим.
Она жила теперь в меблированной комнате, и, когда Шилов приехал к ней в первый раз после размолвки со Сламотой, она почувствовала эту минутную антипатию так остро, что сама испугалась даже.
Дело в том, что, несмотря на вспышку любви к Шилову, она питала самые хорошие чувства к Сламоте.
Этот красивый благородный старик, с его, быть может, не менее красивой тайной одиночества, произвел на нее сильное впечатление.
За несколько дней знакомства она полюбила старика любовью, полной уважения и благоговения. Теперь, когда Шилов объявил ей о своей размолвке с ним, она поняла, что правда на стороне графа. Какое-то тайное чувство подсказало ей это, и вспыхнули другие дремавшие ощущения.
И тут ей впервые пришло в голову, что и это увлечение было миражем…
Мелькнуло бледное, благородное лицо Смельского… Она вздрогнула и отговорилась от продолжения визита головной болью…
Шилов странно взглянул на нее и уехал.
Как и надо было ожидать, судебное разбирательство не пошло на пользу обвиняемого.
Смельский осознал бессилие красноречия перед фактом.
Краев был признан виновным, хотя и заслуживающим некоторого снисхождения.
Как только печальное дело кончилось, глаза молодого адвоката блеснули бешенством, час мести его настал. Увидев выходящего из зала суда Шилова, он догнал его и тихо, но явственно сказал:
– Мои секунданты у вас на квартире, милостивый государь, позаботьтесь о ваших.
Шилов молча поклонился и вышел.
Через два часа секунданты явились и объявили, что поединок назначен на завтра, в семь часов утра, в леске по Нарвскому шоссе.
Это были два школьных товарища Смельского, оба присяжные поверенные, оба молодые, подающие надежды люди.
Дуэль обещала быть серьезной.
Самые крайние условия, предложенные противниками, были приняты поверенным Шилова беспрекословно.
Свидание происходило в комнатке Шилова в Петербурге, через комнату от Анны.
Присутствующие нарочно, для отвода глаз ее, хохотали, точнее, хохотали и весело разговаривали между собою двое, в то время как другие двое говорили о деле.
Анна и не подозревала, какая опасность грозит ее возлюбленному.
Когда секунданты уехали, Шилов, квартировавший со времени разрыва со Сламотой в одном коридоре с Анной, зашел к ней и объявил ей результат судоразбирательства.
Анна на минуту задумалась, даже в лице изменилась, но потом махнула рукой и сказала:
– И хорошо! И поделом ему. Жаль только бедную Татьяну. Ну, да она с деньгами не пропадет…
Месть
На другой день утро было дождливое, ненастное. Дул порывистый ветер, бросая, как пыль, мелкие брызги.
У Нарвского шоссе догнали одна другую две кареты и быстрой рысью направились по дороге.
Смельский был угрюм и неразговорчив, молчали и секунданты его, чувствуя, что дело действительно далеко не шуточное.
Барьер двенадцать шагов, пистолеты второго номера, все это не говорило в пользу хотя сколько-нибудь благополучного исхода.
Но и повод к поединку был настолько же серьезен, как и его условия.
На душе у Смельского не было почти никаких ощущений, кроме непримиримой вражды к своему противнику.
Как только он представлял себе мысленно его нахальную, самодовольную физиономию с дерзко закрученными вверх усами, он чувствовал, что карета едет медленно и что нет сил ожидать наступления того приятного момента, когда он сможет направить дуло своего пистолета в лоб этого негодяя. И после каждых пяти минут езды он высовывался в окно и кричал:
– Скорей! Прибавь ходу!
Наконец приехали.
В карете противников оказалось четверо.
Четвертый был доктор.
– Предусмотрительность не лишняя, – тихо заметил Смельский одному из своих секундантов. – А впрочем, может быть, и совсем излишняя, потому что нет того доктора, который бы мог законопатить лоб, сквозь который проскочила добрая пуля.
Секунданты сблизились, приветствуя друг друга чопорными поклонами.
Со стороны Шилова секундантами оказались на вид весьма великосветские денди.
Они как-то особенно брезгливо ступали, пробираясь по грязи и обходя лужи.
Смельский заметил, что у них обоих лакированные сапоги.
Идти пришлось немного, шагов двадцать, и показалась лужайка.
– Тут очень удобно? – прокартавил один из денди.
– Да, – сказал секундант Смельского.
Все остановились.
Началась процедура отмеривания шагов.
Доктор повернулся спиной, раскрыл зонтик и закурил сигару.
Это был толстый краснощекий человек средних лет и очень недурной наружности. Видом это был сангвиник и весельчак, любитель пива, а пожалуй, и хорошеньких женщин.
На его добродушном лице лежала тень досады и недоумения перед совершающимся. Если бы он мог, он, кажется, так повернулся бы, закричав со смехом:
– Эх! Господа, плюньте, ну, что вы за глупости затеяли.
Но этого было сделать нельзя, и он молчал, усиленно и смущенно попыхивая своей сигарой.
Он так надымил под зонтиком, что дым шел, благодаря безветренному месту, со всех сторон и вился тонкими синеватыми струйками около веток.
– Становитесь, господа! – скомандовал тот, кого рекомендовали бароном.
Условлено было, что нечего тратить время на обычные переговоры о примирении, потому что самый вопрос о нем оскорбителен для одной из сторон.
– По команде: раз, два и три! стреляет вызванный, затем очередь вызвавшего. Приступите, господа! Раз! Два! Три!..
Грянул выстрел, и левый рукав Смельского окрасился кровью немного выше локтя.
– Доктора! – крикнул кто-то.
Доктор бросился с бинтом в руке.
– Ничего, – сказал Смельский ровным и холодным голосом, – перетяните рану… скорей, я стреляю…
Доктор кое-как перехватил бинтом окровавленные места, а Смельский в это время поднимал уже пистолет, пожирая глазами своего противника.
Даже секунданты отвернулись, так страшен был этот миг.
Шилов стоял как изваяние, и на лице его играла обычная едко-презрительная улыбка. Ни один мускул лица его не дрогнул, он глядел куда-то вдаль, обнаруживая дьявольски красивый профиль.
Секунда, другая… вот грянул второй выстрел, Шилов упал. Он лежал ничком, приложив руку к груди, из которой так и била алая кровь.
Смельский бросил пистолет и пошел к каретам.
Доктор уже стоял на коленях около раненого и знаком показал присутствующим, что все кончено.
Вдруг умирающий протянул руку по направлению к удалявшемуся Смельскому и хрипло позвал его.
Секунданты бросились за ним.
– Поверните… меня… на бок! – прохрипел Шилов, все еще силясь улыбнуться – Смельский… иди… сюда… Слушай и… все… слушайте! Краев… не виноват… Я выря… дился парнем и сам украл у графа… ни… кто… на меня не нападал… Я подбросил бумажник в вагоне… я и был парень… я проследил Краева… до дачи и свалил… вину на него… Остальные деньги у… меня в шкатулке… девяносто четыре тысячи… Поняли?… Ну, хорошо… Хе… хе… хе…
И с застывшей на губах улыбкой он вздрогнул, вытянулся и замер. Смельский оцепенел.
Только когда труп подняли и понесли к карете, Смельский очнулся. Он понял все, но зато из окружающих – никто ничего.
Тогда Смельский тут же перед трупом, положенным в карету, разъяснил всем смысл последних слов умирающего. Присутствующие ужаснулись Затем Смельский пригласил их, как свидетелей, присутствовать при осмотре комнаты.
И осмотр этот дал блестящие результаты.
Не только остальная сумма, означенная умирающим, нашлась в целости, но в состав ее входили также облигации, которые потом были заявлены банком как выданные в одни руки с теми, которые находились в бумажнике, найденном Краевым.
И те и другие были выданы под расписку Шилова.




