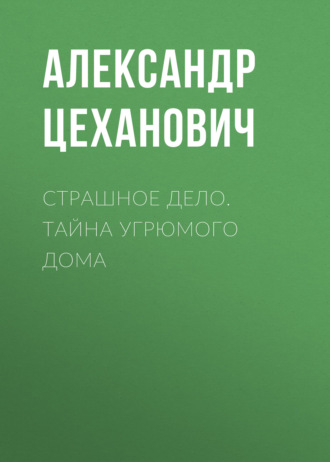
Александр Цеханович
Страшное дело. Тайна угрюмого дома
Трактир «Беседа»
Орган гудит так громко, что на улице по тихой санной дороге далеко слышны его звуки, несмотря на двойные рамы больших аркообразных окон. Трактир помещается на углу двух людных улиц, вблизи моста, перекинутого через Фонтанку, и совсем неподалеку от угрюмого здания N-ской больницы. На «чистой» половине, около одного из столов, покрытого запятнанной скатертью, за бутылкой пива сидел знакомый уже вам фельдшер.
Было около десяти часов вечера. Трактир был переполнен посетителями в одежде самого разного образца. Тут были и купеческие кафтаны, и потертые модные визитки, и женщины в платках, и женщины в шляпках. Иные громко смеялись, другие тихо разговаривали со своими собутыльниками, искоса поглядывая по сторонам, словно опасаясь, что кто-нибудь из окружающих подслушает таинственно сообщаемое ими.
Вообще трактир и его посетители выглядели очень подозрительно. Это был сброд темных личностей, самых странных типов. Даже буфетчик имел подозрительную физиономию и бог весть по каким причинам не возбуждал ею должной бдительности охранителей порядка.
Фельдшер Онуфрий Иванович потребовал себе уже вторую бутылку пива и все справлялся со своими серебряными часами, иногда делая едва уловимый знак удивления губами и легким покачиванием головы. Засаленный мундир его распахнулся шире обыкновенного, и из-под грязной жилетки виднелась неопрятная рубаха. Часы показывали одиннадцать.
– Не идет, черт его подрал бы!.. Что это значит? – пробормотал Онуфрий Иванович, но в это время он поднял голову, и все черты лица его приняли то выражение, какое обыкновенно бывает у людей при неожиданной встрече с хорошим старым знакомым. Протискиваясь между сплошь занятых столиков, к нему подходил приличный человек купеческого вида, с множеством колец на пухлых руках. Весь путь его сопровождали усиленные поклоны лакеев.
– Что так поздновато, Иван Трофимович? – тихо спросил Онуфрий Иванович.
Иван Трофимович сделал какой-то знак одним глазом и движением губ, очевидно для того, чтобы фельдшер оставил вопрос втуне.
– Дай-ка сюда графинчик! – повернулся он к юлившему около лакею, более для того, чтобы избавиться от его присутствия, чем с целью наслаждаться содержимым заказанной посуды.
Когда лакей отошел, он сказал Онуфрию Ивановичу:
– Дела, братец, задержали… Ноне такие дела стали, что и не говори. Ребята забрали себе в голову, что я обработал в единственности какое-то хорошее дельце, и так и лезут на меня… так и лезут… Я сейчас оттуда…
– Откуда? От «ворот»?
– Да, еле-еле ребят успокоил… Дело, видишь, в чем: у ростовщика-то… Да ну, это потом… Ты зачем вызвал-то меня?
– По важному делу!
– А по какому?
– Кириллыч у меня в отделении лежит.
Лицо Ивана Трофимовича дрогнуло, как от укола.
– Ты что?!
– Лежит.
Фельдшер пристально поглядел на своего собеседника:
– И что же?
– Да ничего. Белая горячка, и только.
Лицо Ивана Трофимовича приняло более спокойное выражение.
– Вот тебе и на! – сказал он. – А я думал, что он пропал бесследно…
– Тобой все бредит, – сказал фельдшер, – все бьет тебя… Кто ни подойдет, во всяком тебя видит…
– Несуразный человек!.. Сам порешил, а потом и на попятный, сам свою потаскушку продал для дела, сам указал ведь, как и поймать ее, а потом и на попятный… Да ты расскажи, откуда его доставили к вам?…
– Да из соседнего дома, где жила его дочь… Дом этот, ты знаешь, ведь похож как две капли на тот, что рядом… Ну, он и забрался туда, вместо второго…
– Что же, к дочери, что ли, шел?
– Должно быть, так…
– Да ведь сам же он получил деньги от нас, за то чтобы ее для картинности убить, потому что так нам, как ты знаешь, нужно… Ведь ты знаешь?…
– Знаю… Ну, да болезнь! Что поделаешь… Припадок белой горячки! Тут уж человек ничего сообразить не может. Он живет галлюцинациями…
– Чем это? – серьезно осведомился Иван Трофимович.
– Галлюцинациями, – повторил фельдшер и объяснил, что значит это слово.
Иван Трофимович задумчиво покачал головой.
– Как бы, брат Онуфрий, он не выдал нас своими цинациями-то.
– Ну, выдать-то он никого не выдаст, потому что бред пьяного и сумасшедшего не принимается в расчет, а, конечно, опасно немножко, в особенности теперь, когда уже у койки его был следователь.
Лицо Ивана Трофимовича опять вздрогнуло:
– Что ты? Разве?…
– Был! – задумчиво сказал фельдшер и рассказал все подробно.
– Дело плохо! – заметил Иван Трофимович. – А нельзя ли его твоим лекарством?…
– Теперь нельзя…
– Почему так?
– Следствие идет…
– А ты говоришь, у тебя есть такое, что никто не заметил бы ничего.
– Ну, вскрытие всегда заметит, от науки, братец, и булавочной головки не скроешь…
– Так как же быть-то? Вон ты говоришь, что мое имя он уже упоминал, а следователь записал его… Стало быть, оно уже на примете?…
– А нешто мало на свете Иванов Трофимовичей, пусть поищут… Коли всех переловят, ну и ты, значит, попался.
– Оно так-то так, а все-таки опасно… Мало ли какой бред ему в голову придет… Может быть, он и адреса назовет вдруг… Ведь коли бы здоровый, его уговорить можно, а с сумасшедшим как столкуешься.
– Так-то оно так, да нужно тоже и с другой стороны осторожность соблюсти…
– Да ведь ты только подумай, Оня, что будет, если по его бреду следствие направится, ведь и ты сам пострадаешь.
– А как я могу пострадать? – грозно спросил фельдшер, и глаза его блеснули. – Какое мое дело?… Я в стороне. Конечно, если ты выдашь, ну, тогда…
– Я-то не выдам, Оня, я хоть и сам попадусь, а друга не выдам, не таковская моя натура… А другие могут выдать… Серьга или Баклага, Аидка может тоже озлиться на меня и на тебя, как на моего близкого приятеля. Они теперь все злы на меня, что я там, у ростовщика, денег не нашел… А чем я виноват?… Думал, денег уйма, и все думали, а стали шарить – и не нашли… Может быть, и запрятаны у него, только надо сыскать… Я вот по ночам и роюсь… по ночам… да веришь ли, дрожь пробирает, а вспомнишь…
– А что?
– Нечисто там…
– Что, грязь, что ли?…
– Какая грязь… Не слыхал разве толков-то про привидение, что по комнатам ходит?
– Привидение?! Ха-ха-ха! А ты и веришь?…
– Да как не верить, коли я ее своими глазами, вот так, как тебя, видел…
– Ее?…
– Да.
– Стало быть, женщина?…
– Женщина, совсем по облику женщина… И похожа на его дочку-то как раз… Просто решился я плюнуть на это дело и искать перестать… Бог с ними, с деньгами!.. Да добро бы я один видел ее, а то все соседи из окон видят, а потом, понятые тоже, говорят, видели… то есть они-то, говорят, не видели, а только слышали: такой ужасный крик по всем залам вдруг прокатился, что они скорее драла…
Иван Трофимович взглянул на собеседника недобрыми и вместе с тем тревожными глазами.
– А ну, расскажи, какой же ты ее видел, с головой или без головы? – спросил фельдшер, вдруг меняя тон, потому что ему припомнилось одно, тоже очень странное, обстоятельство.
Он вспомнил, что Кириллыч в бреду спрашивал у дочери своей, где ее голова. Ведь он же не был там во время преступления, и из других слов его ясно, что он забыл даже о том, что продал дочь для этой штуки. Видно по всему, что он шлялся где-то вдалеке.
«Но тогда как же он мог узнать?… Как он мог узнать?» – повторял себе вопрос фельдшер, соображая, что старик шел к живой дочери, на ее прежнее местожительство, когда его поймали во дворе, он, видимо, хотел спасти ее?…
– Нет, она с головой, – перебил своим ответом его мысли Иван Трофимович. – Было это так. Влез я в дом, по обычаю, через слуховое окно по трубе и карнизам, влез и принялся за работу… Только это я начал шарить да нюхать, вдруг словно меня в бок что-то толкнуло. Гляжу – посреди залы, там, где на паркет падает пятном лунный свет из большого окна, стоит что-то белое… Смотрю – женщина подняла эдак руку, погрозила мне и словно растаяла, а потом как крикнет кто-то… У меня волосы дыбом… Я скорее по чердачной лестнице да в слуховое окно… Вот и теперь говорю, а самого мороз по коже дерет.
Онуфрий Иванович слушал его с улыбкой и, когда он кончил, только и сказал:
– Галлюцинация!..
Оба замолчали. Иван Трофимович наконец заговорил опять:
– Ну, то дело иное, а вот тут что… Послушай, Оня… Прими мой совет, дай ты ему своего лекарства. Иначе худо будет…
– Ну, хорошо, там увидим, я подумаю, а только даром этого я делать не буду… Денег дай-ка мне!
– Да ты пойми, что тут наша общая польза…
– Моя польза только в деньгах, а больше я ничего не знаю… Дашь сейчас денег… Так и быть, для тебя уж устрою…
– Да откуда у меня деньги-то… Все вы с меня тянете, а где мне достать…
– Ну, ты этого мне-то хоть не говори… С Аидкой вы по тысячам прокатываете, а кто помощь вам оказывает, ты жалеешь тому… Знаю я, ведь и кроме Пустоозерного переулка были у тебя дела… Припомни-ка, на какие такие предметы у меня «лекарства» брал? А?…
– Да это, конечно, Оня, ты не серчай… За деньгами я не постою, а только теперь-то у меня их нет почти, потому что я впутался в то пустоозерное дело да и проиграл на нем…
– Ну-ну! – почти повелительно уже произнес фельдшер.
Иван Трофимович со вздохом взялся за бумажник и отделил несколько кредиток, которые Онуфрий быстро и молча спрятал в карман.
– Так ты дашь ему «молчанки»?
– Ладно!
Приятели расстались.
Кириллыч замолчал
Не знаю, верны ли эти выводы, но я заметил, когда мне случалось наблюдать наших доморощенных преступников, что они очень резко, на мой взгляд, отличаются от всех прочих. Злодеев Запада можно назвать экзальтированными злодеями, образ преступности которых близко граничит с состоянием психоза. Хладнокровие, смелость, наглость и цинизм их есть только личина, правда, твердая и труднопроникаемая, как шкура бегемота, но все-таки личина, под которою скрывается очевидный психоз человека ненормального. Он виден и в движениях, и в блеске глаз, и даже в цвете кожи.
Но наши грабители и убийцы есть тип чрезвычайно любопытный. У них злодеяние быстро переходит в сорт ремесла и совершается с таким же спокойствием, степенностью, с каким вообще русский человек относится ко всякому делу. Чудовищно, но некоторые из каторжников-рецидивистов с полной набожностью крестились, и на лицах их лежало тупое спокойствие, полное несознание своей преступности.
Онуфрий Иванович был человек вполне русский, Иван Трофимович тоже. И тот и другой «работали» с неподражаемым хладнокровием. И теперь, когда первому предстояло успокоить бред больного своим лекарством или, попросту говоря, отравить его, он возвращался домой деловитым ровным шагом, как человек, имеющий серьезное дело, клонящееся к пользе его ближнего.
Войдя в ворота больницы и свернув по панели налево, он вскоре очутился перед подъездом пристройки, соединяющей перпендикулярно длинный низкий корпус пристройки с главным фасадом. Войдя, он постучался в дверь направо, украшенную окном.
Это было то самое отделение, где следователь Сурков производил свое дознание над таинственным алкоголиком. Едва отворились три обитые железом двери, как среди общей тишины палат раздался громовой голос из третьего номера.
– Все буянит? – спросил фельдшер у вахтера.
– Нет… уже слаб… Это он в первый раз с самого утра…
Фельдшер прошел в третий номер и при слабом блеске лампы, чадившей под потолком, нагнулся над койкой. Нагнулся и был поражен происшедшей переменой. Темные тени испещряли лицо умирающего. Несмотря на недавний крик, он теперь лежал с закрытыми глазами и бормотал что-то себе под нос.
Онуфрий Иванович взялся за пульс на исхудалой руке, которой только бессильная бледная кисть виднелась из-под ремней крепко прикрученной смирительной рубахи. Пульс был слаб и порывист. Временами он как бы замирал окончательно. Фельдшер покачал головой.
Он знал, что такое состояние предшествует новому припадку с галлюцинациями и бредом, если только больной не умрет через несколько минут. Онуфрий Иванович стал пристально вглядываться в его лицо, опытным глазом примечая малейшие изменения и не выпуская руки, по которой следил за пульсом. Жизненные силы стали прибывать. И по мере того как возрастали они, кислая гримаса ложилась на лицо исследователя.
– Нет, голубчик, тебя надо успокоить, – пробормотал фельдшер сквозь зубы и отошел.
Затем он направился к выходу и, перейдя темный двор, вошел в какое-то отдельное внутреннее здание. Тут он очутился на скупо освещенной лестнице и, добравшись до первой площадки, пошел по коридору налево. В этот коридор выходили все двери, словно меблированные комнаты или номера гостиницы. В тишине за некоторыми из них слышались раскатистый смех, говор, звуки гармоники, а где-то в углу, в конце коридора, пискливо завывала скрипка. Тут помещались старшие фельдшера N-ской больницы.
Сделав несколько шагов, Онуфрий Иванович остановился и, вынув из кармана ключ, отворил одну из дверей. Пахнуло жильем и запахом едких лекарств. Когда Онуфрий Иванович вслед за тем зажег лампу, комната явила очень оригинальный вид.
Неряшливая постель оставалась, вероятно, неприбранной с утра. Полка и стол были сплошь заставлены лекарственными пузырьками и аптечными коробочками. Тут же рядом на столе помещались недопитая бутылка водки и кусок колбасы. Комната была очень маленькая. Потолок низкий и закоптелый. Стены, выкрашенные когда-то белой краской, носили следы долголетнего и неряшливого житья.
В углу, прислонившись к стене, стоял фагот. Инструмент этот был очень старой конструкции и довольно сильно попорченный. Но тем не менее иногда вечером Онуфрий Иванович издавал на нем кое-какие звуки, и, видимо, это доставляло ему большое удовольствие. Он наигрывал все больше что-нибудь печальное, заунывное.
Гнусливый звук инструмента раздавался далеко в коридоре и производил странное впечатление. Казалось, какой-то дрянноголосый и вообще дрянной человечишко выводит странное подобие истинно музыкальных сочетаний. Да оно так и было. Онуфрия Ивановича нельзя ведь было назвать хорошим человеком.
В общем жизненном оркестре, может быть, был нужен и он, но едва только он выступал солистом, как вся убогость и подлость его, бог весть какими обстоятельствами созданные природой, выступали во всей своей отвратительной неприглядности.
Он в этом отношении очень походил на свой гнусливый инструмент, назначение которого – развлекать ухо слушателя внезапной дисгармонией, когда оно утомится аккордами классической верности.
Неподалеку от этого инструмента лепилась на подоконнике шарманка. Она тоже была старая-престарая, но дребезжащие звуки ее были не лишены приятности. Онуфрий Иванович любил вертеть ее в одиночестве, попивая водку и закусывая колбасой. На лице его в это время застывала какая-то снисходительно-ироническая улыбка, которая, быть может, глумилась над мелодичными звуками старинного вальса, тоскливо и грустно трогающими сокровенные струны самого огрубелого сердца.
Окинув все это быстрым взглядом и найдя «в порядке», Онуфрий Иванович зажег рядом с лампой еще огарок свечи в засаленном подсвечнике, не снимая фуражки, сел к столу и принялся за работу. Во-первых, он влил в стакан водки, потом достал из ящика стола какой-то пузырек и, деловито поглядев его на свет, стал капать из него в водку!
– Раз… два… три!.. – считал он, отрывисто шевеля губами, и, произнеся «двадцать», торжествующе взглянул на свое произведение.
Взболтав жидкость, он достал еще флакончик, на этот раз из кармана жилета, и тоже отсчитал оттуда двадцать пять капель. Опять поглядел на свет, и еще большим довольством сверкнули его серые, немного косые глаза.
– Готово! – тихо сказал он и, перелив все в какой-то пузырек, более похожий на колбу, закупорил его широкой пробкой и встал.
Через несколько минут он опять шагал по двору, направляясь к зданию с решетчатыми окнами.
«Это успокоит его, – думал он, – а что касается вскрытия, то ведь прозектор поручит его мне как фельдшеру отделения, так что опасности никакой. А в особенности потому, что эта штучка не имеет обыкновения оставлять по себе какой-либо след».
Когда Онуфрий Иванович остановился вновь над койкой Кириллыча, последний действительно начал проявлять симптомы близкого припадка. Он уже бормотал что-то. Фельдшер нагнулся и прислушался…
– Баба Казимирка… скверная баба… Господин пристав… а господин пристав… Да не бей меня… ты черррт!.. Господин пристав! Он бьет меня… прикажите ему не бить меня… Я скажу, где «выселки», позвольте… я сведу вас… Ой! Он опять бьет… Ой! По глазу!.. Господин пристав…
– На, выпей водочки, – нагнулся к уху его Онуфрий Иванович и одновременно поднес откупоренную колбу к его носу.
Учуяв знакомый лакомый запах, больной вздрогнул, и в блуждающих, широко открытых глазах его мелькнуло что-то похожее на сознание. Он чмокнул губами и усиленно вытянул их.
– Пей! Пей… – сказал Онуфрий Иванович, наклоняя колбу…
Больной жадно глотнул, поперхнулся, еще раз чмокнул губами, и лицо его приняло блаженное выражение. Фельдшер стоял нагнувшись и все смотрел в это лицо.
Вот веки опустились, вот по нему пробежала не то судорога, не то улыбка, вот нижняя губа отвисла, и Кириллыч сладко и спокойно уснул, чтобы никогда не проснуться…
– Там будет хорошо! – шепнул Онуфрий Иванович и отошел.
Зимние дачники
Только и уцелел у графов Крушинских этот деревянный домишко в Пустоозерном переулке. Когда-то, очень давно, когда Питер еще не так разбух вширь своими постройками, местность эта, вошедшая теперь в черту города, была загородной. Сюда, на живописный берег Невы, выезжали на лето все поколения Крушинских.
Тогда они были еще богаты, владели обширными поместьями, имели особняк на одной из самых шумных улиц Петербурга, а теперь двое последних могикан этого рода, отец и сын, засели в этой даче, потому что больше негде было засесть.
За несколько лет безвыездного житья последних Крушинских красивая дачка эта приняла очень непривлекательный вид благодаря тем приспособлениям, которые, способствуя удобству, нарушили ее стиль и сделали похожей на шелковое платье с шерстяными заплатами в тех местах, где от ткани требовалась особенная прочность.
Наконец она пришла в ветхость. Колонки на изящной балюстраде частью обвалились, частью приняли не то положение, какое им соответствовало. Полы в зале потрескались и взбугрились, печи дымили. В мансарде у Антона Николаевича было бы очень холодно, если бы он не обил стены войлоком.
Семейство Крушинских состояло из отца, матери и сына. С последним мы уже отчасти знакомы, и остается сказать несколько слов о первых двух. Старик, граф Николай Прокофьевич, был личностью столько же достопримечательной, сколько таинственной и странной.
За всю свою жизнь он только и сделал, что послужил около года в каком-то кавалерийском полку, после чего, выйдя в отставку, начал жить на «собственные», то есть стал проживать последние крохи из в пух и прах разоренного состояния своих предков. Скоро судьба его загнала на эту дачу, где он и поселился безвыездно и где сразу изменил свой образ жизни. Старый граф стал делаться с каждым днем подозрительнее и таинственнее. Начать с того, что старик взял себе за обычай пропадать каждую ночь до самых поздних часов, а иногда до утра.
Антону Николаевичу (сыну) чрезвычайно не нравилось подобное поведение отца, и он несколько раз пытался проникнуть в его тайну то расспросами, то прослеживанием, но в первом случае получил от угрюмого старика самый внушительный отпор, а во втором – потерпел полное фиаско, потому что, выходя вместе с отцом, тотчас же терял его из виду, едва тому попадался извозчик, или если сам брал извозчика, то отец шел нарочно медленнее и в конце концов все-таки ускользал, иногда словно сквозь землю проваливаясь.
Разбитая параличом и прикованная к креслу мать получала крошечный доходец со своей уцелевшей усадебки, да он, Антон, зарабатывал уроками, вот и весь бюджет, на что семейство Крушинских должно было влачить свое существование.
Отец почти ничего не давал в дом. Зато, живя своей странной жизнью, и не пользовался ничем около семейного очага, кроме ночлега в своем холодном и мрачном кабинете. По наружности это был еще хорошо сохранившийся человек с красивым энергичным лицом, длинными усами, но с неприятным взглядом и недоброй улыбкой, намечающейся над рядом когда-то великолепных, а ныне сильно попорченных зубов.
Старуха-графиня была жалкое, полуидиотичное существо. С некоторых пор она предалась вязанию каких-то одеял, которых готовыми лежало около нее штук до двадцати, а в руках было двадцать первое. Она давно уже перестала замечать отсутствие и присутствие мужа, как вообще не замечала уже почти ничего из окружающих явлений. Только одни узоры вышивки и привлекали ее внимание, только на них она и фиксировала свой потухший взор из-под вдумчиво нахмуренных бровей.
В отношениях с матерью Антон Николаевич ограничивался, по причине ее болезни, только пожеланием доброго утра или покойной ночи, но отца он прямо не любил, потому что с каждым годом все более и более терял к нему уважение. Отец платил ему тем же, и в конце концов получилось так, что при встречах они обменивались только совершенно сухими вежливыми поклонами, как посторонние.
В тот день, ночь которого Антон хотел провести в угрюмом доме с целью убедиться в существовании чего-то сверхъестественного, незадолго до одиннадцати часов в дверь его комнаты кто-то постучался. Получив позволение войти, на пороге показался отец. Антон так и обомлел. За все время совместной жизни с отцом это было в первый раз.
– Здравствуй, – сказал Николай Прокофьевич, против обыкновения протягивая сыну руку.
Антон уже не удивился этому, потому что все, вместе взятое, для него было более чем удивительно. Затем Николай Прокофьевич опустился в кресло и пристально поглядел на сына из-под ободов своего черепахового пенсне. Взгляд этот показался Антону более мрачным, чем когда-либо.
– Ты делаешь глупость, братец, и я как отец пришел предупредить тебя.
– Прошу вас объясниться, батюшка, я намеков не понимаю…
– Изволь… Я знаю, что ты решил сегодня провести ночь в этом доме… Так? Ведь я не ошибаюсь?
– Нет, вы не ошибаетесь.
– Это предприятие глупо. Лучшие умы признавали и признают, что на свете не все так просто, как кажется глупцам… Есть такие тайны природы, перед разгадками которых наш разум бессилен.
– Словом, батюшка, – досадливо перебил Антон, – вы верите в привидения и хотите предупредить меня «как отец», что общение с ними не совсем безопасно.
– Именно не совсем безопасно… C'est le mot,[6] – подхватил старик, делая особенное ударение.
– На это я позволю себе заметить, что вы напрасно трудитесь сообщать мне это, наши взгляды на этот счет разнятся.
– Да ты знаешь ли, – горячо начал Николай Прокофьевич, – что дом этот, во всяком случае, есть притон чего-то недоброго.
– Вот это-то недоброе мы со следователем и решились разоблачить.
– Разоблачить? Гм!.. Это глупо… Я, как отец, желаю тебе добра и поэтому предупреждаю… Наконец, вспомни, что ты человек нервный и впечатлительный. Твой невольный испуг может иметь серьезные последствия.
– Вы напрасно трудитесь, батюшка… Если я решил что-нибудь, то так и сделаю…
Николай Прокофьевич поднялся. Глаза его сверкали угрозой, губы побелели, а нижняя дрожала.
– Вспомнишь мои слова, что ты поплатишься за это, – сказал он с какой-то странной угрозой и вышел.
После его ухода Антон постоял посреди комнаты в глубоком раздумье. Все прежние подозрения его смутно всколыхнулись, и какой-то тайный инстинкт подсказывал ему, что они справедливы, что его отец – недобрый человек. В особенности странными показались ему этот внезапный визит и совершенно необъяснимый яростный взгляд. Что значит: он пришел предупредить его как отец!..
Невольный вздох вырвался из груди молодого человека. Он чувствовал на душе сегодня такую тяжесть, как никогда в жизни. Когда вслед за этим старик-лакей (когда-то крепостной и дворовый) зашел к нему наверх осведомиться насчет чая, молодой человек спросил его, где барин.
– Ушли! – ответил старик таким голосом, как будто говорил про какого-то распутного, отпетого человека.
Антон отказался от чая и сумрачно стал собираться. Сборы эти начались с осмотра двух револьверов. Несколько раз он глядел на окна напротив; они были черны, как сама ночь.
«Да, не время, – подумал Антон, – ведь оно появляется ровно в полночь, а теперь еще только половина. Следователь и агенты уже, вероятно, собрались в соседнем доме. Пора!»




