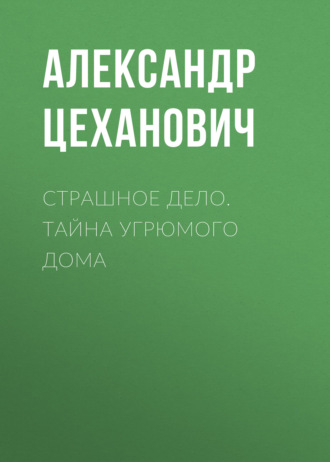
Александр Цеханович
Страшное дело. Тайна угрюмого дома
Разговор, который приводит Анну в окончательное недоумение
С этого дня решено было между Анной и Смельским устроиться так.
Он поедет в Петербург для свидания с заключенным и там останется жить, а приезжать в Сламотовку будет только в тех случаях, когда у него найдется что-либо сообщить Анне интересного по делу.
Но Смельский все-таки решил на случай приездов взять комнату у одного из дачников.
Расставшись с ним, Анна медленно и задумчиво пошла к даче сестры. Таня все еще была в забытьи. Так ей в этот день и не пришлось видеться и говорить с Краевой.
При этом сиделка, отчасти уже посвященная в семейную драму, посоветовала Анне, если она дорожит здоровьем сестры, отложить не только всякие разговоры, но и само свидание, пока хотя бы часть сил, потраченных в тяжелой болезни, не возвратится.
Анна невольно согласилась с этими доводами и вот несколько дней подряд старается быть незамеченною в доме, играет с детьми, читает или под вечер сидит задумчиво на скамейке под развесистой березой и думает, чем все это кончится и что скажет ей Таня, когда увидит ее.
Прошла неделя.
Татьяне Николаевне делалось заметно лучше, силы возвращались, а с ними вместе и сознание ужаса своего положения.
Когда ей сказали, что уходу за собой и за детьми она обязана графу Сламоте, она горько разрыдалась.
Плач больной доносился сквозь открытое окно в садик, где в углу все продолжала таиться Анна, несмотря на то что выздоравливающая уже много раз осведомлялась, нет ли от нее письма, и даже плакала по поводу ее молчания…
В этот вечер, когда стенания Тани так явственно доносились в сад, маленькая Маня, которую тоже редко пускали к матери, вдруг увидела ее в окне.
Больная встала в отсутствие сиделки и облокотилась на подоконник.
– Мама, мама! – закричала малютка. – У нас тетя, мама! Вон тетя!
Краева высунулась, глянула по указанному направлению, и сестры столкнулись взглядами.
В один миг Анна очутилась в комнате больной и подхватила ее почти на руки, целуя и успокаивая.
Она уложила ее обратно в постель и тогда только рассказала, что она уже давно тут и что она только боялась показаться Тане на глаза из-за предосторожности, которую ей посоветовала соблюдать сиделка.
– Так ты давно тут? Милая! Дорогая! – говорила Татьяна Николаевна, прижимая к себе руки сестры и целуя ее.
Она была так рада, что Анна теперь около нее – единственный человек, перед которым она может излить свою душу. И она, не откладывая в долгий ящик, начала свое горькое повествование.
Она подробно описала вечер ареста, потом все его последствия и, остановившись на последнем воспоминании о посещении Шилова, задрожала вся, и глаза ее опять расширились, как в момент той сцены. Этого Анна еще не знала, и рассказ сестры произвел на нее глубокое впечатление.
А Таня, поднявшись на локте, окруженная подушками, горячо и страстно говорила:
– Я бы ни за что не пошла к нему, Аня, если бы не видела сон. О! Боже, какой это ужасный сон! Я и теперь содрогаюсь, как только вспомню его!
Представь себе, снится мне Павлушка, бледный такой, худой и в цепях, пришел ко мне!
Татьяна Николаевна не выдержала и разрыдалась, упав на подушки; долго плакала она, долго Анна тихо гладила ее по голове, шепча:
– Ах ты моя бедная, бедная!
Наконец Краева опять поднялась, опять облокотилась и с лихорадочно сверкающими глазами продолжала:
– Пришел он… наклонился будто бы тут вот, над постелью, и шепчет: «Танюша! Танюша! (И так это ясно было, словно наяву). Танюша, – говорит, – ты веришь, что я не украл эти деньги. Это не я украл, а он украл у себя сам. Вон он. – И будто бы указал он рукою, и я увидела сламотовский дворец, а издали в окне управляющего. И палец Павлуши будто прямо на него показывает, а тот кивает головой и смеется!
Тут я проснулась, подумала, и вдруг словно толкнуло меня что-то, я побежала туда и при графе сказала ему… Веришь ли, Аня, я могу Богом поклясться за Павлушу, что это не он. Я знаю моего Павлушу. Я жизнь отдаю на поруки, что это не он, а что тут какое-то или недоразумение, или же преступная страшная тайна, которую распутать может только один Господь, если смилуется над нами!
И опять залилась Краева слезами, и опять ничком упала в подушки. Анна от волнения тоже закрыла лицо руками.
В открытое окно ворвался ароматный вечерний ветерок, он прошумел ветками березы, опахнул кусты и надул занавеску, отчего с окна упал какой-то предмет, кажется, лекарственная стклянка.
Обе сестры вздрогнули и словно очнулись.
– Аня, – тихо сказала Краева, – неужели и ты веришь, что Павлуша мой мог украсть?
– Нет, я не верю! – твердо сказала Анна. – Не верю, потому что я люблю и уважаю тебя, Татьяна, потому что не могу и допустить мысли, чтобы выбрала себе в мужья человека, способного стать вором. Другая женщина могла бы ошибиться, но ты, Таня, я тебя знаю, ты совсем другой человек, ты шла замуж не по страсти, а по расчету, и, можно сказать, по расчету твоего благородного разума. Ты не могла бы увлечься подлецом. Это могу скорее сделать я, потому что имею (я сама сознаю) порывистую, страстную натуру. Я бы, пожалуй, могла закрыть глаза… порыв мой мог бы ослепить меня, но ты нет. Но скажи мне одно тогда, Таня, что же это такое?
– Я говорю тебе! – горячо вскинулась Татьяна Николаевна. – Я говорю же, что он нашел эти деньги под лавкой в вагоне.
– Но зачем же он не отдал их тотчас же жандарму на станции?
– Он хотел принести мне, хотел порадовать меня находкой, от которой он должен был иметь третью часть! Я сама укоряла его за это, а он улыбался. Под конец я уговорила его идти на вокзал и передать деньги, но в это самое время и пришли арестовать его. О! Аня, голубушка моя, что я пережила в эти минуты!
– Воображаю! – тихо и сочувственно сказала Анна, а в голове ее все продолжал вертеться вопрос: «Отчего он тотчас же не отдал деньги жандарму?… Отчего?»
И как холодная, ядовитая змея в душу ее начинало заползать подозрение. Она боролась с этой змеей, она отталкивала ее с ужасом, но гадина отступала только на миг, а потом опять и опять продолжала свои попытки завладеть ее душой.
Снова сестры замолчали, снова в комнате сделалось так тихо, что слышен был шум листьев на соседних кустах и деревьях.
Вместе с ним резвые оклики детей врывались в комнату.
Старший лепетал что-то про отца, про этот ужасный случай его ареста, передавая свои впечатления вновь нанятой няньке.
Слышны были и ее расспросы, тихие, лукавые, и опять лепет мальчика.
– Папу он… взял… так за плечо.
– Анна, – простонала Краева, – мне это раздирает душу. Скажи ему, чтобы он не говорил этого.
Анна вышла исполнить просьбу сестры.
От волнения прекрасное лицо ее было покрыто пятнами. Мысли ее мешались. Она только что сказала сестре, что верит в его невиновность, но теперь, во второй раз не могла бы повторить этого. Зачем он не отдал?
Да и кто же поверит в его невиновность после этого?
Всякий щепетильный человек поступил бы так, как велит закон, но раз этот закон переступлен, то, вероятно, не без умысла, а она, Таня, слепо верит мужу, она не допускает и мысли даже, что он мог скрыть от нее подлинные обстоятельства.
А в это надо верить. Надо верить в то, что Татьяна тут не участвует.
И когда даже и этот вопрос стал ребром перед Анной, она содрогнулась.
«Ну уж это чересчур! В Тане я не смею сомневаться. Он еще может быть негодяем, но Таня… нет. Если уж до этого дошли сомнения, то им не будет и границ».
И Анна поспешила вернуться к сестре, лаской и поцелуем старалась загладить то, что она на минуту в ней усомнилась.
И чем больше глядела Анна на сестру, чем больше она слушала ее, тем тверже приходила к заключению, что она не может быть тут участницей и что самое большее – она жертва обмана.
Его тайна
Оставшись один по уходе Смельского, Шилов вернулся в кабинет и, облокотясь на стол, задумался.
Яркие лучи солнечного дня, проникая сверху сквозь красные стекла мозаичного окна, отбрасывали на его голову «кровавое» пятно, и дьявольски прекрасная, с торчащими вверх усами, с клинообразной бородкой и мрачными глазами голова эта выглядела устрашающе. Веки этой задумчиво подпертой кулаком головы были опущены вниз, на бледном лице не двигался ни один мускул, как у мраморного изваяния. Только кривая ироничная улыбка застыла на нем в складке губ.
Перед Шиловым одно за другим проходила целая вереница воспоминаний.
Улыбка эта или, вернее сказать, застывшая усмешка по характеру своему вполне соответствовала им. В тот день, когда он получил из банка сто тысяч, он попросил у казначея дать ему несколько билетов процентных бумаг, что тот и исполнил.
Подслеповатый старичок, в крупных золотых очках, просто-напросто был усовершенствованная машинка для выдачи и принятия денег; он не замечал, конечно, что рука, украшенная дорогими кольцами и принимавшая деньги, немного дрожала и лицо дьяволоподобного красавца было как-то особенно бледно.
Он не замечал, да если бы и заметил, то какое ему дело! Формальности все соблюдены, а в правилах насчет дрожания руки нет никакого разъяснения.
Он заметил только одно, что рука эта была очень холеная, очень белая и красивая, с чудными ногтями и еще более чудным изумрудом на мизинце, а владелец всего этого был мужчина хоть куда.
В уме кассира мелькнула мысль: как должны обожать этого красавца женщины известного сорта и как весело ему, должно быть, живется, имея возможность класть в карман такие крупные суммы, тогда как он, кассир, весь век свой просидевший в этой будке около миллионов, дома вовсе не чувствует себя богатым.
Выйдя из банка, Шилов сел на извозчика и поехал на Александровский рынок.
Тут, зайдя в одну из лавочек, он стал выбирать очень странные детали костюма.
Это были кумачовая красная рубаха, смазные сапоги, фуражка, кафтан и кушак.
Получив это, он велел извозчику ехать на городскую окраину.
День был необыкновенно жаркий.
Усердно ремонтируемый Петербург весь был окутан сплошным облаком пыли, так что после получасовой езды уже начинало теснить грудь и дыхание делалось затруднительным.
В такую пору в Петербурге вовсе нет воздуха, а есть только одни запахи, соответствующие тому торговому заведению, мимо которого вы проходите.
Казалось, зачем такой изящный господин, каким был Шилов, мог забраться на грязную пыльную окраину, где и эти запахи, и строения, и народ – все соединилось в одну картину убожества, бедноты и грязи?
Но у Шилова было дело, и большое дело.
Проехав несколько построек, он остановился у одной из них, где над полуразвалившимися дверями криво висела вывеска: «Парикмахер». Сюда-то он и зашел, отворив дверь с очень гулким звонком, который долго еще болтался и звенел без всякой надобности уже в то время, когда из-за перегородки вышел грязный старый грек в засаленной визитке и объявил, что заказ готов.
Затем он вернулся за перегородку и тотчас же вынес оттуда парик с длинными темно-русыми волосами, цвет которых был немного темнее волос бороды и усов Шилова.
Заказчик обнаружил тут же коротенькую привязную бороду с усами. Шилов примерил все это перед обсиженным мухами и расколотым зеркалом и, видимо, остался очень доволен.
Он превратился в мужика, правда немного белолицего, но зато очень типичного. Тут же грек подал ему и какую-то коробочку, говоря:
– А вот вам и цвет лица! Хорошо я исполнил, что вы приказали… только опахните лицо пуховкой, и у вас лицо самое мужичье будет, а вот это гольдкрем, помажьтесь им, оботритесь – и следа не будет.
Шилов бросил греку крупную ассигнацию и, велев завернуть все это, вышел из магазина, не направо – по направлению к городу, а налево – к заставе.
Он шел пешком, неся в руках сверток. Вот он миновал заставу, вот пошел по шоссе, возбуждая своим изящным костюмом удивление у прохожих.
Прошел до первого верстового столба, свернул на проселок и чуть не побежал по направлению к видневшемуся невдалеке леску.
Этот последний представлял из себя совершенно правильный четырехугольник, одной стороной обращенный к полотну железной дороги, а другой – к шоссе.
Он вошел туда осторожно, озираясь, и, выбрав наиболее глухое и удобное местечко, стал переодеваться.
Откуда-то у него явился засаленный парусиновый мешок, куда он сложил свой изящный наряд: рубашку с галстуком и костюм с шляпой и перчатками, а сам облачился в одеяние, купленное на рынке.
Через несколько минут из леска вышел загорелый мужик со свежесрезанной дубиной, в котором никто бы не мог, конечно, узнать того барина, который немного времени назад крался сюда, озираясь, как преследуемый вор.
Мужик был довольно франтоватый, но все-таки мужик, как есть, с мешком за плечами и дорожной палкой.
Он сторонкой, идя по полотну железной дороги, вскоре добрался до вокзала и смешался с толпой третьего класса около кассы, где уже выдавали билеты.
Затем тот же мужик показался в вагоне, где было довольно пусто, потому что уже вся служебная публика проехала и оставались одни запоздавшие.
В углу громко разговаривали какие-то купцы с красными лицами, видно только что переместившиеся в вагон из какого-нибудь трактира, где сильно подвыпили.
Мужик притворился тоже пьяным и, сев на лавку, стал дремать, нахлобучив на самый нос козырек фуражки.
Вот вошел какой-то господин и сел в купе напротив него.
Господин, видимо чиновник, судя по портфелю, был не из важных чинов и еще менее важного склада.
Бедность сквозила в каждой складке его одежды и в каждой черте изнуренного лица.
Он, видимо, очень устал на службе, может быть, вышел последним и теперь спешил на дачу в семью съесть свой холодный обед вместо ужина.
Поезд тронулся.
Мужик клевал носом, но если бы кто пристальнее заглянул в это декорированное и раскрашенное лицо, тот с ужасом отшатнулся бы – так сверкали тревожные глаза его.
И действительно, Шилов готовился к очень решительному шагу.
Вот прошел обер-кондуктор, простриг его билет и ушел дальше вместе с кондуктором, по обычаю крепко хлопнув дверью.
Парень совсем опустил голову и мотался из стороны в сторону, являя из себя жаждущего уснуть пьяницу.
Вот он нагнулся, потому что уронил мешок, и одновременно рука его подложила что-то под лавку соседа. Это был великолепный сафьяновый бумажник с короной и вензелем. Затем парня уже совсем развезло, он лег на свой мешок и заснул.
Сосед, случайно задев ногой какой-то предмет, поднял его и, вздрогнув от неожиданности, огляделся вокруг.
Купцы все шумно разглагольствовали, пьяный парень сзади уже спал крепким сном.
Бумажник исчез в кармане соседа.
Мужик приподнял тихонько козырек фуражки и пристально оглядел спину, плечи и костюм соседа.
На лице его изображалась радость удачи.
Он тотчас же опять нахлобучил картуз и снова притворился спящим.
Поезд громыхал.
С обоих боков его мелькали, вальсируя, маленькие перелески, с шумом проносились мосты и будки стрелочников.
Но вот поезд замедлил ход.
Станция.
Сосед не шевелился.
Ему не тут, значит, надо было выходить.
Не шевелился и парень.
До второй станции расстояние было самое коротенькое.
Ехали не больше трех минут.
Чиновник с портфелем сложил газету, которую читал, впрочем, как заметил мужичок, более показывая вид, что читает, и встал.
Мужичок тоже, кряхтя, зашевелился, взял свой мешок, палку и пошел за чиновником.
Была минута! Ужасная минута. Он увидел, что чиновник колеблется: отдать ли находку жандарму или не отдать.
И – о радость! Он прошел. Он сошел с дебаркадера, он идет по аллее к дачам.
Мужичок издали следует за ним, ковыляя неровной походкой…
Вот он вошел в дачу на задней улице, вот вышла к нему навстречу жена и спрашивает, отчего он сегодня так поздно.
Дело сделано!
Мужичок берет влево к парку и идет шатающейся походкой мимо дачи.
Вот он вошел в парк, в самую глубь его, сел на траву, и началось обратное переодевание.
Через несколько минут это был тот же Шилов, элегантный красавец, изящный управляющий графа Сламоты.
Дело сделано!..
Трудный и шаткий план удался как нельзя лучше.
В бумажнике были только билеты… пять билетов по тысяче и несколько писем, карточек и квитанций…
Но если бы чиновник заявил жандарму о находке и составлен был протокол…
О! Он, Шилов, тогда вывернулся бы таким образом: он сказал бы, что случайно, ища одного нужного человека, проходил по третьему классу и обронил бумажник, в котором облигации лежали отдельно от других денег. Это была бы, конечно, неудача, но все-таки она ничуть не отразилась бы на нем.
Впоследствии только надо было прибегнуть к помощи какой-нибудь более удачно придуманной штуки.
И он прибегнул, он непременно нашел бы, изобрел бы такую штуку, может быть на сумму еще большую, потому что ему надоело быть управляющим у этого скряги. Надоело иметь дело с сотнями тысяч, а самому нуждаться в сотнях рублей.
Но теперь все удалось как нельзя лучше!
Остается положить только один штрих для воссоздания полной картины нападения и ограбления.
Шилов вынул вновь купленный нож, тот самый, которым срезал палку в роще около заставы, и нанес себе несколько соответствующих и умно рассчитанных ран.
Вот что вспомнил Шилов, сидя теперь в кабинете, и над чем кривилась его дьявольская усмешка.
Он был доволен своей удачей и издевался над той кутерьмой, которую он затеял этим делом.
Правда, ему немного неприятно было сознавать, что все это, судя по словам Сламоты, сказанным ему о передаче ему крупной части наследства, было сделано почти напрасно, но мало ли какие перемены ждут человека впереди, а эти денежки, по крайней мере, не убегут от него уже никуда, и никто в мире не откроет их местопребывания, точно так же и того костюма крестьянина, который он вместе с париком зарыл под сосною в парке.
Хороший человек
Расставшись с Анной, Смельский задумчиво направился в сторону сламотовского дома.
На душе его было смутно.
Анна верит в невиновность своей сестры, она увлечена ею и способна даже распространить эту веру до невиновности Краева включительно, но он после беседы с Шиловым и теперь, здраво и холодно обсуждая это дело как защитник, не находит ни одного мотива, к которому можно бы было прицепиться.
Она говорит о смягчении, но это зависит в таком случае гораздо больше от самого обвиняемого, чем от его поверенного.
Если он принесет чистосердечное раскаяние, то участь его будет смягчена, если же нет, то она будет преследуема двойной карой.
Что тут может поделать поверенный, да, наконец, он вовсе не из тех, которые глядят на свою профессию, как на фокусничество софизмами и силой красноречия.
Там, где и то и другое является в своем применении безнравственностью, он не хочет пользоваться ими.
«Даже для Анны?» – задал он себе вопрос и тотчас же в глубине души услышал твердый и решительный ответ: «Даже и для нее».
Но ведь он обещал ей? Конечно, он будет защитником этого Краева, но только официально, а не по душе и глубокому внутреннему убеждению.
Что можно сказать в защиту человека, пойманного с поличным. Представить мотивы? Но какие? Бедность? Горькое положение семьи?… Ни того ни другого в таком крайнем и остром смысле, очевидно, не было.
Легкомыслие, затянувшее его в шайку? Но это один из самых слабых пунктов для опоры защиты.
Смельский кусал губы и шел по парку так быстро, словно вот-вот собирался броситься бежать от какого-то невидимого преследователя.
Он не заметил, как очутился в цветнике перед каменными палатами сламотинской резиденции.
Он не заметил и того, что с террасы на него пристально глядел какой-то благообразный старик; он свернул в боковой подъезд, ведущий в помещение Шилова.
Ему хотелось еще раз переговорить с ним об этом деле, как будто именно у него-то он и мог получить разрешение своих сомнений. И странно, теперь, идя по лестнице, ему уже не казалось удивительным желание Анны познакомиться с Шиловым. Ему даже как бы хотелось этого, потому что он уверен был, что Шилов своей здоровой и сильной логикой заставит ее согласиться, что ради таких людей, как Краев и его жена, не стоит распинаться.
Подойдя к дверям, он постучался.
Шилов вздрогнул, поднял голову и, как человек, очнувшийся от глубокого сна, быстро провел рукою по лицу.
Смельский вошел.
Увидя его, Шилов немного изменился в лице, но тотчас же овладел собой и улыбнулся своей обычной, немного кривой, умной и едкой улыбкой.
– Ну что, был там?
– Был.
– Что там делается? Ты не поверишь, как на меня неприятно действует вся эта история.
– Еще бы! – опускаясь в кресло, сказал Смельский. – А на меня-то, представь… Моя невеста и слышать не хочет, чтобы ее сестра могла быть соучастницей мужа. Она бы, по идеальности своей, и в преступность самого Краева не поверила, да тут ей мешает здравый рассудок, невольно выводящий заключения из самого факта.
Шилов опять улыбнулся:
– Женщины любят иногда делать из мошенников героев, это их особенность…
– Ну, не из мошенников, а из преступников, – поправил Смельский. – Мошенник всегда грязен, а преступник бывает иногда и величествен, смотря каково качество и причины преступления…
– Нет, знаешь, – сказал Шилов, – я встречал женщин, которые прямо имеют тяготение к людям с нечистой нравственностью.
Смельский холодно взглянул на приятеля:
– Надеюсь, ты не причисляешь к ним мою невесту?
– О! Конечно, по принципу, потому что это твоя невеста, я не причисляю ее, но не будь она твоя невеста, я, пожалуй, и для нее не сделал бы исключения. Да и зачем насильно выдергивать исключения, когда существует общее правило.
– Это твой личный взгляд, Дмитрий, – сказал Смельский, – и, право, тоже собственной фабрикации, а вышел он, вероятно, далеко не из хороших встреч и знакомств с женщинами.
– Может быть. Одному встречаются в жизни все идеалы, а другим – экземпляры самые простые и реальные.
В голосе Шилова прозвучала уже явная насмешка.
Недобро взглянул было на него Смельский, но в это время дверь беззвучно отворилась и на пороге ее показался тот самый старик, которого он встретил, идя на дачу Краевых.
Теперь не было сомнения, что это сам граф Сламота.
Смельский встал.
В ответ на представление его Шиловым граф ответил любезной, доброй улыбкой и дольше, чем следует, продержал его руку в своей, как бы желая, чтобы рекомендуемый подольше постоял перед ним вблизи, дав возможность его старческим глазам разглядеть себя хорошенько.
Это нужно было графу, потому что фамилия Смельского была уже ему не совсем чужда. Ее произнесла ему та девушка, которая приехала на злополучную дачу ухаживать за больной сестрой. Сламота опустился в ловко придвинутое ему Шиловым кресло и несколько мгновений, все пристально глядя на молодого человека, не говорил ни слова, быстро и внимательно изучая его черты.
– Вы уже были там, на даче? – наконец спросил он с тою же грустной и мягкой улыбкой.
Смельский удивился сперва, почему он знает, что он находится в связи с семьею преступника, но потом понял, что это передал графу Шилов, и поспешил ответить утвердительно. Гораздо более оказался удивленным сам Шилов.
Он быстро взглянул на графа, потом опустил голову и старался придумать, почему старик знает фамилию Смельского и все с ним связанное?
– Какое ужасное несчастье! – продолжал граф. – Как молодые люди гибнут из-за пустяков. Какая-нибудь гнусная шайка закоренелых и опытных мошенников затянула этого несчастного Краева, вот он и погиб, и заметьте, он один погиб, а все остальные как в воду канули. Конечно, их и следов тут нет. Они, негодяи, где-нибудь за границей, я даже думаю… знаете что? Может ли он, этот несчастный, назвать их имена, вернее всего, что нет. Он может их и совсем не знать, или знает так мало, что указания его будут вовсе не ценны для правосудия.
Смельский согласился с этим и в то же время почувствовал, что слова этого старика, такие мягкие, такие гуманные и рассудительные, как будто и для него самого открыли новую точку взгляда на это дело.
«Несчастный» и «затянутый в шайку» человек так и предстал в его воображении.
Он видел его слабым, горько кающимся в своем поступке, на который и в самом деле, быть может, вынудила его нужда.
Если бы Смельский теперь стоял за адвокатским пультом, быть может, он и нашел бы в сердце своем то чувство, которое вселилось бы и в сердца судей.
И одновременно он подумал: славный человек этот Сламота, вот бы все были такие.
– А вас, может быть, удивит, – продолжал старик, – почему я сразу, как увидел вас, и заговорил про это дело. Я, батюшка, знаю все, я познакомился с вашей невестой.
Шилов поднял голову и насторожился, но зато Смельский ничуть не был удивлен. Анна ведь так недавно с таким восторгом говорила об этом старике.
Он разделял теперь ее чувство.
– Я сегодня, только час тому назад, от больной, – говорил Сламота. – Ваша невеста очень хорошо сделала, что приехала помочь бедной женщине. И знаете что?… – вдруг быстрым движением повернулся он к Шилову: – Вы, Дмитрий Александрович, совсем не правы в ваших предположениях; в этом уж поверьте мне, старику, я больше вашего видел и света, и людей, и всяких преступников и сообщников. Мое мнение, что госпожа Краева не только не участница этого преступления, но скорее жертва его. Что же касается до того, что она ничего не знала, в этом всем я закладываю голову. Одно мне не нравится, ее выходка с вами.
Смельский удивленно посмотрел на графа и Шилова.
«Какая выходка?» – хотел спросить он, но в это время Сламота продолжал:
– Но вы не должны на нее сердиться. Весьма возможно, что бедняжка говорила это в умоисступлении, чему доказательством и служит ее теперешняя болезнь… Я говорил насчет этого с докторами, и все они согласны со мной.
– Да я ничуть и не претендую на эту злополучную даму! – силясь улыбнуться, ответил Шилов и обратился к Смельскому как бы с пояснением: – Я лежу, болен… вдруг влетает эта самая госпожа Краева… Граф тоже был тут. Влетает и говорит мне, что я сам себя обокрал и чуть не убил… Это могло бы, понимаешь, вызвать хохот, если бы бедняжка, сказав фразу, не упала в обморок.
Смельский тихо покачал головой, граф задумчиво вертел в руках безделушку с письменного стола, и лицо его было полно какой-то мрачной таинственной думы.
Воспоминание об этом случае и так было живо в памяти старика, а теперь он припомнился ему во всех деталях: и взор, и жест молодой женщины, и даже выражение лица Шилова.
Этот факт был единственным мрачным пятном на всей этой довольно несложной истории.
Наконец Сламота поднял голову и первый нарушил царившее молчание, спросив у Смельского, будет ли он защищать обвиняемого, и прибавил, что мадемуазель Анна говорила ему, что будет.
– Да, я попробую, – начал Смельский, – но знаете, граф, тут такое дело, в котором мало поможет чья-либо защита… Улики главное.
– Конечно! – сказал Сламота, задумчиво продолжая вертеть безделушку. – Но и смягчить участь преступника…
И он почти слово в слово повторил фразу Анны, словно после разговора с ней выучил наизусть. В это время в дверь постучался кто-то, и, выйдя на этот стук, Шилов объявил, что ему надо идти в восточную часть парка для наблюдения за сбором валежника и бурелома.
Уходя, он просил графа оказать гостеприимство его другу, на что Сламота ответил утвердительным кивком и своей обычной доброй улыбкой.
Смельский с первого взгляда на этого старика почти полюбил его. А теперь, когда они вслед за Шиловым шли по роскошным покоям палаццо, какое-то новое чувство примешалось к прежнему.
Граф как бы получил новый оттенок величественности и таинственности среди этой европейской роскоши зал и гостиных, по которым они проходили и в которых он обитал – одинокий и замкнутый в себе.
Смельский вспомнил теперь, что это тот самый Сламота, которого путешествия по свету описывались в журналах, наполняя ужасом душу читателя от сознания тех опасностей, в которые несчетные количества раз попадал отважный путешественник.
А его книга? Это великолепное описание флоры Южной Америки!
Старик шел немного впереди быстрой, бойкой походкой.
Он вел Смельского в свой кабинет, где, очевидно, хотел продолжить начатую беседу.
Пройдя анфиладу комнат, они остановились у дубовой двери замечательной резьбы. Она отворилась посредством нажатия кнопки.
Глазам Смельского представилась громадная комната, освещенная сверху; с боков ее было по две гигантские стеклянные двери на балконы, тоже громадные и уставленные цветами и зеленью.
Вид с этих балконов и справа и слева был так великолепен, что невольно притягивал к себе взоры. Широкое поле виднелось справа с рассеянными по нему хуторами, избами, дачами; где-то далеко белым дымком пробегал поезд.
Левый балкон глядел в таинственную чащу старинного, но опрятно содержащегося парка. В глубине его мелькали скамейки, прогалины, аллеи. Виднелся фонтан и несколько мраморных статуй, его окружающих.
Зеленые великаны кивали перед балконом своими верхушечными ветвями и шептались, словно совещаясь между собою или почтительно приветствуя владельца.
А сам кабинет был прост до чрезвычайности, так прост, как это бывает только у людей, пресыщенных роскошью обстановки и считающих ее делом пустой рисовки, оставляя для себя простоту и те удобства, которых требует их личный вкус.
В дальнем углу стояла простая кровать; такой маленькой и жалкой казалась она на мозаичном полу этой громадной комнаты.
Но зато посередине ее много места занимал стол, тоже простой, дубовый, заваленный книгами, брошюрами; над ним опускалась лампа, он был закапан чернилами.
По стенам виднелось несколько стульев очень несложной наружности, но зато кресло около стола, с какой-то машиной под сиденьем, дающей возможность, не двигая его, придать какое угодно положение, было в некоторой степени достопримечательностью этого оригинального уголка. Бегло оглядев все это, Смельский прошел за стариком на балкон, выходящий в поле, и тут Сламота усадил его в низенькое плетеное кресло и сам сел в такое же, у самой балюстрады.
– Я хочу поговорить с вами, Смельский! – прямо начал старик, задумчиво глянув вдаль. – Я сам не знаю почему, но это несчастное семейство возбуждает во мне самое живое участие… Оно должно быть близко и вам, потому что ваша прелестная невеста приходится сестрою госпоже Краевой. Вы должны что-нибудь сделать. Сперва я хотел нанять своего адвоката, но теперь это не нужно, коль скоро появились вы… Вы хотя и молодой человек, но ваше имя уже известно. Взяв на себя эту защиту, вы много можете сделать доброго.
– Я уже это решил, граф.
– Знаю, знаю, потому что это решение вынесла раньше ваша невеста, которая, зная вас, конечно, может и говорить за вас… но вот дело в чем… вы не должны обижаться… Если вам нужны деньги на расходы, доставьте удовольствие взять их у меня, а не где-либо в другом источнике.
– Благодарю вас, граф, мне не нужно! – поспешил ответить Смельский. – У меня еще есть несколько… еще осталось от гонорара за последнее дело… Вы, может быть, даже слышали о нем… Гонорар был очень достаточен…




