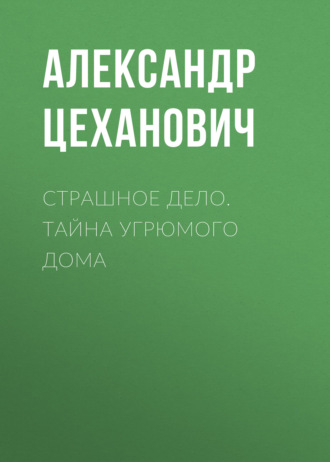
Александр Цеханович
Страшное дело. Тайна угрюмого дома
От себя никуда не уйдешь
С этого последнего свидания Анна совсем изменилась. Она стала задумчива и видимо избегала встреч и задушевных разговоров со Смельским.
Казалось, какая-то тяжелая дума лежала гнетом на ее мозгу.
Несколько раз Татьяна Николаевна, уже начавшая оправляться настолько, что могла выходить в сад, замечала ее таинственные долгие отлучки.
Несколько раз Смельский приходил к ней спрашивать, где Анна, потом отправлялся искать ее и не находил.
За это время он переехал из дома Сламоты, отговариваясь желанием быть ближе к даче, где жила его невеста, что старик Сламота нашел вполне естественным.
Смельский действительно поселился через дачу от Краевых у какой-то вдовы, охотно отдавшей ему комнату со столом.
Тут Смельский весь предался делу, требующему его защиты. Он беспрестанно бывал в городе, то видясь с заключенным, то роясь в бумажных деталях дела, и в конце концов у него сложился определенный взгляд на дело и более или менее определенное мнение; с Шиловым за это время они совсем не виделись, но стали реже видеться и с Анной. Ее все не было дома.
Где же она?…
Смельский знал, что у нее нет тут не только родных, у которых она могла проводить время, но и знакомых.
Татьяна Николаевна тоже удивлялась, но она, впрочем, была занята другою мыслью. Она собиралась с силами, чтобы поехать к мужу с детьми.
Сламота, посещавший ее каждый день, отговаривал от этого, говоря, что и ему и себе она только расстроит нервы, разорвет душу этой страшной драмой свидания, что лучше обождать суда и тогда уже или проститься с мужем, или приветствовать его уже прощенного.
– Проститься?! – воскликнула Татьяна Николаевна. – О! Вы меня не знаете, граф! Если Павла обвинят, я пойду за ним и в ссылку, и в каторгу. Суд людской мне не пример. Моя душа, моя любовь судит его, и сердце говорит мне, что он невиновен. Я видела сон, граф!..
– Да! Вы мне рассказывали этот сон! – безнадежно махнул рукой старик. – Сон сном, Татьяна Николаевна, а действительность действительностью.
И он опустил свою седую голову, пожал плечами и задумался.
…Анна кралась в парк.
Именно кралась, а не шла, так не идут люди с чистою совестью, на честное, открытое дело, так крадется вор к добыче, изменница-жена на свидание, блудливая кошка за лакомым куском.
Был вечер, поздний вечер.
Уже смеркалось, и в права свои вступила яркая полная луна конца июля.
В парке было бы темно как в погребе, если бы лиловые полосы света не перерезывали его в прогалинах и тех местах, где ветки деревьев редели.
Глухо шумела черная листва его, страшно было среди сумрака аллей.
Вот скамейка! Не из тех скамеек, мимо которых надо идти широкой дорогой до дому графа, она стоит в глубине, в глуши, и редко кто знает о ее существовании.
Она полуразрушена, это памятник давних времен, про который ведали, может быть, только влюбленные парочки времен прадедов нынешнего Сламоты.
Тут тишь, глушь, осока да бурьян и пахучая крапива.
Тут неопасно встретиться с тем, кто боится взора людского.
Только луна глядит на эту скамейку и серебрит ее старинный чугунный узор.
На ней сидят двое: Шилов и Анна.
Говорит Шилов, Анна молчит, но слушает внимательно, боясь проронить хоть слово.
– Я всю жизнь был одиноким, Анна, – говорит Шилов, – но всю жизнь искал друга, друга-женщину и не находил ее, хотя объездил почти весь свет. Много было разных встреч и того, что я вам не хочу высказывать, но разве хоть одна из этих встреч похожа на знакомство с вами… Жизнь моя очень напоминает рулетку, где шарик – душа моя… Кто-то бросил ее на поприще жизни, и вот он вертится, мечется, пока не станет на свой номер… Еще несколько дней назад мой шарик метался быстро, но вчера и третьего дня он был уже вблизи своего фатального номера, а сегодня, теперь он стал на него… Партия окончена, я выиграл… выиграл свое счастье, выиграл тебя, Анна!..
Шилов, как бы в изнеможении от наплыва чувств, закрыл лицо руками и опустил голову.
Анна глядела на него, бледная, как тот свет, который изливала на нее луна. Страшно было видеть это помертвевшее человеческое лицо и сознавать, что это не мертвец покинул могилу, а еще живущий человек борется с душой своей и гибнет в хаосе ее разлада.
Вдруг она протянула руку, уронила ее на плечо Шилова, потом повернулась, опустила вторую руку на его плечо и припала лицом.
Слышались только рыдания, страшные, мучительные рыдания.
Анна обессилела от борьбы со своими чувствами, она и теперь не понимала, зачем и почему она делает это.
Она только чувствовала, что иначе не может сделать, что в ней действует какая-то странная сила, могучая и неумолимая, что бороться с нею так же невозможно, как попытаться бежать от самого себя.
Если это любовь! То какая она жгучая, страшная и сильная! Ведь она противопоставила ей все, что могла, она боролась с нею, как зверобой в пустынной глуши борется с яростным зверем.
Но зверь победил человека. Страсть, внушенная ей этим человеком, вспыхнула как порох и была так же ужасна по своей разрушительной силе.
Слов больше не было слышно, только рыдания, поцелуи и стон, словно от жгучей боли или бесконечного отчаяния.
Несколько минут спустя Шилов и Анна шли по парку безмолвной парой.
Они дошли до перекрестка, ей надо было идти налево, ему направо.
– Поцелуй меня, Анна, еще раз, – глухо сказал он.
Анна вздрогнула, обхватила его шею руками и не раз, а без счету поцеловала, опять со стоном и каким-то нервическим припадком рыдания.
– До завтра, – сказал Шилов.
Анна ничего не сказала, но утвердительно кивнула головой.
Улики против кого-то
На другой день, утром, Анна была больна.
У нее болела голова, и она просила няню сказать это Смельскому, когда увидела его входящим в калитку дачи.
Когда женщина сообщила ему это, Смельский побледнел. Он не видел Анну уже два дня, а теперь, на третий, она отговаривается принять его болезнью. Что с ней? Если она больна, то кому и быть около нее, если не ему? Была минута, когда он хотел было насильно пройти к Анне и спросить ее о причине нежелания видеть его да, кстати, узнать, чем больна она. Может быть, что-нибудь серьезное? Ведь ему же это ближе и важнее, чем кому-либо.
Но он не сделал этого, он повернулся и ушел, сказав, что зайдет вечером, и просил передать барышне, что у него есть важные сообщения.
Он уехал в город вдвойне взволнованный и болезнью Анны, и новым оборотом, какое приняло сламотовское дело.
Как уже мы рассказывали, Сламота сделал находку в своем парке.
Когда для обозрения таинственной одежды был призван и Смельский, он просто опешил.
Это была по всем приметам та одежда, которая была надета на крестьянине, ехавшем в одном вагоне с Краевым.
– Ее надо предъявить обвиняемому, – быстро сказал он и передал во всех подробностях свое первое свидание с Краевым.
Граф покачал головой.
Уж очень все это странно и, что ни день, делается все необъяснимее.
Одежда была в тот же день отправлена к следователю, и на другой день утром Смельский поехал узнать о результатах предъявления.
Зайдя к камеру следователя, он получил сообщение, что обвиняемый узнал одежду и признал ее той самой, которая была на ехавшем с ним мужике.
– Это большой шаг, – добавил следователь, – теперь только остается получить от обвиняемого признание насчет того обстоятельства, кто этот парень, как его зовут, потому что верить в то, что он просто ехал с ним в вагоне, – глупо, сам факт говорит за то, что это один из сообщников ограбления, быть может, даже самый активный, который прибегнул к переодеванию и даже гримировке, ведь в вещах найден и парик…
Из этого переодевания видно, что субъект принадлежит к классу интеллигентов, так же как и арестованный, и из этого в свою очередь вытекает обстоятельство, подтверждающее показание потерпевшего Шилова, что на него напал не один только Краев, но несколько человек.
Вывод был отчасти логичен, и Смельский невольно согласился с ним, хотя другое сомнение пришло ему на ум.
Зачем было Краеву, если он решился во всем запираться, описывать наружность парня и зачем признавать так просто и бестрепетно одежду?
Сообщив это свое соображение следователю, он, однако, не поколебал его первоначального образа мыслей.
В том виде, в каком дело предстало теперь, вследствие этой случайной находки, понимать его было гораздо проще. Да и в самом деле – зачем нарочно искать осложнений, когда существуют факты, сами за себя говорящие. Зайдя к Краеву, Смельский застал его очень взволнованным.
Заключенный ходил из угла в угол быстрыми и неровными шагами.
Увидев защитника, он так и кинулся к нему:
– Я узнал, Андрей Иванович! Да, да, это его одежда, в этой самой одежде парень сидел сзади меня в вагоне, но какое отношение имеет он к этому делу? Говорят, эту одежду вырыли где-то в сламотовском парке?
Смельский рассказал все известные ему обстоятельства, при которых Сламота извлек одежду.
Краев пришел еще в большее волнение:
– Этот парень шел за мной всю дорогу, но только он был сильно пьян и шатался из стороны в сторону.
Краев говорил это взволнованным голосом, глаза его блестели, казалось, он схватился за это новое обстоятельство как утопающий за соломинку, но это была именно соломинка, не оказывающая никакой пользы.
Вернувшись в Сламотовку, Смельский сразу направился к даче Краевых.
Анны не было дома.
Известие это еще больше поразило его, чем утреннее, когда нянька сказала ему, что барышня больна и принять его не может. Чрезвычайно расстроенный, вернулся он к себе на дачу, вошел в комнату, и первое, что бросилось ему в глаза, было письмо.
Почерк Анны.
Он дрожащими руками разорвал конверт и, прочитав, выронил письмо, ладонями закрыл лицо и долго оставался так, в этой позе горя и отчаяния.
В письме заключалось следующее:
«Простите, Смельский, что я обнадежила вас возможностью брака со мною, на самом деле это невозможно. Забудьте обо мне, прощайте! Не ищите также со мною встречи и объяснения, я всячески хотела бы уклониться и от того, и от другого, потому что это письмо говорит все, что надо, и, надеюсь, не требует никакого возражения».
Смельский наконец очнулся от своего столбняка, очнулся потому, что перед ним вдруг мелькнула адски улыбающаяся физиономия Шилова, и так ясно, так явно, что он на минуту усомнился даже, было ли это обманом зрения или въяве.
И вслед за этим странным явлением словно повязка спала с его глаз.
– Это его штука! – прошептал он и прибавил хриплым от бешенства голосом: – Ну, хорошо же, даром я не отдам ее тебе.
В глуши парка
Опять ночь осенила сламотовский парк, и опять на заброшенной скамье послышался шепот и поцелуи.
Чем же приворожил к себе Шилов Анну? Это одна из тайн любви, в которую не в силах проникнуть людской разум, так же как не проникает он и в другие великие тайны мирозданья.
На свете или, вернее сказать, в хронике его было много таких фактов.
Женщина отталкивает достойного и любит негодяя, мужчина покидает кроткую, горячо преданную жену, чтобы отдаться ласкам корыстолюбивой куртизанки.
Но в отношениях Анны к Шилову, в основе их, пожалуй, и не лежало любви.
Это было пылкое влечение, страсть, такие же таинственные по своему психологическому происхождению, как таинственны были страшные глаза Шилова. Доказанное и испытанное магнетическое свойство их ощутила на себе и Анна.
Ей казалось, что глаза эти, только одни они и притягивают ее к этому человеку, поселяя в ее душе безумные порывы, быть может послушные приказанию того таинственного, бессловесного веленья, которое для души понятнее самих слов.
Анна чувствовала, что с ней творится что-то неладное, что ее душа ноет, что ее тело слабеет, точно в нем убавляется кровь, а с нею вместе и жизненная сила. И чем слабее делается она, тем большую власть начинает приобретать над нею взгляд Шилова. Она была не в своей власти, а всецело в его.
Он мог теперь делать с нею что хочет, приказывать, что ему угодно, и она все выполнит, ничему не воспротивится.
Вдали от него она чувствует какую-то тревогу и ждет с нетерпением, когда смеркнется, чтобы бежать на эту скамейку, где ее ждет уже он.
Сегодня они ведут деловой разговор.
– Я не могу уехать отсюда, – говорит Шилов, – раньше окончания этого проклятого дела, но как только оно кончится, мы уедем. Я попрошу у графа отпуск, он мне, конечно, не откажет в этом, и мы поедем куда-нибудь в Италию и там обвенчаемся. Теперь тебе и мне надо только одного избегать: встреч со Смельским. Ты написала ему письмо, о котором я говорил тебе?
– Написала! – тихо и покорно ответила Анна, опуская голову.
– Когда?
– Сегодня в три часа…
– Так что он найдет его, вероятно, у себя?
– Да…
– Теперь надо быть вдвойне осторожнее, главное – помни, еще раз тебе повторяю, ты должна уклоняться от встреч.
Анна заплакала.
– Что это? – строго спросил Шилов. – Слезы? Ты, значит, не любишь меня?
– Мне страшно, Дмитрий!..
– Глупости, нервы! Разве я не мил тебе? Чего же тебе бояться? Разве ты не уверена, что и рука и грудь моя будут защищать тебя до тех пор, пока в теле моем не застынет последняя капля крови…
– Но как же я брошу сестру?
– Ты ей больше не нужна теперь!..
Анна закрыла лицо и прошептала:
– Боже! Как все это скоро совершилось!..
Шилов улыбнулся.
Если бы Анна увидела эту улыбку, она бы с ужасом побежала прочь от этого человека – столько в ней было торжествующей, холодной насмешки и так мало того чувства, в которое она в нем верила. Но она не видела ее и потому, вдруг отняв руки от лица, обняла его и припала головой к его плечу.
Шилов глядел на нее сверху вниз своими страшно моргающими глазами и, надо отдать ему справедливость, был чудно хорош в эту минуту со своими дьявольскими усами, горбатым тонким носом и откинутой на затылок и немного набок широкополой шляпой.
Это была картина, достойная кисти художника.
Лунная ночь, дебри старинного парка, старая скамья и парочка красавцев, влюбленных, в самой поэтической, в самой изящной позе.
Анна глядела в глаза Шилова и тихонько вздрагивала.
Ей было и жутко, и невыносимо приятно.
Эти глаза, казалось, поглощали ее всю, как какая-то темная таинственная пучина, полная сказочных чудес и страхов.
Она готова была просидеть так всю жизнь, в тиши, при блеске месяца, и все смотрела бы в его глаза со страстным желанием утонуть в них.
Но вот Шилов тихо и ласково отстранил ее, ему неловко было сидеть в этой позе.
Она оторвала свои глаза от него, и опять налетела на нее гроза жизни с заботами, волнениями и состраданиями к Тане.
Опять мелькнул в голове ее Краев, этот Краев, который сидит теперь в тюрьме за то, что ограбил Шилова, потом припомнились ей разговоры с сестрой про Шилова, ее ненависть к нему, ее сон, ее поступок, когда он лежал больным, и она почувствовала, что она начинает ненавидеть сестру, эта ненависть растет в ней, как ком снега, катящийся с горы.
– Нет! – сказала она вслух, доканчивая свою мысль. – Нет, я не останусь у сестры, Дмитрий! Как хочешь, я не могу там остаться.
Шилов, казалось, даже обрадовался.
– А что ж? Если не можешь, то и не надо. Уезжай тогда в Петербург хоть сейчас… если хочешь, я провожу тебя. Сперва мы остановимся в гостинице, а потом можем нанять комнату. Я буду приезжать к тебе каждый день. Это самое лучшее, что ты можешь сделать. Потому что, и в самом деле, сестра твоя, конечно, не дружески расположена ко мне, потому что я, хотя и косвенная, но все-таки причина гибели ее мужа. И там все враги мои; те, кто друзья ей, конечно, враги мне. Тут, в сущности, две стороны: одна – за обвиняемого, другая – за пострадавшего. У него, у Краева, почему-то все, а у меня никого, я был все время один, но вот судьба послала мне тебя, в миллион раз более ценную для меня, чем все эти люди, вместе взятые, и я счастлив. Но правду тебе сказать, мне было тяжело видеть тебя, продолжающую оставаться там. Я все ждал, что само чувство подскажет тебе то, что ты сейчас сказала. И так оно и случилось, ты говоришь, не хочешь идти туда? Не иди, дорогая моя! Не иди!.. По двум тропинкам, идущим в разные стороны, идти нельзя! Так ты согласна на мое предложение?
– Что?!! – дрожа всем телом, спросила Анна.
– Ехать в Петербург.
– Согласна.
Шилов вынул часы и повернул их циферблатом к месяцу.
– Половина десятого!.. В десять идет поезд. Хочешь?…
– Я на все готова, – тихо уронила Анна.
Шилов встал со скамьи:
– Пойдем!
И голос его прозвучал уже не нежно, а повелительно. В нем слышалась такая сила, такая самоуверенность, которая могла подчинить себе всякую волю.
Она подала ему руку, и они, шурша травой, пошли между стволов напрямик к дороге. Идти пришлось порядочно, так что, когда они пришли на станцию, поезд, идущий в Петербург, уже подходил к ней, давая свистки и сверкая своей трехглазой грудью.
Оригинальные путешественники наши сели в вагон, и вскоре поезд умчал их.
На станции была масса гуляющих; удивительнее всего, что тут же, в этой пестрой, расфранченной толпе молодежи, дам и мужчин был и граф Сламота в своей панаме и с бамбуковой тростью, был и Смельский, задумчиво глядевший на удалявшийся поезд, вовсе не подозревая, кого он увозил от него.
Со Сламотой, впрочем, они встретились, и, несмотря на то что молодой адвокат имел явное поползновение улизнуть, старик остановил его:
– Что с вами? Вы так страшно изменились? Здоровы вы?
Смельский пробормотал что-то похожее на «здоров», «благодарю» и, наскоро пожав руку графа, отошел от него и исчез в толпе. Сламота с удивлением поглядел ему вслед.
Он не знал, чему приписать этот растерянный вид адвоката и, главное, ту явную невежливость, которую он выказал при встрече с ним.
Но Смельскому было не до Сламоты, горе душило его.
Конечно, после этого письма он не пойдет к ней, он не будет унижаться, но что же такое? Как она могла так скоро влюбиться в этого Шилова?
Смельский явился на вокзал единственно для того, чтобы встретиться с Шиловым, у которого он был уже на квартире, но не застал дома.
Он, собственно, не мог сообразить еще, для чего ему нужен был Шилов: для того ли, чтобы затеять с ним ссору и окончить дуэлью, как он предполагал, или для того, чтобы потребовать от него откровенности, как у честного человека, насчет его отношений с Анной.
Смельский, впрочем, и то и другое недостаточно обдумал, потому что, придя на вокзал, он вдруг перерешил.
Благоразумие взяло верх над злобой и отчаянием. Он понял, что бездоказательно, по одному только подозрению, бросаться на человека не следует, надо сперва проверить факт и потом уже действовать.
И Смельский решил обождать несколько дней. В случае подтверждения его догадки он решил действовать как можно более хладнокровно и обдуманно.
С этим он и покинул вокзал, где все напоминало ему Анну, так часто, в особенности в последнее время, встречавшую его здесь.
Он почувствовал, что голова его кружится и ноги дрожат.
Он взял извозчика до дачи.
Это был седой старикашка, согнутый в три погибели и сидящий как-то боком на облучке своих дрожек. Он часто возил его и Анну от станции и к станции утром. Смельского он знал по фамилии, Анну называл барышней.
Сел в его дрожки Смельский машинально, потому что те стояли ближе всех к боковому спуску платформы, откуда он вышел, но, сев, тотчас же узнал старика.
Узнал, и неприятно ему стало, что тот везет его, потому что опять на него повеяло воспоминанием о недавнем еще, таком хорошем и счастливом времени, от которого теперь, как от рассеявшегося клуба дыма, осталась только одна изгарь. Старик уже выехал со двора станции и вдруг, повернувшись, спросил:
– А барышня разве не поедет?
– Какая барышня? – удивился Смельский.
– Да Анна Николаевна, она тут на вокзале тоже!..
– Одна?! – быстро спросил Смельский.
– Никак нет… сюда они пришли бочком из опушки парка с Дмитрием Александровичем…
Если бы молния ударила в дрожки, она не сделала бы большего переполоха.
Смельский как-то брыкнул ногами, словно судорога свела их, и, выскочив из экипажа, побежал к станции.
Старик пожал своими сутуловатыми плечами, покачал головой и, усмехнувшись, стал поворачивать лошадь назад.
Смельский в это время рыскал по дебаркадеру; он обегал его весь, заглянул даже будто нечаянно в дамскую комнату и, не найдя нигде ни Шилова, ни Анны, вернулся к извозчику.
– Ты наврал, старый болван!..
– Ей-богу нет, господин Смельский, видел я их собственными глазами… Уж кого-кого, а Дмитрия-то Александровича я за версту узнаю, слава богу, третий год он тут… А только вот что…
Старик сделал хитрое лицо.
– Вот что, спросите-ка вы у кассира, сдается мне что-то, что они уехали… как будто мелькнуло в глазах, что они на поезд сели, а только за это опять я не ручаюсь; за что не ручаюсь так уже не ручаюсь…
Смельский кинулся обратно на станцию.
Помощник кассира, выдавший билеты, запирал кассу, собираясь идти домой.
Смельский обратился к нему, стараясь придать своему голосу и наружности как можно больше хладнокровия.
– Билеты они не брали, а только что поехали в Петербург, это я сам видел… У нас ведь, знаете, халатное отношение к правилам, сказано – штраф, а и штрафы не берут, поэтому все прямо в вагон лезут, в особенности Шилов… впрочем, у него, кажется, есть карточка…
Смельский не дослушал разглагольствований кассира и пошел обратно к извозчику.
Ему он приказал ехать к даче Краевых.




