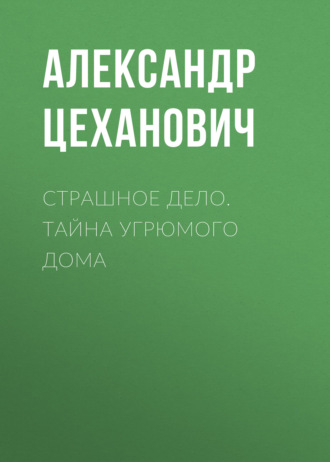
Александр Цеханович
Страшное дело. Тайна угрюмого дома
– Ну, если так… ваше дело, но, во всяком случае, вы гость не только Дмитрия Александровича, но и мой!.. Для свидания с заключенным и вообще по надобности этого дела вы можете ездить в город… Это не будет для вас стеснительно, а мне вы доставите величайшую услугу тем, что я из ваших уст смогу слышать обо всем, что будет нового в судопроизводстве относительно Краева.
Смельский поблагодарил графа.
Затем разговор перешел вообще на тему психологии преступления, где граф еще раз поразил своего собеседника обширностью познаний и оригинальностью своих взглядов.
Спустя час вернулся Шилов и застал их все еще разговаривающими на балконе.
Вечер опустился над полем и парком, тени слились и исчезли, потому что край солнца потонул за горизонтом. Несколько соловьев вдали и вблизи начали свои первые нежные трели…
Над узенькой речонкой, протекающей через парк, заколыхались волны тумана.
Шилов говорил в унисон графу, называл Краева несчастным, а насчет жены его окончательно взял свое мнение назад. Он кончил тем, что стал горячо упрашивать Смельского спасти преступника.
У заключенного
На другой же день рано утром Смельский отправился в Петербург для свидания с Краевым.
Исполнив известные формальности, необходимые для свидания с заключенным в качестве его защитника, Смельский вступил в описанную уже нами комнату с глубокой дверной нишей и квадратным оконцем наверху, украшенным железной решеткой.
Краев на этот раз не лежал, а сидел на постели, подперев голову ладонями рук, облокоченных о колени.
Тот, кто знал его перед арестом, не узнал бы теперь. Это был совсем другой человек. Так меняются черты лица у неизлечимо душевнобольных, и то после многолетнего пребывания в больнице.
Увидя входящего незнакомца и подумав, что это, верно, опять кто-нибудь явился к нему приставать с глупейшими вопросами, он откинулся на подушку и, вытянувшись во весь рост, апатично отвернулся к стене, решившись, по-видимому, перенести все, что угодно, но только не отвечать ни на один вопрос.
Это был стоицизм мученика, это была отчаянная решимость истерзанного человека, который перестал даже ощущать боль от новых истязаний.
Ему было все равно: больше одной раной на его изможденном теле или меньше.
Но зато в душе его росло и крепло другое чувство; оно одно почти и поддерживало его: это была жгучая ненависть к своим притеснителям, ненависть, пускающаяся на изобретательность для возможного хотя бы частичного отмщения.
Несчастному и в голову не приходило, что служители и исполнители закона тут ни при чем, что тут сама судьба гораздо жестокосерднее поступила с ним, чем все эти «притеснители», что для них он неопровержимо – вор и грабитель или, по крайней мере, ближайший соучастник этого преступления.
Он не мог этого понять! В его затемненном горем мозгу логические выводы исчезли, оставляя на свободе только инстинкты зверя, которые в человеке ужаснее, чем у самого вредного и злого животного.
Следователь уже занес в протокол, что заключенный отказывается наотрез от дачи каких-либо дальнейших показаний, а равно и не желает назвать имена сообщников, отрицая даже самое их существование.
Его временно оставили в покое, до дальнейшего и окончательного доследования фактической и топографической части этого дела.
Но больше всего подействовал на следователя такой факт.
При камерах у заключенных служил старичок-сторож.
Это было добродушное, немного глупое существо с виду, но много раз доказывавшее, что в его старческих глазах недаром блестит в глубине острая и словно затаенная искорка мудрости.
Он прекрасно знал свое дело, впрочем весьма несложное и состоящее всего лишь в том, чтобы разнести арестантам пищу и убрать обратно посуду.
Много лет служил он по тюремному делу. Начал службу в Литовском замке, а потом, по открытии предварительного заключения при окружном суде, был переведен сюда.
С арестантами он был очень ласков и даже нежен.
Он в эти короткие минуты подачи пищи дарил каждому из них несколько слов утешения, и таких разумных, таких мягких, которые были настоящей духовной пищей.
Руки его несли хлеб насущный, а сердце – духовные напитки и яства.
Молва об этом старике долго держалась в памяти заключенных и передавалась, как легенда, из уст в уста, когда потом он, окончательно одряхлев, перешел на житье в богадельню.
Звали его Самсоном Ивановичем.
Когда поступил Краев, Самсон Иванович в первый же принос пищи встретил нового узника такой лаской, как отец приехавшего на побывку сына.
Но в первые дни, предавшись своему отчаянию, Краев не замечал этой ласковости, как не замечал решительно ничего, что вокруг него творилось.
Но на четвертый или пятый день он заметил старика и даже перекинулся с ним несколькими словами.
– Ничего, батюшка, – уходя, сказал Самсон Иванович, – лучше, милый, кару понести за грех свой, чем тяжестью носить ее в себе до могилы, а потом и Господу представиться с этой позорной ношей. Кара грех смывает, батюшка, так-то!..
И Самсон Иванович ушел.
Удивило его только, что слова его не произвели всегдашнего впечатления, а, наоборот, будто озлили арестанта; ему показалось даже, что он ругнул его вслед.
Почесал в затылке старик и протяжно сказал сам себе:
– Та-а-а-к!..
Самсон Иванович смекнул что-то и решил проверить в следующий раз, какого сорта этот человек: обыкновенный ли арестант или, боже упаси, невинно, ошибочно заключенный. А таких за долгую его службу ему тоже приходилось видеть.
Испугался старик своей мысли и стал все думать о «новеньком» и поджидать часа, когда ужин нести надо.
Он знал, что с этим визитом его и весь вопрос разрешится.
Как только он еще раз внимательно взглянет на него, так и решит, потому что глаз у него хотя и старый, но зоркий и наметанный.
Ошибиться он не может потому, что никогда не ошибался.
Вот настал и час ужина. Это случилось как раз в тот день, когда измученный Краев решил молчать дальше, и молчать уже целиком весь допрос этого дня.
Вошел Самсон Иванович да и из самой ниши еще вперился на арестанта, и чем ближе подходил, глазами так и ел его.
Краев лежал в своем обычном оцепенении.
При виде старика что-то вроде радости скользнуло по его исхудалому лицу.
– Что, батюшка, ужинать будешь?
Краев замотал головой.
– Поешь, сердечный, желудок не виноват, что голова проштрафилась.
Сказал это Самсон Иванович и чуть миску оловянную не выронил.
«Как есть такой! – подумал он. – Ну, вот побожиться готов, если он хоть в чем-нибудь виновен».
И страшно стало старику, так же страшно, как и всегда, когда ему случалось делать такие открытия.
– Послушай! – тихо шепнул старик, делая вид, что что-то прибирает на столе.
Краев быстро повернулся на этот дружеский шепот, словно родной человек окликнул его в пустыне.
– В чем виноват-то ты?
– Я-то? – поднялся с постели Краев. – А вот Бог небесный! Убей Он меня и замуруй навеки в этом мешке, если я вру, что ни в чем, дедушка… Мне пред тобой, дед, таиться нечего: все равно говорим мы один на один, а на хорошее твое слово отчего правды не сказать, а только если говорить правду, то и выйдет, что сказать придется: ни в чем я не виновен и за что посадили меня – не знаю.
Старик покачал головой.
– Вечор зайду! – сказал он тоже шепотом. – Ты и расскажи мне, коротко только, в чем дело-то твое состоит, потому что долго мне быть в камере не полагается.
На другой день Краев рассказал старику свое дело.
Самсон Иванович опять покачал головой и опять ничего не сказал, даже и в утешение ни слова.
Что-то задумал старик.
А задумал старик вот что: просто-напросто явился к следователю, производившему дознание по делу Краева, и стал уверять его, что на его старый опытный глаз заключенный как есть совсем прав.
– Много значит личность, батюшка, ваше благородие, – заключил старик. – По личности любого человека узнать можно: виноват он или прав?
Следователь, конечно, не внял такому аргументу, но зато слова Самсона Ивановича произвели на него известное впечатление, тем более что про подобную способность старичка он от кого-то слышал.
Самсон Иванович в конце концов добился того, что следователь отнесся к делу с особенным вниманием.
Если бы, несмотря на такие веские улики, можно было бы найти какие-нибудь нити к оправданию обвиненного, это сразу составило бы ему, следователю, имя.
О нем бы заговорили как о ловком и талантливом мастере по своей многосложной профессии.
Когда затем явился Смельский, следователь не преминул в разговоре с ним на всякий случай назвать это дело очень странным и запутанным, несмотря даже на явные улики.
Веря в чудесную способность Самсона Ивановича, следователь сказал даже что-то насчет психологии факта и личности арестованного, далеко не соответствующих остальным обстоятельствам этого дела.
Смельский был даже немного удивлен этим сообщением.
Он предполагал встретить совершенно другое резюме по этому делу со стороны следственной власти.
Но вот ему дали пропуск в камеру заключенного, и в сопровождении Самсона Ивановича, еле поспевавшего за ним, молодой адвокат направился по длинному коридору второго этажа с асфальтовым полом, но с очень скупым освещением.
– Вот тут-с, – коротко сказал старик, делая знак часовому, чтобы он отворил камеру.
Когда Краев при появлении незнакомого ему человека откинулся на постель, Смельский остановился перед ним в недоумении.
Потом он сделал знак старику, и тот вышел, зная порядки, допускающие свидание преступника с его защитником с глазу на глаз.
– Господин Краев! – громко сказал Смельский. – Я присяжный поверенный Смельский, прислан к вам (если вам будет угодно воспользоваться моей защитой на суде) Анной Николаевной, сестрой вашей жены.
Только при имени Анны несчастный вздрогнул и приподнялся на локте.
– Что? Анна приехала? Она здесь?… Она знает?…
– Да, – коротко ответил Смельский, в то же время быстро и пристально разглядывая своего будущего клиента.
– Она там, у нее?
– У кого?
– У Тани?… У жены?
– Да, там, но не в этом дело.
– Как не в этом дело?!! – как сумасшедший вскочил вдруг Краев, заставив этим шумным приветствием Смельского немного попятиться, а солдата отдернуть деревянное оконце и заглянуть внутрь.
– Как не в этом?! А в чем же? Или, может, и вы, господин защитник, хотите формально издеваться надо мною?…
– Помилуйте! Ничуть! – отступил еще шаг Смельский, и вдруг в душе у него сделалось неладно, какой-то тайный голос тоже вдруг шепнул ему, что этот субъект, стоящий перед ним теперь с таким открытым, честным и истинно страдальческим лицом, не мог совершить преступления.
– Ради бога, успокойтесь! – мягко сказал он. – Я ведь не сторона ни обвинения, ни даже следствия. Я пришел к вам, чтобы вместе с вами обсудить шансы, если не на выигрыш дела, то на смягчение приговора.
– Смягчения?… Приговора?… Да за что? За что?! Скажите мне за что? За то, что я нашел какой-то проклятый бумажник под скамейкой почти пустого вагона и не передал его тотчас же жандарму и властям на станции, а поступил как мальчишка, желая похвастаться своей находкой перед женой?! За это суд и казнь? Тюрьма? Каторга? Это?!! О! Боже мой!!! – Краев схватился за лицо руками и, тяжело опустившись на кровать, упал головой в соломенную подушку, заливаясь слезами.
Смельский почувствовал к нему глубокую жалость, и в эту минуту еще более пошатнулась его недавняя убежденность в виновности его, хотя, с другой стороны, зачем он не отдал находки. Это одно и составляет центр и дела и подозрения, это основание всего здания обвинения, и основание вполне прочное.
Смельский сел рядом с продолжавшим рыдать Краевым и тронул его локоть:
– Полноте! Будьте мужчиной! Поговорим?!
Краев поднялся:
– Мужчиной? При чем тут – быть мужчиной? Во мне нет теперь ни мужчины, ни женщины, я просто животное из вида людей, животное это бьют, терзают, и оно кричит от боли! Оно должно кричать. Я плачу от душевной боли, я весь в ужасе, а главное, я не понимаю, за что, за что меня оклеветал этот человек с изрезанными руками и пораненной грудью… я никогда не видел его…
Смельский догадался, о ком говорил несчастный, и вздрогнул.
– Я сам ничего не понимаю, – продолжал Краев, всхлипывая как ребенок, – я знаю только одно, что я схожу с ума, потому что сама судьба ополчилась против меня. Если же так… то вместо всяких опросов и защит дайте мне веревку, нож… я вам руку поцелую перед тем, чтобы лишить себя жизни… Ведь все равно моя жизнь кончена. Тут вмешалось что-то фатальное, неизбежное… Только смерть, одна смерть… И Тане будет легче… Она опять выйдет замуж!.. Пусть… все равно я погибну ни за что!.. Много и кроме меня людей гибло ни за что, я не первый, да, видно, и не последний.
– Успокойтесь! – еще раз тихо сказал Смельский и, дружески положив руку на плечо заключенного, продолжил: – Может быть, все и разъяснится, может быть, Шилов ошибся… Но тогда как же попали эти билеты к вам и в третий класс?…
– Не знаю, – тоже тихо ответил Краев.
– Ведь Шилов же не ездит в третьем классе? Но может быть, он проходил и обронил.
– Не знаю!
Какая-то мысль мелькнула в голове Смельского, немного дикая мысль, могущая, пожалуй, привести если не к прямым результатам, то хоть к косвенным…
– Вы не можете мне описать тех лиц, которые ехали в тот день с вами в вагоне?…
– Описать?… Как их описать?… Я помню, в углу сидело пятеро или четверо купцов, сильно пьяных, в другом углу клевал носом какой-то мужик, тоже, видно, подгулявший.
– Далеко от вас?
– Сейчас за мной.
– Где он вышел?
– Не помню, не видел! Кажется, на Сламотовке же! Да, да, на Сламотовке, он еще сильно покачивался и толкнул меня… а потом шел всю дорогу сзади, теперь я припоминаю. А вы зачем это спрашиваете?…
– Видите зачем! Я хочу попросить следователя вывесить на всех станциях дальше за Сламотовкой объявление, чтобы этот парень или те купцы, которые ехали в такой-то день, с такого-то часа поездом в вагоне третьего класса с вами пожаловали для дачи показаний в кабинет следователя.
– Да они же не видели, как я поднял бумажник. Я его поднял и спрятал потихоньку, зачем же их вызывать.
– А вот зачем! Разве вы не понимаете… важны тут не купцы, более важен этот парень, видевший, как вы говорите, вас идущим к даче… понимаете?…
Смельский сказал это и опять вздрогнул.
Если бы так случилось, если бы эта несбыточная штука удалась и нашелся бы какой-нибудь парень, который подтвердил бы и день, и час, и вагон, и компанию купцов, и самого Краева и затем показал бы, что последний прямо направился к своей даче, то… то, что же тогда будет с Шиловым?… На сторону чьих показаний перевесится чаша мерила справедливости?
Смельский чувствовал, что и у него идет голова кругом от этих соображений, догадок и недоумений.
Сердце его говорило ему, что Краев невиновен, а разум, как и всем остальным, холодно и документально заявлял противоположное.
Он еще раз посмотрел на Краева.
Тот сидел, уронив голову и руки, в классической позе бессилия и отчаяния.
И вдруг на исхудалом, бледном лице несчастного появилась нервная усмешка.
Это была страшная, полуидиотская, полусумасшедшая, улыбка.
– Гм! – сказал он. – У меня еще спрашивают про каких-то сообщников, заставляют назвать их имена!.. А откуда я их возьму? Гм!.. Имена!.. О господи!..
Краев помолчал и вдруг обратился к Смельскому:
– Господин адвокат, бросьте это дело! Если меня не защитит Бог, который все это совершил надо мною, то вам не спасти меня!.. А вот что лучше… Простите меня, несчастного!.. Впрочем, все равно, думайте обо мне что хотите… Вот что я прошу у вас взамен защиты… если у вас есть лишний рублишко, дайте моей Тане… Она теперь без гроша… да попросите добрых людей помочь ей… Она сама горда, просить не будет… да она и больна теперь, я слышал!.. Мне сказал следователь, когда я просил у него с нею свидания. Вот что я прошу у вас, господин присяжный поверенный… Вы ведь прежде, чем сделаться присяжным поверенным, родились человеком, так внемлите просьбе несчастного… облегчите хотя бы этим мою участь!..
Смельский горячо стал рассказывать про то участие, какое принял в его семейном горе граф Сламота.
– Награди его Господь! – со слезами на глазах сказал несчастный.
Смельский вышел из камеры бледный и взволнованный.
Через несколько минут он говорил со следователем.
Разговор со следователем и его результат
Случалось Смельскому быть около преступников, в виновности которых он сомневался и которые были потом действительно оправданы, но такого потрясающего впечатления на него не производил ни один.
Не потому ли, допрашивал он себя, что тут замешана Анна, он так горячо отнесся и к этому делу, и к самому его виновному и приходил к заключению, что Анна Анной, но и сам обвиняемый возбуждал в нем какое-то такое чувство, которое он словами не мог бы и передать.
Теперь, свидевшись снова со следователем ради более детального ознакомления, он вдруг напал на графу «осмотр местности», в которой значилось, что ничего подозрительного ни на земле, ни на траве вокруг места, указанного потерпевшим, не было найдено.
– Неужели так-таки ничего? – быстро спросил Смельский.
– Ничего! – ответил следователь.
– А следы борьбы на песке аллеи? А помятая трава?
– Ничего.
– И вам не кажется это странным?
– Именно что да, – с хитрой физиономией подтвердил следователь, – именно да… И в этом я нахожу кое-что очень выгодное для вашего клиента.
И опять Смельский вздрогнул, опять он вспомнил, что это открытие бросает тень на Шилова.
– Трава, впрочем, могла подняться за ночь, – продолжал следователь, – а следы на проезжей дороге могли изгладиться, хотя дело в том, что предварительный осмотр местности, произведенный жандармом и урядником, ничего не обнаружил, несмотря на то что времени с момента происшествия не прошло и получаса.
Смельский задумчиво покачал головой.
Сообщив следователю свои предположения насчет вызова путем приклеенной на вокзале следовательской повестки тех купцов, которые ехали в вагоне с Краевым, и мужика, который, по его словам, вышел вместе с ним, Смельский, впрочем, и сам отверг эту меру ввиду ее полной бесполезности.
Взамен этого его что-то тянуло домой, не то для того, чтобы сообщить свои первые впечатления Анне, не то, чтобы повидаться еще раз с Шиловым и о чем-то переговорить с ним.
О чем? Он и сам, впрочем, не знал.
Все уже было переговорено, кажется.
«Но как же это так – ни на траве, ни на дороге, в этом месте страшной борьбы одного против четверых или пятерых не было следов спустя всего несколько минут», – думал он уже в вагоне, едучи назад.
Но скоро его мысли оторвались от этого факта, вернувшись к Анне, которая должна была его встретить на вокзале.
«Она ждет теперь с нетерпением результата моего разговора с заключенным».
«А какой результат? Что я могу сказать? Я теперь понимаю во всем этом еще меньше, чем понимал ранее».
Подъезжая к станции, Смельский вышел на площадку вагона, чтобы легче было заметить встречавшую его Анну. Вот и платформа, но ее нет… Он смешался с дачной публикой, выходившей из вагона и стоявшей на платформе, поглядел налево, направо, но Анны нигде не было.
Что бы это могло значить?
Не хуже ли Краевой, не потому ли она не вышла к поезду, как обещала?
Нет, совсем другое задержало Анну, потому что, приехав на виллу, Смельский не застал Шилова.
Он вышел из дому, как ему сказали, за полчаса до его приезда.
– А граф? – спросил Смельский у лакея.
– Они пошли на охоту.
Смельский переоделся и принялся ходить из угла в угол по отведенной ему комнате.
Он теперь забыл уже даже и про то обстоятельство, что Анна, вопреки своему обещанию, не вышла его встретить; он весь был поглощен соображениями насчет дела, которое он решил взять на себя.
Профессиональный оратор-защитник проснулся в нем во всей своей силе, как просыпается талант и творческая сила артиста, невзирая ни на какие житейские обстоятельства. Он чувствовал потребность спасти этого человека, печальная угнетенная фигура которого так и стояла перед его глазами.
Но по мере того как возрастала эта потребность, какое-то новое чувство просыпалось в нем к Шилову.
Шилов в эту минуту напоминал ему прокурора, которого всегда ненавидит в минуту обмена доводами защитник.
Ему хотелось разбить его, но он вдруг вспомнил, что это – Шилов, что это товарищ его, почти друг, что разбить его – значит возвести на него страшнейшее из преступлений – ложный оговор.
Да и не может этого быть, не может быть, чтобы Шилов рассказал не то, что с ним произошло на самом деле…
А если это так?
И вдруг в воображении молодого адвоката мелькнул целый ряд картин возможных подтасовок этого факта.
Положим, все они были слишком далеки от «возможного» и от той правды, которую хранил Шилов, но уже было сомнение, уже было желание идти в сторону с прямой дороги следствия.
Отчего это?
Около дверей его комнаты раздались два знакомых ему голоса. Один принадлежал Анне, другой Шилову.
Смельский даже вздрогнул, услыша их рядом.
Неужели они познакомились?! Но как? Когда? Где?
Он быстро распахнул дверь в коридор и увидел приближающихся Анну и Шилова.
На лице Анны блестела улыбка, такая, какая всегда озаряет лицо женщины при знакомстве с интересным мужчиной.
Смельский, стоя на пороге, ожидал их приближения. Вид его выражал крайнее недоумение.
Но, в сущности, ни недоумевать, ни удивляться тут было нечему.
Все произошло по законам человеческой природы.
Шилов, весь этот день обреченный на бездействие, вплоть до самого вечера, когда ему предстояло отправиться на ревизию полевых работ, вышел прогуляться, направляясь к дачной местности.
Это была первая прогулка после болезни.
Миновав парк, машинально пошел он по задней дачной линии; шел, шел и дошел до дачи Краева.
Тут он невольно поднял задумчиво опущенную голову, словно кто толкнул его в грудь.
Узнал ли он местность или потому, что оступился на какой-то камень, попавший ему под ноги, но он вздрогнул, подняв голову, и лицом к лицу встретился со стоявшей у ограды Анной.
Это было за десять минут до прихода поезда, на который она собиралась для встречи Смельского.
Шилов тотчас же сообразил, что эта прелестная девушка и есть невеста Смельского.
На мгновение он опешил от ее красоты, но только на мгновение, затем он уже знал, что делать.
Он сдернул шляпу и отвесил низкий поклон.
– Моя фамилия Шилов! – грустным голосом сказал он, как будто говоря: мое название гроб. – Я пришел узнать, как здоровье мадам Краевой?
Анна быстро оглядела Шилова, про которого уже достаточно слышала и воображала вовсе не таким.
Она думала, что управляющий графа какой-нибудь простоватый, невзрачный человек, и вдруг увидела перед собой мужчину какой-то отъявленной красоты.
Будь она суеверна и встреть его ночью, она приняла бы его за красавца-дьявола. Но этот «дьявол» стоял пред ней в почтительной позе, без шляпы, склонив голову, и ожидал ответа.
Надо было ответить что-нибудь.
– Благодарю вас, моей сестре лучше, – сказала Анна немного нервным, как бы взволнованным голосом.
– Ах, это ваша сестра? Стало быть, я имею честь говорить с невестой моего друга Смельского.
Анна вспыхнула.
– Да, – шепнула она, – я невеста Андрея Ивановича, – и почему-то улыбнулась, не замечая, какими страшными, широко раскрытыми от ужаса глазами глядела на эту сцену выздоравливающая Татьяна Николаевна, облокотясь о подоконник своей комнаты.
– Я благодарен случаю, доставившему мне честь этого знакомства! – ответил Шилов и поправил повязку, на которой он носил еще забинтованную руку.
Анна вышла и почему-то нашла удобным протянуть свою руку; впрочем, ясно почему: ведь он же был другом ее жениха! Отчего же с ним не познакомиться, с этим другом, отчего же и не отнестись к нему тоже дружески.
У женщин масса запасных доводов на все случаи, даже и на такие, где растерялось бы десятеро мужчин.
Впрочем, эта логика очень своеобразна и недаром именуется логикой специфической, женской.
Шилов должен был пожать руку девушки левой рукой, но, как раненому, ему это было, конечно, более чем позволительно. При этом он взглянул на Анну таким из своих огненных взглядов, который, подобно выстрелу опытного стрелка, никогда не делал промаха по своей жертве.
Анна даже вздрогнула от этого взгляда и нахмурилась, потупив глаза.
– Андрей Иванович скоро должен приехать, – сказал Шилов.
– Да, я иду встречать его.
Шилов улыбнулся:
– Пожалуй, и я пойду его встречать, потому что я все равно вышел на прогулку, но только…
Он вынул часы.
– Только теперь уже поздно. Да вот, кстати, слышите?
В стороне станции раздался свисток.
– Теперь уже ни я, ни вы не успеете.
Анна смутилась:
– Какая досада! А мне его необходимо сейчас же видеть. Как бы это сделать?
Анна на минуту задумалась с встревоженным выражением лица и потом вдруг, со свойственной ей решимостью, быстро сказала:
– Ну, если так, если я опоздала к поезду, я пойду к нему. Вы проводите меня, господин Шилов?
И она вышла из калитки, даже не оглянувшись в сторону сестры, которая слабым голосом позвала ее.
Анна не услышала.
Она быстро пошла по дорожке в сопровождении Шилова, который говорил ей, смеясь, что визит его очень кстати, потому что он теперь может проводить ее, Анну, кратчайшим путем через парк до виллы графа Сламоты.
Анна казалась взволнованной и настолько неохотно поддерживала разговор короткими, отрывистыми ответами, что Шилов предпочел молчать.
Только проходя по парку, Анна спросила его:
– Тут на вас напали?
– Нет, – ответил Шилов, – мы уже прошли то место.
Это был, однако, повод для него пустить несколько фраз, заставивших Анну с изумлением взглянуть на своего спутника.
Шилов выразил самое задушевное сожаление, что все так случилось.
– Лучше бы, – сказал он, – они убили меня, потому что я, по крайней мере, не страдал бы так, как я теперь страдаю.
– А что, у вас сильно болит рука?
Шилов тихонько засмеялся:
– Какой вздор! Рука!.. Точно вы, Анна Николаевна, не понимаете, о чем я говорю. Не рука, а душа болит у меня, потому что с этим делом связано столько трагического, что, право, смерть того, кто был хоть и невольной причиной этого всего, была бы для него благодеянием. Знай я, например, что все это так выйдет, что несчастная сестра ваша с детьми останется без своего кормильца, хотя и бесчестного и недостойного ее человека, но все-таки кормильца и отца ее детей, я бы дал убить себя и тем спрятал концы преступления в воду.
И эти последние слова Шилов произнес так правдиво, так твердо, что Анна во все глаза уставилась на него.
Он ей в эту минуту показался героем, она сама какой-то жалкой сообщницей или покровительницей, в силу родственного чувства, заведомого негодяя.
Это возмутило ее.
Она вспыхнула, опустила голову и, пройдя несколько шагов, заговорила уже первая про вещи совершенно посторонние.
Она спрашивала, сколько земли у графа, какой она приносит доход и доволен ли Шилов своим местом?
В конце концов она начала даже смеяться; но это был нервический, деланый смех. Наконец показался сламотовский дом, и Анна стала восхищаться его великолепным фасадом и видом на цветник, разбросанный по откосу.
Она говорила все это, улыбалась, а в душе ее росла какая-то странная тревога, и тем более она была странна, что Анна не находила причины ее.
Не свидание же Смельского с Краевым вызвало в ней такое нервное настроение.
«Что Краев! – думала она теперь. – Краев гнусный воришка!..»
И вдруг поймала себя на этой мысли.
Почему же еще вчера и сегодня утром она не думала этого про него в такой окончательной форме; напротив, она даже колебалась, ей даже казалось, что тут во всем кроется какая-то фатальная тайна.
А теперь?… Отчего она так скоро решила это? Да оттого, что этот человек, который теперь идет с нею рядом, живой документ преступления Краева.
Кто же, как не Шилов, проследил его, кто же, как не он, обливаясь кровью, полз в кустах, может быть, чтобы защитить свою репутацию и доброе имя от нареканий…
Да, наконец, Краев может сколько угодно рассказывать, что он подобрал деньги, найденные при аресте в его кармане.
Это ведь говорят все уличные воры, даже самая фраза эта, банальная и глупая, доказывает, что наглость у преступника соединена со слабоумием.
Нашел!..
Скажите какая отговорка!.. Бедная Таня, что связала свою жизнь с таким негодяем.
Они дошли до бокового подъезда, поднялись на второй этаж и пошли по коридору, где помещались комнаты для приезжающих.
На пороге одной из них стоял Смельский.
Как и все женщины, Анна при приближении поспешила в нескольких словах объяснить, как она познакомилась с Шиловым и как опоздала нечаянно к поезду.
Смельский сумрачно и молчаливо пропустил обоих в комнату и закрыл дверь.
По лицу его Анна увидела, что знакомство, сделанное ею, ему неприятно, но это только разозлило ее.
Она увидела в этом супружескую тиранию, против которой так возмущалась ее свободомыслящая и свободолюбивая натура.
– Ну что? Были вы там? – спросила она, садясь.
Шилов отошел к окну и сел на подоконник.
– Был! – ответил Смельский и почему-то многозначительно взглянул в сторону Шилова, принявшего самый небрежный и беспечный вид. – То, что я говорил с обвиненным, – Смельский сделал особое ударение на слове «обвиненный», – это касается лично меня, как его защитника… Если хотите, Анна, я вам потом расскажу, но я был и у следователя, который указал мне еще на один факт, и очень странный.
Шилов сделал какое-то короткое движение, очевидно выражая желание спросить что-то, но от вопроса удержался, а взамен этого вынул портсигар и закурил папиросу.
– Какое же обстоятельство?
– Я вам скажу потом…
– Виноват! – поднялся Шилов. – Я, кажется, мешаю – виноват! – повторил он, направляясь к двери, и, поклонившись Анне, скрылся, стуча по коридору, чтобы слышали, что он удаляется.
– Какое же такое обстоятельство? – повторила Анна по уходе Шилова.
– А такое, – тихо сказал Смельский, – что показания Шилова не подтверждаются фактами.
– Что вы говорите! – воскликнула Анна. – Вы клевещете на товарища! – вырвалось у нее.
Смельский побледнел и долго не мог сказать ни слова на это обвинение, так прямо и внезапно кинутое ему.
Он только глядел на Анну дико расширенными глазами.
Анна опомнилась и стала извиняться.
Она не то хотела сказать! Она просто оговорилась, но за что же клеветать на невинного человека!..
– На Краева? – едко спросил Смельский.
– И на Краева, и на Шилова, кто бы он ни был.
– Но поймите, Анна, что ведь это не я «клевещу», как вы называете, а следственная власть… Там найден пробел не в пользу потерпевшего, а обвинителя.
И Смельский сообщил об отсутствии всяких следов на месте борьбы, несмотря на то что они должны быть.
– Это странное обстоятельство, – почти мрачно заключил он, – бросает тень на все дело…
Оба замолчали.
Вдруг Смельский сказал:




