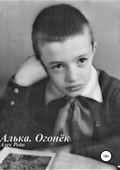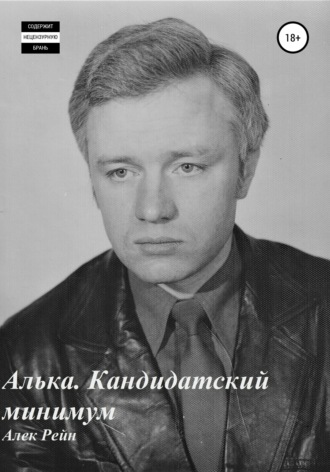
Алек Владимирович Рейн
Алька. Кандидатский минимум
– Куда прёшься? Ты что, гад, делаешь? Ой, бабоньки, все апельсины подавит. Слезай, сволочь.
И какой-то одинокий старушечий голосок с жалобными плачущими интонациями:
– Он хороший, он сейчас сойдёт.
Тут наконец до меня дошло – бабоньки, ездившие в Москву на колбасных электричках, сложили все свои кули с покупками на пол у переднего входа. Гена в своём удручённом состоянии не разобрался и продолжил движение прямо по груде продуктов.
От Навашино до Москвы можно было добраться с пересадкой в Черустях на электричках, и жители Выксы, и не только, преимущественно женщины, катались на электричках за продуктами в столицу. В те годы была такая загадка: что такое – длинная, зелёная и пахнет колбасой? Ответ: электричка.
Растерявшись, я пытался, но никак не мог сообразить, что нам с Сашкой предпринять, однако женщины, сидевшие вокруг своих сокровищ, уже поднялись с мест, чтобы стащить мерзавца с кучи. Ближайшая, подойдя вплотную и приглядевшись, произнесла:
– Ой, бабы, да он совсем никакой. Где ж ты так ужракался? Ну, иди ко мне, миленький.
Она протянула Гене руку, и втроём с двумя подоспевшими товарками аккуратно они свели Гену на пол автобуса, помогая ему переставлять ноги по тем местам, где он нанесёт закупкам наименьший вред. Спустив его вниз, усадили на сиденье, руководительница всей операции, повернувшись в тыл автобуса, спросила:
– Это чей такой красавец?
Мы с Сашкой в один голос откликнулись:
– Наш.
– Что же вы друга своего бросили одного? Он тут куролесит по харчам.
– Не углядели, приборы грузили с задней площадки.
– Командировочные, что ли?
– Да.
– Ну, тогда всё понятно.
Народ возбудился, посыпались различные шутки про жизнь мужиков в командировках – доехали до Выксы весело.
Приборы перетаскивали мы с Сашкой вдвоём по той же системе марш-бросков, пришлось тащить аппаратуру из центра города до заводской гостиницы на окраине, слава богу Выкса не самый большой город радовало одно – Генка посвежел и уверенно перемещался без посторонней помощи.
Утром, изучив приборы, Сашка пришёл к выводу, что провести эксперимент не удастся, договорился о хранении его ценного металлолома в заводской гостинице и, заявив, что дальнейшее его присутствие в городе Выкса – пустая трата времени, собрался в Москву. Я, поскольку целью моей командировки было оказание ему помощи, пришёл к тому же мнению. Генка пытался нас убедить, что мы весело проведём втроём оставшееся время, но мы были непреклонны – собрались и укатили в Навашино, где первым делом прошли на вокзал и взяли билеты до Москвы.
Сашка был грустен, молчалив – я понимал его, готовился к проведению эксперимента, всё, кажется, сложилось, и тут такой облом, поневоле загрустишь. До поезда было два часа, решили пойти пообедать. К обеду, чтобы как-то развеяться, взяли белоголовую, дошли до столовой, которая прямо перед нами закрылась на обеденный перерыв. Обошли здание кругом, зашли в столовую, у раздаче хлопотала женщина в фартуке, обратились:
– Извините, что беспокоим. Нам через час на поезд, поесть с утра не успели, Вы не покормите нас? Мы заплатим, сколько скажете, сядем где-нибудь в сторонке, чтобы нас никто не видел.
Женщина, ничего не говоря, налила нам по тарелке супа. Кинула по котлете в пюре и поставила тарелки на раздаточный стол.
– Спасибо. Сколько с нас?
– Кассирша с обеда придёт – заплатите ей.
– А за…
– Ничего не нужно, всё в кассу.
– Ещё раз спасибо огромное.
Мы пообедали, распили пузырёк, Сашка немного повеселел. Сидели, беседовали, кончился обеденный перерыв, столовая быстро заполнилась людьми. К нам тоже подсели двое мужиков, один был в милицейской форме. Пообедав, он обратился к нам с вопросом:
– Ну, кто со мной пойдёт?
Вопрос его нас немного огорошил. Куда идти, зачем? Я решил, что он о чём-то хочет расспросить, встал и пошёл за милиционером.
У выхода стоял грузовой фургон ГАЗ-52 с надписью «Милиция» и открытой дверцей, расположенной посередине задней стенки, рядом с которым скучало двое ментов. Вышедший вслед за мной кивнул головой на раскрытую дверь и сказал:
– Залезай.
От такого реприманда я пришёл в замешательство.
– Зачем? Куда?
Моя реакция не была для него неожиданностью, поэтому, не слушая моих вопросов и не собираясь отвечать на них, он скомандовал:
– Грузите.
Двое стоявших с отсутствующим видом ментёнков шустро подскочили ко мне и стали пытаться запихнуть меня в фургон. Тут у них возникла проблема – уровень пола фургона приходился мне почти посередине груди, и поднять меня на такую высоту было им не под силу. Дело было в том, что менты, которые пытались меня спеленать, были низкорослые, какие-то тщедушные, это было видно не только по их субтильным фигуркам – у них были слабые кисти. Понаблюдав минут пять за их безнадёжными потугами, их начальник тоже решил меня полапать – три извращенца. Он, как полагалось начальнику, был помордатее, но не сильнее, тем не менее у них появился шанс затолкать меня в кузов, и мне пришлось уже начать хитрить – я то незаметно цеплялся рукой за кузов, то навалюсь – случайно – на одного, потянув за собой двух других, так что, обессилев, тот просто разжимал руки или падал в снег. Подобным образом мы провозились минут пятнадцать. Открытого сопротивления я не оказывал, понимая, что в этом случае они просто применят спецсредства – резиновые палки, у автопатруля они уже были. Но меня они тоже уже утомили, борьбу свою с позорными волками, мусорами, ментярами я сопровождал увещеваниями:
– Ребята, что случилось. Я командированный, большой учёный, вас за моё задержание из ментухи выпрут, опять придётся в дворники идти.
Они, не обращая внимания на мои речи, сопели, пыхтели, пыжились, пытаясь из последних сил запихнуть меня в автозак, но тут из столовой выскочил Сашка, слегка приобнял их старшего и спросил:
– Что здесь происходит, ребята? У нас поезд через пятнадцать минут.
Главный мусорёнок с удивлением, как будто услышал это в первый раз, поинтересовался:
– Какой поезд?
Саня вынул из бумажника и показал коричневую картонку.
– В Москву, возвращаемся из командировки.
– А, так вы командированные.
Он с сожалением поглядел на нас, понимая, что двоих им запихнуть в фургон – фантастика, ничего не говоря, повернулся и молча забрался в кабину фургона, вслед за ним поплелись помятые его ментёнки. Забрались в кабину, мотор заревел, зачихал, начадил, и бригада Навашинского спецназа пропала в сизом дыму.
Сашка спросил:
– А чего случилось, почему они тебя забрать пытались?
– Если б мне кто объяснил… Только вышел – и они сразу в автозак меня запихивать стали.
– А мы сидим с мужиком за столом, разговорились, вдруг подходит парень какой-то и говорит мне: «А хреновый ты кореш. Другу твоему во дворе мусора руки крутят, а ты сидишь тут, лясы точишь». Ну, я бегом на улицу, а тут такое.
– Ладно, обошлось, пойдём-ка лучше на вокзал, а то приедут всем отделом – не отобьёмся.
И мы двинули на станцию Навашино, всю дорогу до Москвы мы проспали.
* * *
Александр Баринов среди нас наиболее глубоко разбирался в механике деформирования металлов – был выпускником кафедры сопромата, при этом был и наверняка остался отличным спортсменом, играл на фортепьяно всё сонеты Бетховена. Мне запомнился глубоким, разносторонне образованным и одарённым, очень интересным в общении человеком, и при этом был своим парнем, и выпить был не дурак в хорошей компании.
Людмила перешла на работу в почтовое отделение Гознака, это было поближе – пять минут пешком – и, главное, не было так опасно для здоровья – на предыдущей её работе были вредные условия труда.
В секцию пришёл новый инженер-сварщик, окончивший кафедру сварки, поступил в аспирантуру к Третьякову, Борис Жуков – славный парень.
Первым делом, как водится, поехали в Выксу, надо было что-то катать и, главное, ознакомить Бориса со спецификой производства, чтобы он мог приезжать и работать самостоятельно, – Трындяков возлагал на него большие надежды. Поехали мы втроём: инженер по фамилии Приходько с кафедры охраны труда – они тоже занимались пористыми структурами, Борис и я.
Заводская гостиница была забита напрочь, пришлось звонить Шмелёву.
– Лев Сергеевич! Добрый вечер, это Алек Рейн из МВТУ. Выручайте, приехали втроём – мест в заводской общаге нет, а в городской их никогда не бывало.
– Здорово, Алик. Перезвони через полчаса, будем искать.
Промявшись полчаса в коридоре заводской гостиницы, перезвонил.
– Получилось что-нибудь?
– Запоминай, не удивляйся – одну ночь проведёте в роддоме, он закрыт на карантин, но вас пустят, я договорился. Других мест в городе просто нет – не на улице же вам зимой ночевать, так что ничего, ночку перекантуетесь, а завтра я вас приткну, знаю место – будете довольны.
Деваться было некуда, и мы двинули по указанному адресу, подошли к отдельно стоящему двухэтажному зданию с вывеской «Городская больница г. Выкса. Родильный дом», позвонили в дверь. Минут через пять дверь открыла бабуся серьёзного вида.
– Чего надо?
– Шмелёв Лев Сергеевич сказал, что нас сегодня сюда пустят переночевать.
– А, это вы уже.
Бабка развернулась и пошла по неосвещённому коридору, она явно была недовольна, что её потревожили. Завела нас в помещение с гинекологическими креслами, между которых стояли три железных кровати с металлическими сетками.
– Тута вот располагайтесь.
– А нельзя хотя бы по матрасику кинуть на сетки?
– Всё на дезинфекции.
– Да хоть каких-то.
– А на какие-то вы сами не то, чтобы сесть – смотреть не сможете.
Кинули сумки на койки, осмотрелись – в соседней комнате был умывальник, из крана текла холодная вода, умылись и решили перекусить. Нашлась водочка, Приходько, проведший, как оказалось, юность в Узбекистане, достал пакетик фунчозы – очень хорошая закуска к водке, у каждого нашлось чего-нибудь. Выпивали, закусывали, ржали над собой и ситуацией, в которую попали. Спать не стали, ушли где-то полседьмого утра, чтобы в семь быть на заводе.
Утром пообщались со Львом Сергеевичем – рассказали про наши ночные приключения и узнали, куда нам двигаться на ночлег, потом договорились, чтобы привезённые нами сетки сунули на отжиг в водородную печь, и пошли устраиваться в место нашего обитания – женское общежитие. Нас после этой поездки почти всегда туда селили, нам нравилось – благодать, тихо, спокойно, девки по вечерам не бузят, не пьянствуют. На ночь, конечно, приходилось дверь баррикадировать, но это что ж, известно – «И вечный бой! Покой нам только снится, сквозь кровь и пыль… Летит, летит степная кобылица и мнёт ковыль…»
Николай Иванович собрался за бугор, кажется, экспертом или представителем ЮНЕСКО, точно не знаю. Закрывая все свои дела перед отъездом, он сказал мне:
– Алек, я перед тобой виноват, я вроде бы твой научный руководитель, а мы с тобой даже ни разу толком не поговорили по твоей работе, но я свою вину заглажу. Я с Анатолием Георгиевичем Овчинниковым договорился, он согласился стать твоим научным руководителем, это, сам понимаешь, стоит моей провинности. Согласен?
– Конечно, Николай Иванович.
Стать аспирантом самого Овчинникова – это в самом деле была большая удача и шанс. Анатолий Георгиевич был большим учёным, с огромным авторитетом среди кузнецов, специалистов по обработке давлением, и нормальным мужиком, прямым, твёрдым – без двойного дна.
Потом интересно было просто пообщаться, про Анатолия Георгиевича тоже ходило немало баек. Он был заслуженным мастером спорта по альпинизму, рассказывали, что однажды на экзаменах он спросил у студента:
– Почему Вы пришли на экзамен неподготовленным?
– Да дети у меня. Надо с ними заниматься, не успел.
– А сколько у Вас детей?
– Один.
– Ну, удивил – один ребёнок. У меня четверо – и ничего, успеваю.
– Да я спортом ещё занимаюсь, много времени отнимает.
– Спорт – это хорошо, я спортсменов уважаю. И кто ты у нас, разрядник или мастер?
– Первый разряд, много приходится заниматься, сложно совмещать с учёбой.
– А я заслуженный мастер спорта, и ничего, как-то успеваю совмещать с работой. Хорошо, дам тебе шанс – подтянешься на дверном косяке десять раз – будет тебе уд, ну а нет – не обессудь.
Паренёк с энтузиазмом вскочил, подошёл к двери, уцепился за наличник и подтянулся шесть раз, отцепившись, сказал:
– Да тут невозможно больше удержаться, наличник очень узкий.
– Ну что ж с того, мы ж спортсмены.
Профессор встал, подошёл к дверному проёму, подтянулся пятнадцать раз и, возвращая зачётку студенту, сказал:
– Готовься, учи материал и подтягиваться не забывай.
Ещё рассказывали, что как-то летом, уходя с работы вечером в группе сотрудников, кто-то из коллег высказал сомнение, что без всех альпинистских атрибутов он сможет забраться по вертикальной стенке. Они как раз проходили сквозь старую арку, кирпичные стены которой были изрядно выщерблены от времени. Овчинников отдал портфель, скинул пиджак и минуты за три добрался до окна читального зала библиотеки, находящегося на высоте около шести-семи метров. Преподавательнице, наблюдающей за написанием сочинения на вступительных экзаменах, стало плохо, когда она увидела в окне жизнерадостное лицо профессора, – решила, что у неё от переутомления глюки.
Где-то в начале 1981 года, после январской сессии, я позвонил Анатолию Георгиевичу на кафедру.
– Анатолий Георгиевич, это Алек Рейн. Мне Ляпунов Николай Иванович сказал, что договорился с Вами, будто бы Вы, после его отъезда, согласились стать моим научным руководителем.
– Да, был такой разговор.
– Я могу подойти?
– Подходи.
Я собрал все свои бумаги, упорядочив их – вдруг захочет заглянуть, и притопал на шестёрку. Овчинников сидел в кабинете один. Взглянув на мой пухлый том, он сказал:
– Олег, мне сейчас приходится заниматься подготовкой восхождения на Эльбрус, я старший тренер. Боюсь, что не смогу уделить тебе достаточного внимания. Может быть, подыскать тебе кого-то у нас на кафедре?
Я понял – профессор решил увильнуть, но, как говорил заяц, уцепившийся лапами за уши лося, увязшего в болоте: «Из моих стальных лап никто не ускользал», – и ответил:
– Да мне какого-то детального сопровождения не нужно, скорее обще методические рекомендации.
Профессор явно почувствовал мою непреодолимую силу.
– Ну, хорошо, давайте попробуем. Я полистаю Ваш кирпич, а вы расскажете мне в общих чертах о своей работе.
Проглядев мои бумазеи под моё усыпляющее бормотание, Анатолий Георгиевич сказал:
– Материала у Вас уже изрядно, и по первому впечатлению всё вполне логично выстраивается, давай поступим так – напиши автореферат.
– Это невозможно. Я хотел еще сделать, – и я стал перечислять, что мне хотелось ещё сделать.
– А зачем Вы хотите сделать это в рамках этой работы?
Точного ответа я сам не знал, почему я хотел сделать то, о чём говорил. Грубо говоря, мне хотелось, чтобы из работы выпирал умище – если таковой окажется, то есть если смогу сделать то, что задумал, но как это сформулировать, я не представлял, и ответил:
– Ну, чтобы работа была масштабней.
Мне кажется, что он меня прекрасно понял, – сколько таких прошло через его руки?
– Разве за это нам дают все степени и звания?
– Да, но и в этих материалах у меня не все выводы до конца закончены.
– А вы представляете, как они ложатся в общую канву работы и как Вы будете использовать их по ходу работы?
– Конечно.
– Вот и прекрасно. Вы пишите так, как будто результаты эти у Вас уже есть, а эти места оставляйте незаполненными. Недели Вам хватит?
– Анатолий Георгиевич!
– Хорошо, через две недели у меня в то же время.
Собрав свои бумажонки, я поплёлся в секцию, возмущённый бредовой затеей, которую придумал этот чёртов старикан, совсем переставший ловить мышей со своими восхождениями.
Взял чей-то, не помню чей, наверное, Ильи Кременского, автореферат для образца и стал кропать свой. По ходу написания увлёкся, понял, что старик не так глуп, как я его честил, возвращаясь в секцию. На следующий день я понял: Овчинников – гений, а я баран. Если бы мне хватило ума посидеть, продумать, как будет выглядеть моя работа, четыре года назад, то два года назад я бы уже защитился. Реферат, точнее, его макет, был закончен на следующий день, о чём я бодрым голосом доложил Овчинникову:
– Анатолий Георгиевич, извините, что отрываю от дел. Я автореферат написал, только он у меня в рукописном виде, печатать?
– Всё в порядке, очень хорошо, что позвонили. Давайте сразу ко мне, а реферат тащите как есть – в рукописном виде.
Просмотрев мой автореферат, Овчина – так его звали между собой студенты, аспиранты, да и преподы – достал из стола какой-то журнал, сделал пометку и сказал:
– Я Вас поставил в план защиты на февраль 1982 года.
– Анатолий Георгиевич, я не успею.
– Успеете, подналяжете немного.
Я попытался отжать хотя бы полгода:
– Анатолий Георгиевич, да у меня окончание аспирантуры только в сентябре, может, на сентябрь?
Овчинников улыбнулся.
– Да зачем нам сентябрь? Всё будет отлично. Нас всё время ругают за то, что у нас аспиранты не укладываются в сроки. А Вы будете у нас примером – заочник-досрочник, будет чем похвастаться.
Взглянув на мою кислую физиономию, он добавил:
– Ладно, я Вас на конец февраля поставлю, но надо успеть.
Последние два слова он произнёс с нажимом, в голосе прозвучала сталь, я понял – надо успеть, попрощался и поплёлся в секцию – надо было нажимать – лось, похоже, только притворялся, что он увяз в болоте.
Позже я понял, почему Овчина поставил меня на февраль – в марте 1982 года он был уже в Непале, руководил подъёмом на Джомолунгму, но я благодарен ему, он был прав. Я и тогда это понимал, но всегда хочется комфорта – «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах…»
Парни собрались на шабашку, решили ехать в Старицкое ПМК. Я позвонил, сказали, что Зрелов здоров и работает, Сашка Тележников предложил:
– Поехали в Старицу на переговоры со Зреловым.
– Я ж не еду, и зачем я вам? Сошлётесь на меня, скажете, что в Лыткино в позапрошлом году площадку для мастерской по ремонту тракторов с ним делали. Овчина велел в феврале на Совет выходить.
– Ну какая разница, скатаешь, вместе поговорим, он тебя всё же знает.
– Да ладно, Сань, вы вдвоём мёртвого уболтаете. Понятно, что времени немного займёт, но расслабляешься – ты себя вспомни в этой ситуации. Вы мне телеграмму пришлите.
Поржали, они укатили без меня, обо всём договорились.
Весеннее традиционное выездное заседание кафедры прошло как-то грустно. Начиналось как всегда: застолье, какой-то доклад, купание в канале – Зафир Юсипов, вернувшийся из Алжира, забавлял всех своей традиционной фишкой – заплывами в осеннем пальто. А потом прибежали две напуганные воспитательницы, которые вывезли группу слабослышащих детей за город, отошли куда-то на пять минут, а вся группа смылась – в слезах умоляли помочь. Пошли цепью прочёсывать лес, а нас было человек сорок, ходили до сумерек, никого не нашли – пришёл наш заарендованный речной трамвайчик, пришлось возвращаться. На пароходе сообщили капитану, он по рации вызвал милицию – чем закончилась эта история, не знаю, но уверен, что детишки просто свалили в Москву от занудных воспитательниц.
Чтобы не заморачиваться с процессами отладки программ и всем прочим, связанным с расчётами на ЭВМ, нашёл по рекомендации партнёров с энергомашиностроительного факультета парня, который по написанному мной алгоритму сам наколотил и отладил программу расчёта положения нейтральной линии при гибке пористой полосы, единственное, что я смог решить только численным методом. Обошлось в восемьдесят рублей.
Пористо-сетчатые материалы при штамповке ведут себя нестабильно – внутри образца может оборваться какая-то проволочка, и усилия деформирования и прочие характеризующие процесс факторы будут сильно различаться при деформировании образцов, имеющих изначально одинаковые характеристики. Поэтому, для того чтобы понимать, насколько предлагаемые мной теоретические изыскания соответствуют реальному поведения материала при нагрузке, я использовал дисперсионный анализ. Сказать по совести, я не очень верил, что мои теоретические изыскания будут близко соответствовать реальному положению дел, – я надеялся, что характер поведения материала при нагрузке, предсказанный теоретически, будет совпадать с данными, полученными экспериментально. Думал, разойдётся всё в разы – не беда, главное, характер совпадает. Введу какой не то поправочный коэффициент – и порядок, но, когда у меня совпали данные в пределах десяти процентов, я очень удивился. Подумал: ни хрена себе.
Писалось тяжело, всё лето костоломился, но дело шло вяло. К осени понял, что зря не поехал на шабашку – расслабился бы, забыл про всё и нагнал бы на раз осенью, но назад уже было не вернуть.
Нарисовал все листы, в сентябре мне активно помогали Милка с сыном – они красили в чёрный цвет буквы заголовков – для заголовков листов мне посоветовали купить готовые буквы, покрасить и наклеить, так выходило покрасивее.
Поскольку кафедрой, выпускающей нас на Диссертационный совет, была шестёрка, мы проходили две предзащиты: у нас и на родной кафедре.
На предзащите, которая проходила в помещении нашей секции, традиционно собралась наша группа ПСМ. Были, конечно, мужики, работающие у нас, пришёл Овчинников – таки я был, как-никак, его аспирант. Всё было как обычно – пощипали меня как положено, чтобы я понимал, что, где и как, но в целом отношение было дружеское, благожелательное. Потом слово взял Трындяков, который разнёс мою работу в пух и прах, правда, критика его, в силу того что он ни хрена не понял в моей работе, носила характер сугубо умозрительный – он ходил вдоль листов и, указывая рукой на какую-нибудь формулу, схему, фотографию или график, говорил:
– А что это такое? Это же чушь какая-то. А это? Это вообще ерунда. А вот это что? Откуда он это взял, чтобы утверждать то, что он утверждает?
На критику такого рода невозможно ответить – она беспредметна, и ответ на подобное может звучать только в виде «Сам дурак». А для диссертанта это недопустимо. У как же, он же возможно будущий Советский учёный, а не хрен морковный.
Но мой научный руководитель меня поддержал:
– А мне такой подход представляется интересным, и модель, и методы исследования, вполне добротная работа, – в целом даже похвалил меня.
Спорить с заслуженным деятелем науки и техники Толе как-то было не с руки, и он тихо ретировался. Секция и наша группа единогласно, за одним воздержавшимся, поддержали мою работу.
Где-то через месяц меня слушали на кафедре обработки давлением. Я считал это пустой формальностью, научный руководитель у меня сам Овчинников, секция наша меня поддержала, и забаллотировать меня – это поссориться с группой своих же товарищей, и потом, все преподаватели шестёрки ко мне очень хорошо относились – я хорошо учился в своё время, в чём-то помогал кафедре, когда мог и было нужно, работал на дружественной кафедре, да и представленная работа была вполне приличная, без каких-то серьёзных косяков, но так думали не все.
После моего выступления с места поднялся Стас Колесников, который всё время о чем-то шептался с рослой блондинкой, и примерно в тех же словах и манере, как Трындяков, начал меня «громить» – вот зараза, столько лет прошло, а он никак не успокоится, что наша группа институтская его козлом считала – так он и был им. Не давая мне открыть рот для ответа, с места поднялся Кондрат.
– Ты, Стас, весь доклад со своей аспиранткой проболтал, видно, вам больше негде встретиться, поэтому и не разобрался. По моему мнению, работа интересная и отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертационным работам, предлагаю поддержать.
Дискуссия протекала вяло, Стас Кондрату ничего не возразил, сказал несколько тёплых слов Шубин. Овчинникова не было, и заседанием кафедры руководил Саша Дмитриев – ученик Овчинникова, подводя черту под выступлениями, сказал:
– Работа, безусловно, хорошая и интересная, я думаю, что все согласятся с тем, что работу надо поддержать.
Все поддержали, даже Стас.
Стали обсуждать, кого мне назначить оппонентами, при обсуждении кандидатуры первого оппонента я попросил слова:
– Я бы хотел, чтобы мне дали возможность самому себе выбрать оппонента.
Александр Михайлович сказал:
– Конечно, а кого ты хочешь?
– Матвеева Анатолия Дмитриевича из МАМИ.
– Знаем, конечно. А ты с ним уже беседовал?
– Нет ещё.
– Ну, ты с ним переговори. Если вдруг он не сможет, тогда подходи, мы тебе подберём.
– Хорошо.
– А что со вторым?
– Кого назначите.
Мне назначили второго оппонента, точно не помню, по-моему, это был кто-то с прокатки, и закрутилась предзащитная канитель.
* * *
Александр Михайлович Дмитриев – очень интересный человек, умный, решительный, блестящий учёный и специалист. После того как Овчинников отошёл от дел, руководил кафедрой обработки давлением МТ 6 несколько лет, потом уволился с кафедры и поступил на работу в «Станкин». Причин его ухода я не знаю, но уход его был большой потерей для кафедры, факультета и института – учёных такого масштаба в нашей профессии по пальцам пересчитать не только в МВТУ, но и в стране, а тогда он был кандидатом наук, одним из ведущих специалистов кафедры.
Первым делом я позвонил Матвееву.
– Анатолий Дмитриевич, добрый день. Вы меня, наверно, не помните это Алек Рейн.
– Здравствуй, Алек. Я тебя отлично помню, знаю, что ты в МВТУ сейчас работаешь. Как твои дела?
– Анатолий Дмитриевич, я тут работёнку накропал, недавно предзащиту прошёл у нас на кафедре обработки давлением, у меня к Вам просьба.
– Какая?
– Я бы хотел, чтобы Вы у меня на защите диссертации были первым оппонентом.
– Алек, мне очень приятно, что ты обо мне вспомнил. А в каком направлении штамповки твоя работа?
– Гибка.
– Да, у меня есть работы по гибке. Что ж, привози автореферат, буду твоим оппонентом.
Я готовил бумаги для сдачи в Учёный совет института, ездил в «Горлит» – контору, осуществляющую цензуру печатных произведений, – для печати автореферата необходима была виза «Горлита», оформлял ещё кучу различных документов, пошёл подписать у Овчинникова какую-то бумажку. Встретились мы с ним во дворе возле шестой кафедры. Увидев его, спешащего куда-то с озабоченным видом, я окликнул:
– Анатолий Георгиевич, добрый день, бумажку мне подпишите.
– А, Олег, привет, давай.
Мы стояли по разные стороны здоровенной кучи промасленных труб шестиметровой длины, привезённых для какого-то ремонта. Трубы были сложены пирамидой в высоту сантиметров шестьдесят и в ширину метр с лишком. Я собрался перепрыгнуть её, но засомневался – неудачная попытка могла обернуться приземлением и катанием на заднице и спине по груде железа в машинном масле. Но пятидесятипятилетнему профессору – тренеру сборной Союза по альпинизму – такая мысль в голову не пришла – он сиганул с места, як та перепончата белка на мою сторону.
– Давай, где тебе подписать?
Расписался на нужной бумаге, скакнул обратно и умчался.
С какими интереснейшими людьми мне приходилось работать – сам себе завидую.
Защищался я в конце февраля, диссертация моя была под грифом «Для служебного пользования». Ничего секретного в ней не было, но элементы некоторых штампуемых деталей – пористые оболочки турбинных лопаток – были связаны с закрытой тематикой факультета энергомашиностроения, и мне пришлось поставить гриф ДСП. В лист лиц, допущенных к слушанию, я вписал человек тридцать – пришло примерно столько же. Защита протекала без всяких всплесков эмоций: выступил я, потом оппоненты, выступил Вячеслав Михайлович Епифанов, доцент кафедры Э3 – руководитель темы по турбинным лопаткам, не помню, может быть, кто-то ещё. Председатель Совета – Арзамасов Борис Николаевич – подвёл черту под выступлениями, и Совет ушёл совещаться, давать мне талон на повидло или не давать. Дожидаясь их решения, я рассеянно ходил возле развешенных мною листов, но в душе поднималось такое радостное волнение, какое бывает, когда ты закончил какую-то работу и знаешь, что сделал её хорошо. Появился Арзамасов, чтобы огласить вердикт Совета. Я стоял, слушал его и так разулыбился, что края губ явно уехали куда-то к ушам, стоял, в душе матеря себя: ну что ты улыбаешься, дебил, а вдруг тебя забаллотировали дружным решением Совета? А если даже нет, не бог весть какое достижение – стать кандидатом в тридцать три года, но ничего не смог с собой поделать.
Борис Николаевич огласил:
– Решением Совета… все за.
По традиции поздравил меня, пожал руку.
Отмечали в тот же день у нас дома. Мама уехала ночевать к Катьке, Миху мы отправили к тёще с тестем, стол накрыли в комнате, где спали Минька с бабкой. Людмила наготовила всяких вкусностей, купил у Солдатенков хорошей водки разных видов, всё было как учили.
Я сбежал из института пораньше, попросив Илью прихватить с собой ребят с Э факультета, все остальные дорогу ко мне знали. Приехав домой, сбрил к чёртовой матери бороду, которая ужасно мне надоела – ждал только какого-то повода, чтобы избавиться от неё, – повод появился.
Минут через двадцать после того, как я сбрил бородищу, прозвучал дверной звонок. Я открыл дверь, на пороге стоял Илья, который произнёс, растерянно взглянув на меня:
– Алик Рейн здесь живёт?
Потом он рассказывал, что, взглянув на меня, решил, что перед ним стоит мой брат, о котором я ему почему-то не рассказал.
Собралась почти вся наша группа ПСМ, ребята из секции, несколько человек с энергомашиностроительного факультета. Генка Павлушкин остался ночевать.
Утром пошли с Генкой попить пивка в шайбу рядом с магазином «Богатырь». Взяли пивка, креветочек, стояли, разговаривали. Вдруг из мирно гудящей толпы вынырнул и подскочил к нам озабоченный чем-то Славка Цыган из восемьдесят пятого дома.
– Алик, привет. Тут на нас одни козлы наехали, поддержите нас?
– Не вопрос, конечно, а кто наехал?
Славка опять втиснулся в толпу, а я вдруг слегка похолодел. Он был из компании 85 дома, с которой наша бригада, дислоцирующаяся в 89 доме, поддерживала дружеские отношения. Зимой мы вместе катались на джеках, иногда обращались друг к другу, когда предстояла серьёзная драка, но нам тогда было по тринадцать-пятнадцать лет. А сейчас мне тридцать три, я работаю на кафедре одного из ведущих вузов страны, вчера защитил кандидатскую диссертацию, и вот сейчас мне придётся рубиться в пивной с колдырями на стороне другой группы колдырей, с которыми я поддерживал приятельские отношения девятнадцать лет назад.
Слово «да» сказал не я, а тот пацан, который до сих пор, оказывается, живёт во мне и который готов был ввязаться в драку, не размышляя о последствиях и числе друзей и врагов. Но я сказал «да». Свалить по-тихому – западло. Остаться – тогда в случае драки возможно загреметь в милицию, схлопотать письмо в институт, а дальше, как повезёт. Могут сказать, что этот тип, шляющийся по пивным в рабочее время, недостоин носить высокое звание советского учёного – и ку-ку.