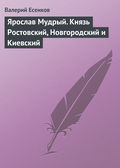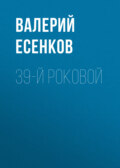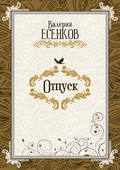Валерий Есенков
Скитания. Книга о Н. В. Гоголе
Глава восьмая
Сожжение
От всех этих разладов здоровье его заметно с каждым днём разрушалось. Первым мрачным предвестником явилась бессонница. Сначала понемногу, помалу. То подолгу не засыпалось. То вдруг просыпалось посреди ночи и уже нельзя было глаз сомкнуть до утра. А там чем дальше, тем больше. И уже, глядь, он дошёл до того, что не мог вовсе заснуть и не спал по две и по три и по четыре ночи подряд.
Он схватился за испытанное лекарство и пустился в Париж. Однако в Париже приключилось ненастье, слякоть и прочая дрянь, так что пришлось убираться обратно, и пока он скакал по дорогам, чувствовал себя вполне сносно, а только добрался до места, как вновь навалилась хандра, точно старым овчинным тулупом накрыли его с головой, так что и скинуть нельзя и нечем дышать. Он видимо изнурялся духом и телом. Наконец в нем расклеилось всё. Он весь дрожал, беспрестанный чувствовал холод и не мог согреться ничем. Он весь исхудал, как скелет, и всякая косточка в этом слабом скелете нещадно болела. Пожелтело лицо, руки распухли и посерели и были как лёд, так что прикосновение их пугало его самого. Беспокойство духа одолевало его, и невозможно было понять, беспокойство ли шло от слабости тела, тело ли слабело от беспокойства души. Он боролся с тем и с другим беспрестанно и даже скрыл свое состояние от Жуковского, но сил на борьбу становилось всё меньше, и ему приходилось так тяжело, что он готовился совершенно раскланяться с жизнью.
В этом сумрачном состоянии ещё раз возможно пристальней порассмотрел он написанные листы, чтобы составить себе прочное представление, что останется после него, если Бог так решит и раскланяться с жизнью всё же придется. Отвращение охватило его. Всё написанное сущей представлялось ему дребеденью. Он не мог позволить себе, чтобы весь этот дрязг и позор печатался после его неминуемой смерти. Он долго сомневался и колебался, а все-таки бросил «Мёртвые души» в огонь, окончательно занемог и вызвал запиской священника:
«Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю…»
Священник явился, как должно, и причастил. Николай же Васильевич, ещё помня о нашем неразумии и торопливости в самых важнейших делах, так что чем дело выпадает серьёзней, тем русский человек поступает неразумней и торопливей, шептал угасающим голосом, не в силах от влажной подушки оторвать точно налитой свинцом головы:
– Отец мой, умоляю вас тела моего не погребать до тех пор, пока не явятся явные признаки тления.
Служитель Господа низко склонялся над ним, касаясь его лица бородой, не понимая его, и он из последних сил говорил:
– Умоляю вас потому, что уже находили на меня минуты полного онемения, так что переставали биться сердце и пульс.
Служитель Господа осенял его быстрым мелким крестом и согласно кивал головой. Он же продолжал наставлять, уже неважно видя его:
– Тело же мое земле предать, не разобравши места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом. Стыдно тому, кто привлечется вниманием к персти гниющей, которая уже не моя: он поклонится червям, грызущим её. Пусть лучше покрепче помолится о душе моей, а вместо почестей погребальных простым обедом угостить от меня нескольких не имущих насущного хлеба. Памятника надо мной никакого не ставить и не помышлять о таком пустяке.
И ещё носилось в уме его, уже погружавшемся в глухое беспамятство:
«Кто после моей смерти вырастет выше душой, чем как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и этим только воздвигнет памятник мне. Потому что и я, как ни был сам по себе ничтожен и слаб, всегда ободрял друзей моих. И никто из тех, кто сходился поближе со мной в последнее время, в минуты моей тоски и печали не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты. И тосковал я не меньше других. Пускай же вспомнят об этом после смерти моей…»
Наконец сознание его совсем прекратилось, и не знает никто, сколько времени пробыл он в полном жизненном онемении, потому что рядом с ним не было никого.
Когда же возвратился он из этого полного онемения к жизни, когда понял, что с ним стряслось и какие могли бы случиться последствия, будь с ним кто-нибудь рядом и прими его онемение за верную смерть, стало очевидно ему, что Бог его пощадил, оставив ему его жизнь, а эта милость значила для него, что его пощадили не даром, а в предвидении великого подвига жизни, который обязан он совершить.
И, всё ещё немощный, едва держась на слабых ногах, пустился он по европейским врачам, дававшим самые различные определения его странной болезни и посылавшим его к самым различным источникам лекарственных вод.
Тогда решился он целиком отдаться на добрую волю последнего, предписавшего карлсбадские целебные воды, однако карлсбадские, хотя и целебные, воды расслабили его окончательно, утвердив его лишний раз в убеждении, что лекаря, как европейские, так и отечественные, не узнавши как должно весь его телесный состав, когда-нибудь непременно погубят его.
Тогда, собравши последние крохи своих физических сил и своего разумения, добрался он к Призницу. Этот многими весьма и весьма расхваленный Призниц, исходя из того, что многие наши недуги происходят от избытка питательной пищи, давал мало мяса и много хлеба, испеченного с отрубями, что требовало от желудка не лени, а неустанных трудов, заставлял утерявших силы больных пилить и колоть дрова, копать землю и быть беспрестанно на воздухе. Главное же, укреплял разбитые нервы холодной водой.
Николай Васильевич более месяца провел как во сне, посреди частых завертываний в мокрые простыни, сажаний в холодные ванны, обтираний и обливаний и судорожных пробежек, в желании и в надежде согреться. Он забылся совсем, постоянно думая только об ужасной холодной воде, и все тяжкие мысли о тяжком деле призвания от него отлетели, как осенью отлетают от нас журавли, сначала курлыча что-то с небес, а затем бесследно исчезая вдали.
Верно, одно это и было нужно ему. Сквозь все эти тягостные проделки с его немощным телом он чем дальше, тем больше стал слышать живительное какое-то освежение, что-то похожее на некоторую крепость несколько пообновленной души и как будто слабое пробуждение физических сил. Жизнь к нему возвращалась. Должно быть, в самом деле не даром. Ещё что-то нужное, важное ждало его впереди. Ещё что-то предстояло ему совершить.
А потому, не окончивши курса водолечения, он пустился в дорогу, которая всегда обновляла и тем спасала его, едва он засиживался подолгу на месте или попадался в руки безжалостных лекарей.
Ехал он медленно, будто совершая прогулку для удовольствия, по своей любимейшей дороге в Италию, не однажды благословив свои недуги и скорби, которые, заставивши его заглянуть поглубже в себя, иногда и простому человеку открывают такое, что ещё не открылось и мудрецам.
Ему же открылось прежде всего, что все болезни его заключаются в нервах, и он впредь решился не обращаться к не любимым им лекарям, а самому построже придерживаться того, что нервам его полезно и хорошо.
Глава девятая
В Риме
С этим непоколебимым решением явился он в вечном городе Риме, и вновь вечный Пётр, Колизей, Монте Пинчио и все его старинные друзья были с ним.
На виа делла Кроче, 81 снял он две тёплые комнатки.
Стояла поздняя осень. Кончался октябрь. Однако чистейшее южное благодатное солнце голубило своей теплотой, дыша материнской любовью. Простой народ не надевал ещё курток. Прозрачный воздух был сущим благодеянием. И духовные силы наконец-то почти целиком возвратились к нему.
Он поневоле ещё раз оборотился назад, к тому жестокому испытанию смертью, которую чудом и на этот раз удалось миновать. Однако велик ли оставался свыше отпущенный срок? Он не знал, но уже был готов опять умереть. Он твёрдой рукой составил свое завещание и, после того как связным образом изложил свои мысли о своем погребении, обратился с душевным словом к своим соотечественникам:
«Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям), завещаю им лучше всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение, под названием «Прощальная повесть». Оно, как увидят, относится к ним. Его носил я долго в своем сердце как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слёз, никому не зримых, ещё от времен детства моего. Его оставляю им в наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поученье. Я писатель, а долг писателя не одно доставленье приятного занятья уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям. Да вспомнят также мои соотечественники, что, и не бывши писателем, всякой отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поученья, и в этом случае нечего глядеть ни на малость его звания, ни на бессилие, ни на самое неразумие его, нужно помнить только то, что человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира. Несмотря, однако, на все таковые права мои, я бы все не дерзнул заговорить о том, о чем они услышат в «Прощальной повести», ибо не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произносить такие речи. Но меня побуждает к тому другая, важнейшая причина: соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль всё величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся… Может быть, «Прощальная повесть» моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор ещё считают жизнь игрушкою, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну её и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил, любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий – во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою «Прощальную повесть». Клянусь: я не сочинял и не выдумывал её, она выпелась сама собою из души, которую воспитал сам Бог испытаниями и горем, а звуки её взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкий родственник вам всем…»
И едва припомнился ему строгий писательский долг, как содержание сожженного тома воскресло перед внутренним взором его в самом светлом и очищенном виде, подобно птице фениксу из огня. Он вдруг увидел, в каком ещё беспорядке было всё то, что посчитал он порядочным и стройным в своем заблуждении. Главное же увидел он то, что угнетало и терзало его до призрака смерти:
«Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит одну только пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство – губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, ещё не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! Нет, по мне, уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек, по крайней мере, увидит свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнит невольно о Боге, возносящем и выводящем всё из глубины ничтожества; в последнем же случае он убежит от самого себя прямо в руку к черту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человека. Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже всё поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное, а потому он и сожжен…»
Новый план второй части начертался в его голове, посветлевшей и ясной. Новое отношение явилось к труду, как будто и прежнее, однако, без сомненья, иное, глубокое, вместившее в себя эту ответственность перед возлюбленными его соотечественниками. Ему уже думалось строго, спокойно о том, что у него иная судьба, чем самые близкие из самых добрых желаний усердно навязывали ему:
«Не судите обо мне и не выводите своих заключений: вы ошибетесь подобно тем из моих приятелей, которые, создавши из меня свой собственный идеал писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателе, начали было от меня требовать, чтобы я отвечал их же созданному идеалу. Создал меня Бог и не скрыл от меня назначения моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое – душа и прочное дело жизни. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться, пусть их торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему…»
Оставалось собраться на труд. Всё ещё хилое здоровье телесное не позволяло ему тотчас взять в руку перо. Однако явственно чувствовал он, что дряхлеет одним только телом, в духе же, напротив, всё крепчает и становится тверже, а это сильное чувство вселяло немалую уверенность в том, что вернется крепость и в тело.
Слишком медленно она возвращалась. Внезапные преграды громоздились у него на пути, о которых ещё вчера не приходило в голову даже помыслить. Окольным путем, полтора месяца скитаясь следом за ним по Европе, настигло его письмо от Степана, которое ужасно огорчило и разволновало его и обычными несуразными московскими новостями, и, главнейшее, своим противодействием его решимости оказывать посильную помощь неимущим студентам.
Опустошительная противная зябкость затрясла его с новой силой. В теплой комнате, прогретой полуденным солнцем, сидеть он больше не мог. Ему то и дело приходилось выбираться на жаркую римскую улицу и почти бегом кружить без всякой цели по вечному городу до тех пор, пока не согреется. Согревался и возвращался, но едва брал в руку перо, как и несносная зябкость к нему возвращалась, и вновь он был принужден мелкой прытью бегать по раскаленным солнечным улицам вечного города Рима.
Самые ближайшие из москвичей нисколько не понимали его, не понимали изъясненные им простые, наипростейшие истины! Он не мог не ответить тут же Степану, однако писать приходилось урывками, и ответ растянулся на несколько дней:
«Письмо твое от четвертого октября я получил уже в Риме, где теперь нахожусь. Бог ещё раз спас меня, когда я уже думал, что приближается конец мой. Теперь мне несравненно лучше, хотя слабость и изнуренье сил ещё не прошли. Письмо твое было мне приятно и с тем вместе грустно. Киреевский болен также. Ты говоришь: «Неужели нет молитвы, которая бы могла вас спасти?» и отвечаешь: «Она есть, но вы плохо её призываете». Один Бог может знать, кто как молится. Но если определено Его святой волей кому-нибудь из нас страдать, то да будет Его святая воля! И если Его святой воле угодно, чтобы моя жизнь или жизнь кого другого, которому бы следовало принести много добра на Руси, была снесена с лица земли, то, верно, это лучше, чем если бы она длилась, и не нашим малым умом судить об уме великом. Меня смутило также известие твое о Константине Аксакове. Борода, зипун и проч.… Он просто дурачится, а между тем дурачество это неминуемо должно было случиться. Этот человек болен избытком сил физических и нравственных; те и другие в нем накопились, не имея проходов извергаться. И в физическом и в нравственном отношении он остался девственник. Как в физическом, если человек, достигнув 30 лет, не женился, то делается болен, так и в нравственном. Для него даже лучше бы было, если бы он в молодости своей, по примеру молодежи, ходил раз, другой в месяц к девкам. Но воздержанье во всех рассеяниях жизни и плоти устремило все силу у него к духу. Он должен был неминуемо сделаться фанатиком, так я думал с самого начала. Благодарю тебя за теперешнее известие о нем. Я напишу к нему: он иногда от меня выслушивал те горькие истины, которые от других не хотел выслушивать. Может быть, Бог вразумит и меня дать совет ему, и его – извлечь из моего совета для себя полезное. Что же касается до диссертации его, то, ещё не читая её, советовал ему не подавать её, даже уничтожить её вовсе, напечатав из неё одни только отрывки, как отдельные статьи. Известие твое о таланте Ивана Аксакова меня порадовало, и я пожалел, что ты не прислал мне его стихов.
«Наконец я тебе сделаю упрек: ты заговорил о том предмете, о котором я просил во всю жизнь мою никогда мне не говорить. Ты позабыл содержание моего письма, говоря, что я требовал решительного «да» на мое «предложение». Не предложение я послал к вам на «решение». Я просил только во имя дружбы выполненья моего решенья, моего обета, данного Богу. Именем дружбы и всего святого просил я одного только «да». И не ожидал такого ответа. Нужно было хотя каплю веры или хотя тень доверия иметь ко мне. Без них не может существовать никаких отношений. Зачем же спешить так скоро заключеньем и называть мою просьбу нелепой и несправедливой, когда я слишком ясно, как здесь, так и в других местах, сказал, что половины причин моих я не могу сказать. Зачем же думать, что я лгу? Зачем, потому только, что уму твоему показалось глупым, называть глупым дело того человека, который всё же не признан тобою за глупого человека? Зачем такая гордость и такая уверенность в уме своем, будто бы он обнял уже все стороны? Мне было горько, слишком горько всё это. Знаю только то, что я бы не поступил так, и если бы у меня потребовал кто святым именем дружбы выполнить то, что выполнить требует сама душа его, я молил бы об этой просьбе, как молит умирающий о последнем своем желании, я бы выполнил её, молясь только Богу о том, как лучше и умней её выполнить, и если бы при этом потребовал он от меня веры к себе ради самого Христа потребовал бы веры к себе, никаким бы я не предавался тогда размышлениям, и хотя бы ум мой и признавал кое-что неблагоразумным, я бы выполнил эту просьбу и выполнил бы её честно, как святыню, моля Бога только о том, чтобы помог Он мне её выполнить.
«И к чему эти толки о том, что тому и тому нужно прежде уплачивать? Будто я уже ребенок и не взвесил ничего прежде! Во-первых, Аксаков (которому за уплаченными тобою 5 606 р. осталась безделица) не возьмет ни копейки из этих денег, если бы даже оставалась и не безделица и если бы он сам находился в несравненно затруднительнейшем состоянии, чем теперь, во-вторых… Но зачем об этом толковать, когда тут можно сказать ещё в-третьих, в-четвертых, в-пятых и даже в-шестых? Довольно, если совесть меня не упрекает в моем поступке и если внутренний голос требует, чтобы я так поступил. Если ж тебе тяжело выполнить мою просьбу, сдай всё дело Аксакову. Бог ему поможет выполнить её. Но ради самого Христа, с этих пор мне ни слова об этом деле. Ответит мне Аксаков. Я ещё не совсем освободился от моей болезни, а ответ твой сокрушил меня, а чтобы тебе сколько-нибудь было это понятно, скажу тебе только, что причиной самой болезни моей было отчасти душевное потрясенье и сокрушенье, в котором сыграл также роль и бедный Погодин, которому судьба наносить неумышленно горчайшие оскорбления всем, которые имеют или слишком нежную и чувствительную душу, или которых Бог ещё не укрепил достаточно для подобных битв. Но это да останется втайне между нами, об этом ни слова Аксакову и никогда – Погодину.
«Теперь о тебе. Я прочел отрывок из нынешних твоих лекций, напечатанный в 1-м номере нынешнего «Москвитянина», отрывок, служивший как бы проспектом и указаньем на то, чем должны быть твои лекции. Прочитавши его, я благодарил Бога, благословившего тебя. В этом отрывке ты вовсе другой, чем был доселе; в нем всё полно и каждое слово полновесно. Слышен человек, созревший и разумом и душой, и сам дух Божественный, изгоняющий всё лишнее, неуместное и пристрастное, в нем слышится. Скажу тебе, что после него становишься ещё светлей насчет будущего, и верится тому, что всё, что ни должно сказаться миру, будет сказано, хотя бы смерть и унесла кого-нибудь из тех, который бы мог сказать. В другой, может быть, форме, но возвестятся те же истины. Затем прощай!..»
Почему же самые лучшие, самые близкие из москвичей не постигали те простейшие истины и не жили в согласии с ними, как постигал их и затем в согласии с ними старался жить он? Почему заблуждались насчет многого в нем, принимая вовсе в другом, прямо обратном значении, даже в превратном смысле всё то, что бы он им ни сказал и ни сделал? Почему не имелось довольно соображенья поверить, что не дело литературы и уж вовсе не пустая журнальная слава занимали его? По какой причине не смекали той трудной и труднейшей задачи, которую он осмелился взяться решить и перед пользой которой были ничтожны все прочие пользы, доставленные ими ему? Отчего, если так необъяснимо не понимали его, не были в состоянии поверить прямому, честному слову его? Отчего не поднимались на свершенье тех подвигов самоотвержения и труда, возможность и пользу которых он им представлял в пространных душевных письмах своих? И что же делать ему, чтобы те простые и простейшие истины были поняты как можно скорей хотя бы этими самыми близкими, этими, без сомнения, лучшими из русских людей? И что же должно было им выдвигаться на первое место во второй части, содержание которой после сожжения так отчетливо-живо представлялось ему?
Он так неотступно, так неустанно думал об этом, что ответы вскоре нашлись. Печальные это были ответы, нагонявшие в душу тоску, как непогода нагоняет воды в Неву, и происходило роковым образом с ним, что чем глубже проникал он в душевные тайны людей, в тайны человеческой жизни и в тайны великой Руси, тем жизнь его становилась безотрадней и тяжелей.
Да, легкомысленные его соотечественники знать не знали и знать не желали никакого душевного дела. Соотечественники не только не желали заглянуть поглубже в себя, чтобы обнаружить в себе свои же собственные богатства, годные на богатырский подвиг самоотвержения и труда. Они ещё меньшую испытывали потребность заглянуть поглубже в душу соседа, ещё меньше стремились познать назначение и жизнь человека, чтобы перед их мысленным взором открылись истинные нужды, истинные потребности каждого, чтобы затем каждому принести то добро, которое истинно было бы добром для него, а не то добро, которое для себя полагали добром, но которое для другого чаще всего поворачивает на зло. Ни к чему ещё не были готовы его соотечественники, и по этой причине первая часть его чудной поэмы произвела на них самое странное и почти вовсе бесполезное действие, хоть и раскупился весь тираж её целиком.
Его была в этом вина. Он поспешил, не обдумавши достаточно дела. Познание человека – вот что должно было составить весь смысл и всю пользу поэмы, И вот, обернувшись к первой части, он видел, как он ошибся, как много в ней было его самого и как мало в ней было того глубокого проникновения во всякий характер, которое только и служит читателю для верного понимания человека. Не одно что-нибудь живет в душе человека, как выставил он почти всюду в первой части поэмы, а одно и второе и третье, так что неизмеримо богат человек и по обстоятельствам годен на всё, как на злое, так и на доброе дело, до того дня, пока не познает себя самого и не направит все эти богатства души на один только подвиг самоотвержения и труда.
Так и ему во второй части надлежало выставить не один идеал человека, но и дорогу к нему, не одни, в противоположность тому, что в первой части явил и явилось, худшие свойства, но одно и второе и третье, изобразивши разнообразие и богатство души, да заодно уж и выправить целиком всю первую часть, уже в ней приготовивши несколько именно это, глубинное познание человека.
И как ни мерзло его истощавшее тело, как ни вздувались все жилы на его ослабелых ногах, не позволяя подолгу ходить и даже стоять, он принялся понемногу за труд, восстанавливая в новом виде всё то, что сгорело в случайном, подвернувшемся под руку немецком камине. Разумеется, физических сил было ещё слишком мало, и он едва-едва подвигался вперед, за целый день успевая вывести всего по нескольку строк. Однако дух его с каждым шагом вперед всё креп да креп да мужал, так что отыскался наконец и из этого, казалось бы безысходного, положения выход.
Дорога помогала ему пуще всевозможных средств и лечений. Он обрек себя на долгое странствие, положив себе твердо весной покинуть Италию, объехать летом Германию, заглянуть даже в Англию, в которой ни разу ещё не бывал, и в Голландию, которой тоже видеть ещё не пришлось. Потом осенью, с наступлением холодов, очень захотелось проехать насквозь всю Италию, зимой посетить берега Средиземного моря, Грецию, Сирию, наконец явиться ко Гробу Господню и через Константинополь воротиться в свою любимую Русь.
Однако ж надо было устроить столь долгое и беспрестанное странствие так, чтобы всюду в дороге, где только можно, писать и писать. Упустить не имел он права ни дня. Всем нынче нужен был для дела души его труд. Это виделось ясно. Он проверял, не впадал ли он в грех гордыни или в самообман. Но нет: наступало то тревожное время распада души, как всё острее чувствовал он, когда поэма его не могла не явиться существенной необходимостью для положения нынешних мыслей и дел, если, само собой разумеется, он сколько-нибудь сумеет ответить на тот важнейший запрос, который сам же задал себе.
Да где же было сколько-нибудь вразумительный ответ на этот запрос отыскать? Не в книгах же, писанных нынче или в прошедшие времена: книжного, отвлеченного знания он ни с какой стороны не терпел. Вот свет, указывали кругом, живая книга, запечатлевшая самую жизнь, и он, с осунутым побледневшим лицом, на котором томительный умственный труд положил глубокую печать истощения и усталости, с выражением спокойным и светлым, с новым блеском в глазах, исполненным сострадания, любви и огня, не за книги засел, а возвратился в разномастное и разноплеменное общество Рима.
Чаще других он бывал у Чернышевых-Кругликовых, потому что это семейство принадлежало к числу его старых знакомых, ещё потому, что в этом семействе чуть не все были больны, и ещё потому, сверх того, что это были простые и добрые люди. Реже, но тоже сравнительно часто, посещал он Апраксину Софью Петровну, потому что она также была очень добра и притом приходилась сестрой его любезного друга Александра Петровича. Видался с супругой канцлера Нессельрода, поразившей его прекрасным душевным выражением на постаревшем усталом лице. Видался с графиней Ростопчиной, поэтессой, которая, несмотря на некоторый ум, доброту и талант, всякий день шаталась по балам то у посланников, то у Дориа, то у Тортони. Это и был весь круг его посещений. Более он, пожалуй, не встречался ни с кем.
Но и этого тесного круга было довольно ему, чтобы очень скоро понять, что перед ним раскрывалась вовсе не живая и дельная книга, а разве что случайно и наспех сшитые лоскутки, да и были ли хотя бы и лоскутки? Всё это были люди, которые, вопреки возрасту и положению в свете, всё ещё не избрали доброго поприща и находились скорей на дороге, на станции, где нет лошадей, а не дома, ступая словно бы по воде, после них не хранившей никакого следа.
Все они знали только себя, свои мелкие капризы и нужды и при этом откровенно, даже с некоторой долей презренья гордились собой до того, что ему никак не удавалось завести с ними настоящей дельной беседы, интересной в то же время им и ему.
Ужасное зрелище пустоты перед ним развернулось. Вот она страшная, вот она непреоборимая преграда, которая не позволяла его возлюбленным соотечественникам заглянуть поглубже в душу соседа, затем, чтобы понять его и подать ему руку помощи. Имя преграде – гордыня! Она была известна и в прежние времена, однако то была гордыня младенческая, гордость физической силой своей, гордость богатством, родом и званием, тогда как духовное развитие гордыни принялось только в нынешнем веке и обещало всё расти да расти.
Намек был ему дан. Он тотчас пустился развивать и разматывать этот намек и вдруг обнаружил две разновидности этого порока души, поразившего его современников: гордость своей чистотой и гордость ума. Он с трагическим холодом на лице размышлял:
«Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих диких предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту свою и в свою красоту. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучше других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, кто о другом судит беспощадно и резко. Стоит только прислушаться к тем определениям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата в день Светлого Воскресения. Без стыда и не дрогнув душой говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он подл, он мерзок душой, он бесчестнейшим поступком себя запятнал, этого человека я даже в переднюю свою не пущу, я даже не хочу дышать одним воздухом с ним, я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и с ним не встречаться. С людьми презренными и подлыми я жить не могу – неужели мне обнять такого человека как брата?» Увы! Позабыл бедный человек нашего века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Им всё разом и вдруг позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянувши на них, он взглянул на себя и того же самого поискал бы в себе, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже сам того не приметив, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, – в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на блюде другом. Всё позабыто. Позабыто бедным человеком нашего века и то, что, может быть, оттого и развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить презренье к себе! Бог весть, может быть, иной бесчестным человеком совсем не был рожден, может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью, на краю пропасти поддержал бы её. Может быть, одной капли любви к нему было бы достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви к его сердцу трудно было достигнуть! Будто бы уже до того в нем окаменела природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но всё позабыто человеком нынешнего века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его. Ему бы только не видеть гной его ран. Он даже не хочет услышать исповеди его, страшась, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем своей чистоты. Такому ли человеку воспраздновать праздник небесной любви?..»