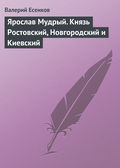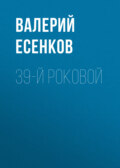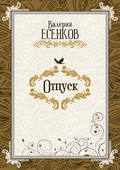Валерий Есенков
Скитания. Книга о Н. В. Гоголе
Там же он признался чистосердечно, что сжег своей рукой второй том, и объяснил, по какой причине решился на этот подвиг самоотвержения, отринув от себя смешную гордыню, которая вечно скрывает и прячет свои неудачи: в той, предварительной рукописи ещё не указал он путей и дорог к возрождению пропавшего человека.
Напротив, в переписке с друзьями он своим живым собственным голосом указывал эти пути и дороги, желая после послушать, как запошленные русские люди отзовутся на них. Он фанатически верил, что всякого тронет его честный рассказ о той муке, с какой выстрадал он свои истины, и что всякий благодаря этому примет эти истины как будто свои. Он был убежден, что его истины, а главное пути и дороги, ведущие к ним, всех поразят своей ясностью, своей простотой.
Он советовал страстно, почти исступленно. Пусть всякий из нас ищет дело по сердцу, а не по желанию выгоды. Пусть всякий из нас добросовестно пашет нашу обильную землю, а тот, кто поставлен над пахарем, пусть прежде печется о пахаре, а не о собственном благе, привилегиях, роскошах да чинах. Пусть женщины перестанут капризно переменять наряд за нарядом и помогают бедным на сбереженные таким образом деньги. Пусть ученые люди отдаются труду познавания, а не мошенничают пустозвонной, переменчивой журналистикой ради выгод неверной прижизненной славы. Пусть поэты изберут себе высокие темы и насытят их глубокими мыслями. Пусть должностные персоны вместо бесконечного сочинения обширных бумаг, входящих да исходящих, терпеливо служат нашему общему процветанию. Пусть… Пусть ещё… И ещё…
Всё выходило так ясно и просто. Всё представлялось необходимым, как хлеб и вода. Николай Васильевич сам с собой сомневаться не мог: эти простейшие истины опровергнуть нельзя. По этой причине он трудился самозабвенно, позабыв о себе.
Глава двенадцатая
Ответ
Наконец все пять тетрадей были отправлены в Петербург, где педантичный Плетнёв по его указаниям готовил издание, и тотчас ужасная усталость свалила его, и все болезни, все страхи, все ожидания каких-то сверхчеловеческих ужасов дружным хором воротились к нему, так что сделать последние распоряжения уже не нашлось ни воли, ни сил. Руки и ноги вновь принялись коченеть.
Медленно отправился он в лучший край свой, в Италию, сделавши изрядного крюку на Ниццу, позволяя себе немалые передышки в пути, заворотивши и в Рим, куда в лихорадочных письмах зазывал его совершенно себя выпустивший из рук, подпавший под власть тёмных страхов Иванов.
Он увидел, что тот в самом деле метался в тоске, почти слёзно жалуясь на свое кромешное одиночество и в особенности на то, что никто не помогает ему и никто не хлопочет о нём.
Эти жалобы ему показались даже несносны, подтверждая ту мысль, как ещё многим нужна его книга для дела души, и, хорошо понимая, что у Иванова только нервы шалят, не давая ни минуты покоя, почти прикрикнул на впавшего в малодушие так:
– Охота вам заниматься всеми этими внешностями! Знали бы свою картину и ничего более – и всё бы само собой пошло хорошо. Так нет, хорошо слишком вижу, что у вас нет полной любви к труду своему.
От этих укоризненных слов Иванов, кажется, несколько встрепенулся и запёрся в своей мастерской. Он же, на этот раз найдя Рим каким-то скучным и к тому же холодным, поселился в Неаполе, откуда для него начиналась дорога в Иерусалим. Он только хотел дождаться выхода книги своей, услышать громкий говор читателей, которые, как предполагалось ему, большей частью придут в возмущение, получить письма от тех, кто загорится желанием написать ему свои замечания на «Мёртвые души», чтобы узнать в полной мере, каково настоящее положение русских умов и каково душевное состояние его самого, а там взойти на палубу корабля и пустится ко гробу Господню с молитвой о себе, в особенности с молитвой о великой и беззащитной Руси.
Но что-то странное, роковое то и дело препятствовало ему. Книга его слишком долго держалась в цензуре. Он понимал, как нелегко было победить все смущения, как собственные, так и со стороны, которые смущали бедного цензора, и как ещё трудней было восторжествовать над всякого рода страхами и опасеньями, да ещё над робостью собственного начальства, которое пуще всего страшится почему-нибудь потерять своё чин и оклад содержания, и потому приготовился с терпением ждать, положив сам с собой, что все проволочки только на пользу ему, что к путешествию в Иерусалим он ещё вполне не готов и что по этой причине даже окажется лучше, если он отправится в святые места через год, уже с твердостью поузнав, каковы в России умы, и поглубже заглянувши в себя.
Книга всё замедлялась и замедлялась. Он твердил, что он исполнил полезное и правое дело и потому это всё ничего. Однако следствием его напряженного ожидания явились бессонницы. Он почти вовсе не спал, и, должно быть, если бы благословенный воздух Неаполя не согревал его зябкого тела, вновь бы приблизился к самому краю могилы.
Он все-таки ждал: без писем читателей, без криков и говоров по поводу книги ему было нечего делать, второй том не мог сдвинуться с места без них.
Вместо известий о выходе книги до него донеслось, что умер Языков, которого любил он любовью истинно братской. Эту скорбную весть он принял стоически, как вызов себе умножить число своих добрых дел, и с ободреньем Жуковскому написал несколько слов.
Тут и книга наконец появилась, но это совершенная была бестолковщина, а не книга, которую он с таким напряжением всех умственных и нравственных сил написал. Всё в ней было в обрезанном и спутанном виде. Самые важные письма, составлявшие существенную часть всего дела и направленные именно к тем, кто у нас занимает высшие должности, с единственной целью, чтобы получше ознакомить всех с бедами, происходившими на пространствах необъятной Руси от нас же самих и о способах исправить многое одним своим добросовестным отношением к должности, оказались выброшены нечувствительной, жестокой рукой именно должностного лица. От книги, как ему представлялось, осталась едва одна треть. Честная служба своим соотечественникам не состоялась, а если и состоялась, то в мере самой ничтожной и вполовину не так, как он свою службу служил.
В первую минуту, ошеломленный этой нелепостью, схватился он спасать свою книгу, добиваясь второго издания в прежнем, нетронутом виде, воздействуя на совесть и добрые чувства влиятельных начальственных лиц, которые могли бы, если понадобится, представить полную рукопись самому государю. В страшном волнении, как утопающий хватается за соломинку, часто выскакивая из-за стола и через мгновение снова садясь, писал он Вяземскому умоляющее письмо:
«Вы уже, вероятно, получили, мой добрый князь, мое письмо и в нем просьбу мою, усердную и убедительную просьбу о восстановлении моей книги а её настоящем виде. По клочку, обгрызенному цензурой, о ней нельзя судить. Во глубине её лежит правда, и правда её может обнаружиться только тогда, когда вся книга будет прочитана, вся сплошь, в той именно связи и в том размещеньи статей, какое составлено у меня. А потому я просил Плетнева включить сызнова всё выброшенное цензурой и приказать переписать все статьи непропущенные; ещё лучше, если всю книгу переписать сплошь. Нет нужды, если дело от этого затянется. О представлении поспешном моей книги государю я вовсе не думаю. У меня одно желание, чтобы она была прочитана прежде вами, взвешена, разобрана строго и выправлена. Мне бы желалось, чтобы её прочел также – внимательно граф М. Ю. Вьельгорский, потом В. А. Перовский, и сказали бы оба свои замечания, а потом чтобы она поступила вновь к вам и вы бы, вновь её прочитавши, выправили её совершенно (если она окажется для этого годною). Князь! Не позабуду по гроб этой услуги вашей! Появленье книги моей уже может быть важно потому, если заставит хотя задуматься общество о предметах более существенных. Это правда, что на ней лежит какой-то фальшивый тон и неуместная восторженность, что произошло оттого, что книга эта действительно долженствовала явиться по смерти. Здесь действовал также страх за жизнь свою и за возможность окончить начатый труд (»Мертвые души»), страх извинительный в моих болезненных недугах, которые были слишком тяжелы. Этот страх заставил заговорить вперед о многих таких вещах, которые следовало развить во всем сочинении так, чтобы не походили они на проповедь. Вот отчего в некоторых письмах есть некоторые неуместные вставки, выходящие из обыкновенного тона писем. Вот отчего в некоторых местах есть напыщенности и выраженья, показывающие самонадеянного или высоко задумавшего о себе человека. Я их не могу хорошо всех видеть, но вы их заметите, потому что в чужом глазу бревно виднее и потому что ваш ум способен обнимать многие стороны дела. Я уверен, что если только выбросить все неприличные и заносчивые выражения, книга моя примет вид, в котором может предстать на цензуру и в публику. Нет вещи, которой бы нельзя было сказать, если только сумеешь сказать поосмотрительней и полегче. Пословица недаром говорит: «Тех же щей, да пожиже влей». Итак, окажите мне дружбу, которой я, разумеется, теперь ещё не заслужил, но которую заслужу, потому что от всего сердца люблю вас, а кого любишь, тому хочется и служить. Вооружитесь, после внимательного прочтенья моей рукописи, пером и сначала изгладьте «я» во всех местах, где оно неприлично высунулось. Во всех же мнениях и мыслях вообще о предметах повыше представьте себе мысленно мою личность и везде, где только приметите, что чиновник 8 класса слишком зарапортовался, сделайте так, чтобы он не позабыл, что он чиновник 8 класса. Иногда помещение возле одной фразы другой, несколько смягчающей её или более объясняющей, уже делает то, что та же мысль принимается, которая за минуту пред тем была отвергнута. Не поскупитесь также и вашей собственной мыслью, если бы она была следствием моей мысли. Мне чувствуется, что вам теперь должно быть многое знакомо, что не знакомо неиспытанным и неискушенными страданьями людям. Душа ваша, я знаю, много страдала втайне и приобрела чрез то высшее познание вещей. Не будем считаться мыслями: они не наши и не принадлежат нам, они посылаются Богом и могут всех равно посетить. Взгляните на мою рукопись, как на вашу собственную и родную. Не выдал бы я её, если бы не почел дела, в ней содержимого, общим делом. Скажу вам также, что в ней сверх всего есть также и мое собственное душевное дело, что вы, я думаю, уже и приметили, а потому для меня слишком важны все мненья, ею возбужденные в публике. Мне нужны все эти нападенья, которых так боится человек, потому что, опровергая меня, всяк мне что-нибудь да выскажет, чего бы никак не высказал (иные даже и не заговорят до тех пор, покуда не рассердятся). Это и меня покажет ясней самому себе и то общество, с которым мне нужно иметь дело. Мне нужно много поумнеть для того, чтобы «Мертвые души» вышли тем, чем следует быть им. И вот почему я вдвое более хлопочу о моей книге. Итак, не оставьте меня, добрый князь, и Бог вас да наградит за то, потому что подвиг ваш будет истинно христианский и высокий. Не оставьте меня также хотя несколькими строчками вашего ответа на это письмо мое…»
Но никто не любил его так, чтобы служить ему, ни с охотой, ни без охоты. Ничья душа не жаждала подвига христианского и высокого на благо другому. Никому не являлось желанья взяться за наше общее душевное дело. Никого не снедала могучая потребность служения ближнему. И по этой горькой причине не получал он ниоткуда никакого ответа. И потому волненье его становилось уже нестерпимым.
Бессонницы, продолжавшиеся более месяца, известие о смерти Языкова, с которым он жил душа в душу, и это известие о беде с его книгой, о столь нелепом её появлении в свет изнурили его. Однако же он, все-таки уверенный в том, что и в этом горестном виде книга его вызовет разнообразные толки, которые будут полезны благоустройству великой Руси, продолжал с терпением ждать, затем с нетерпением, затем даже с досадой, сетуя втихомолку на то, что решительно никто ничего не пишет ему.
И дождался…
Он, конечно, предвидел, что слишком многие против него ополчатся, но не предвидел того, что на него ополчатся с яростью исключительной, вовсе не бывалой нигде, словно в его книге затаилась нечистая сила. Кто начал первым, никак невозможно было сказать, только решительно все встали на него и против него. Его не щадили ни друзья, ни враги.
Может быть, и не начал даже никто, а всё так, подобно стихии, как на тихую гладь океана налетел ураган, одним разом заголосило, запрыгало, запричитало, изощряясь в недостойных ругательствах и ослепленных яростью обвиненьях.
И в чем только они ни обвиняли его!
Что злорадствовали враги, которых он иметь не хотел и которые отчего-то взялись у него сами собой, это было вполне натурально, в порядке вещей. Однако в его искренности и добрых намерениях усомнились даже друзья, даже те, кто клялись всенародно, что любили и понимали его. Виссарион Григорьевич безапелляционно решил, что с этого дня он для искусства потерян. Старый Аксаков более второму тому не верил, уверяя его, что добродетельные люди не могут явиться предметом искусства, что это задача неисполнимая, а на его обещание, что он выставит такие идеалы добра, перед которыми все содрогнутся, Иван, его меньшой сын, с сомнением замечал, что это все-таки будут одни идеалы, а не человеческие живые грешные души. Степан, смертельный противник неистового Виссариона, выговаривал сухо:
– Главное справедливое обвинение против тебя следующее: зачем ты оставил искусство и отказался от всего прежнего? Зачем ты пренебрег даром Божиим? В самом деле, ведь талант дан тебе был от Бога. Ты развил его, ты не скрыл его в землю. За что же пренебрегаешь тем? Возвратись-ка опять к твоей художественной деятельности. Принеси ей опять твои обновленные силы…
Сенковский, по своему обыкновению придираться к чему ни придется, придрался к письму о Гомере и, пустившись в плевой статейке бойко трактовать о характере женщины, вдруг нелепо свернул на «Выбранные места», запричитав скоморохом:
– Я держусь той теории, что женщина… не что иное, как воображение в вырезном платье. Вместо сердца в ней бьются «Мертвые души» – я хотел сказать: в ней бьется поэма… Простите, что я так странно обмолвился; я печален – Гомер, знаете, болен! О, самолюбие, самолюбие книжное! Сколько ты убиваешь умов и талантов!.. Самолюбие! Лютое самолюбие! Посмотри, что ты сделало из Гомера. Гомер болен! Гомер захворал на том, что он не на шутку Гомер. Гомер возгордился неизлечимо!.. Типун вам на язык! – в том числе и не – вам, которые, когда явилась в свет незабвенная поэма, предсказывали, что это тем кончится, что тут уже есть начало болезни. Гомер отрекается от бессмертия, от удивления народов, потому что народы не понимают его…
Барону Розену ни с того ни с сего подвернулось известное изречение Гете:
– Природа, разумеется, изящная, хотела узнать, какова она собой – то есть пожелала посмотреться в зеркало – и создала Гете.
Так вот, барон, разожженный и раззадоренный огнем чужой мысли, пустился изощрять свое скудноватое остроумие и разразился грязной остротой:
– Неизящная, нечистая природа захотела смотреться в кривом зеркале и создала Гоголя.
Губер в «Выбранных местах» увидел лишь несколько ничтожных писулек, лишь несколько странных, замысловатых статей, которые не стоят никакого внимания.
Павлов поименовал его книгу наущением дьявола. Либералы в ней каким-то образом плод невежества разглядели. Чаадаев в падении Гоголя признал следствие печальной ошибки славянофилов. Старый Аксаков думал противное:
– Книгу вашу считаю полным выражением всего зла, которое вас охватило на западе.
Михаил Петрович кричал:
– Гордость, на эту уду тебя поймал злой дух, принявший вид ангела света.
Старый Аксаков, мало согласный в чем бы то ни было с Михаилом Петровичем, на этот раз, приняв книгу за личное оскорбление, вторил ему:
– Всё это ложь! Нелепость и дичь!
Некоторые итоги ураганом промчавшейся брани подводил холодно-рассудительный Брандт:
– Одни считают новую книгу Гоголя плодом расстроенного болезненного воображения. Другие видят здесь крайние выходки непомерного самолюбия, избалованного безусловными восторженными похвалами некоторых критиков и в то же время раздраженного резкими, хотя, по собственному сознанию автора, и справедливыми замечаниями его противников. Третьи думают, что он имел в виду обезоружить последних мнимою скромностью и строгим осуждением написанного им. Наконец, четвертые полагают, что всё это не что иное, как новый замысловатый жарт малороссийский, которым автор надеялся озадачить публику и критику, запутать их в вопросах, надеялся во всяком случае заговорить о нем именно в то время, когда продолжительное молчание его и разные слухи, приносившиеся из-за границы, давали повод думать, что литературное поприще его уже кончилось.
Кто-то в присутствии калужского архиерея Григория удивился, что в новой книге Гоголь показал себя богословом, на что владыка не без гнева, не приличного его высокому сану, отрезал:
– Э, полноте, какой же он богослов! Он просто сбившийся с пути пустослов!
Плетнев попытался защитить его книгу, которую сам же выпустил в свет, – Плетнева тут же выругали публично старым изношенным колпаком.
Страстным негодованием взорвался Белинский, разводя при этом руками, как это можно во имя своего совершенства бранить так истово и публично себя:
– И при этом вы позволили себе цинически грязно выразиться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе – это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены… Не будь на вашей книге выставлено вашего имени и будь из неё выключены те места, где вы говорите о самом себе, как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз – произведение автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?
Вяземский сообщил свое мнение Шевыреву, уверенный в том, что шумливый Степан не схоронит этого частного мнения про себя одного:
– Сказывают, что и вы строго судите новую книгу Гоголя. Я всегда был того мнения, что вы, Хомяков и другие слишком преувеличивали значение Гоголя, придавали ему произвольное значение, которое было ему не в меру и таким образом производило вредное действие и на общее мнение и на него самого. Равно и теперь полагаю, что вы не правы, если не сочувствуете книге его. Разумеется, в ней много странностей, излишеств, натяжек, но всё это было и в прежних творениях его, в которых вы видели преобразование, возрождение, преображение литературы нашей. В Гоголе много истинного, но он сам не истинен, много натуры, но сам он болезнен: был таковым прежде, каков и ныне.
Аполлон Григорьев называл «Выбранные места» болезненной книгой. Впрочем, это был единственный критик, который попытался сказать, что это не личная болезнь, свойственная одному писателю Гоголю, но болезнь нашего века и человечества.
Прозаические умы распустили злокозненный слух, будто при помощи своей книги он рассчитывал пробраться на должность наставника к сыну наследника. Наследник же благодарил бдительную цензуру за то, что она многие, как соизволено было произнести, непристойности вычеркнула из этой книги, гнусной и гадкой.
Перепуганная старушка Шереметева беспрестанно молилась у Иверской за спасение его от поднявшейся брани.
Старый Аксаков соглашался с общей молвой, пустив в публику опасное и скверное слово:
– Религиозная восторженность убила великого художника и даже сделала его сумасшедшим.
Гнусное словцо подхватили, потащили по улицам, и неутомимый сплетник Степан не постеснялся его известить:
– Меня встречали даже добрые знакомые твои вопросом: скажите, пожалуйста, правда это, что Гоголь с ума сошел?
Им всё было мало. На него неслись вихрем уже не ругательства. Он в изумлении ощущал, как над его живым чувствительным телом совершалась какая-то страшная анатомия, которая даже ему, многократно закаленному бранью почти площадной, оказывалась уже не по силам. Его кололи и резали. В его нежную душу запускали грязные руки. Его били наотмашь по ней, единственно потому, что он перед всеми решился её обнажить.
А за что?
Глава тринадцатая
Размышления
За одно только то, что он, имея природу совсем не мистическую, но положительную, стремясь поскорей получить ощутительный результат, слишком рано раздумался разговориться о том, что слишком ясно было видно ему самому и что оказался не в силах пока ещё выразить неумелой и тёмной речью своей.
Только за это?
Не только за это, но большей частью за то, что внутренне он изменился.
Да разве внутренне он изменился?
Нисколько!
В главнейших своих убеждениях не переменялся он никогда. С двенадцатилетнего, может быть, возраста, как это представлялось ему, он шел всё по той же дороге, что ныне, никогда не колеблясь, никогда не шатаясь во мнениях главных, не переходя от одного убежденья к другому, и, как прежде, он мог бы сказать, что всё тот же в своем существе, только, может быть, поизбавился кое от чего из того, что на пути его сильно мешало ему, и через это сделался несколько поумней, стал видеть яснее многие вещи и называть их прямо по имени: вот это доброе дело, а это дело пустое и злое, вот это от Бога, а вот это от чёрта, и мог бы поклясться, что с ним не согласиться нельзя.
И вот многие восстали против него, в особенности же те, которые в полный голос именовали себя передовыми людьми, уверяя себя и других, что всё, что ни есть, видят глубже и дальше, чем он, дивясь от души, как это он, при всём обширном таланте его, не примечает того же.
Передовыми людьми…
Да, Боже мой, передовые-то люди вовсе не те, которые видят такое одно что-нибудь, чего другие не видят, и дивятся тому, что того же не видят другие. Полно, полно же вам! Передовыми людьми возможно поименовать только тех, которые именно видят всё то, что видят другие, и, опершись на сумму всего, видят и то, чего не видят другие, и уже не дивятся нисколько тому, что другие не видят того же.
Во всех этих раздавшихся со всех сторон голосах он слышал людей, которые духом сильно упали и не подумали на самих же себя поглубже взглянуть и найти в себе то же зло, что в других, а он поспешил и едва ли уже одной этой спешкой не испортил всё свое дело, так что и не поправить никак.
Что ж, грех на том, кто солгал, но кто один раз вошел в его душу, тот уже оставался в ней навсегда, как ни поступил после с ним, хотя бы и оттолкнул его вовсе, как однажды оттолкнул его старый друг, приказавши не принимать. И этого старинного друга не изгнал он из оскорбленного сердца. И чем дальше он жил, тем прочней становилась в нем эта связь, и уже не в его власти было прогнать, даже если бы этого он захотел.
Но где же братство? Где хотя бы слабая мысль, робко напоминавшая нам, что братья все, живущие на земле, эта светлая мысль его третьего тома?
Неужели единственно только в душе у него?
Он метался по нанятой комнате, скудно обставленной разнокалиберной рыночной мебелью, в негодовании говоря сам с собой:
– Мне ставят в вину, что заговорил я о Боге, что я не имею права на это, поскольку заражен самолюбием, даже гордыней, доселе не слыханной. Что ж делать, если и при этих пороках все-таки говорится о Боге? Что ж делать, если время наступило такое, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда о Боге возопить готовы и камни? Нет, никакие умники не смутят меня тем, что я не достоин, что не мое это дело и что права я не имею! Всякий из нас до единого это право имеет, все мы должны друг друга наставлять и учить, как велит Христос и апостолы. А что не умеем мы выражаться хорошо и прилично, а что выскочат иногда слова самонадеянности и уверенности в себе, за то Бог и смиряет нас и нам же благодетельствует, посылая смирение.
Вновь трясясь всем телом от жуткого холода, он то и дело твердил, безуспешно кутаясь в плащ:
– В книге моей, несмотря на великие недостатки, есть одна только правда, которую покуда заметили слишком немногие. В ней есть душевное дело – исповедь человека, который почувствовал сильно, что воспитание наше начинается с тех только пор, когда кажется нам, что оно уже кончилось. Там заложен отчасти и самый процесс душевного дела, понятный для каждого, несмотря на неточность выражений и слов, действительно не понятных для не страдавших теми недугами, какими страждут люди нашего времени.
На время его ужасно смутили друзья, так жестоко восставшие на него и, представлялось ему, изменившие в его самый тяжкий, в его самый мучительный час. Однако же, корчившись на жестком диване, уткнувши бледное лицо в воротник, он рассмотрел друзей своих одного за другим и нашел, что измены тут не было никакой. У него пересыхало во рту. Он с трудом шевелил языком:
– У некоторых из них разумения не хватило. Они спутались. Только-то и всего. Да на многих из них вовсе и не надеялся я и никогда не называл их своими друзьями. Это они сами себя считали моими друзьями, но не я их друзьями считал. Я же несколько недоверчив по натуре своей и, зная, как слаб человек, вообще не охотник понадеяться на какого-нибудь человека.
Несмотря на такие разумные рассуждения, его поражало, как это решительно все, то есть те, которые себя именовали друзьями, и те, кто не знал его вовсе, в один дружный голос постановили, что этой книгой своей, в которой вдруг заговорил он открыто о Боге, он отрекался навсегда от искусства. Каким таинственным образом это стряслось? Из чего такого рода выводы выводили они? И уж не в самом ли деле ему отныне не воротиться к искусству, без которого ему незачем жить?
Да нет же! Как он мог от него отказаться, как мог не воротиться к нему? Напротив, благодаря всем этим ругательным критикам он ещё лучше смог увидать, что не должен ничего писать и печатать, пока ещё прилежней не поучится делу и не приобретет себе более взвешенного, более кроткого, не оскорбляющего никого языка.
И потому не укладывалось у него в голове, откуда принеслась эта совершенно нелепая мысль, и он не находил себе места, с пылавшим лицом, отбросивши плащ, вдруг ставший слишком тяжелым, так что и сил не становилось держать на себе, как ни жаждалось телу тепла:
– Из моей же книги можно бы, кажется, было увидеть, хотя некоторые, какие страдания должен был я выносить из любви к искусству поэта, желая себя приневолить, принудить писать, усиливаясь создавать в то самое время, когда не было сил, когда из самого моего предисловия ко второму изданию «Мертвых душ» не увидеть нельзя, как занят я одной мыслью и как алчу тех забрать сведений, которые мне так нужны для труда моего. Что же делать, если душа стала предметом искусства? Виноват ли я в том? Что же делать, если заставлен я многими особенными событиями моей жизни построже других взглянуть на искусство? Кто же тут виноват?
Под горячими лучами нестерпимого южного солнца перед глазами его блестел величавой дугой уходивший вдаль прекраснейший в мире неаполитанский залив, а он, неотрывно глядя на эту обширную гладь сквозь распахнутое настежь окно, прозревал величайшую пользу, которую ему принесла его внезапная книга:
– Недаром на время отнялась у меня эта способность и сила производить. Это всё, видать, для того, чтобы не стал я произвольно выдумывать от себя, не завлекался бы в идеальность, а держался бы самой существенной правды. И теперь выступила передо мной эта голая правда великой Руси, как никогда прежде не выступала. Не нужно только зевать, а подбирать всё, потому что другой такой благоприятной минуты, заставившей даже многих скрытных людей расстегнуться передо мной нараспашку, дождешься нескоро. По этой причине все толки дороги чрезвычайно, даже толки людей, по видимости глупейших и самых простых: и они открывают мне свое душевное состояние.
Эта мысль принесла ему освежение. Он с увлечением её развивал, бродя на несколько поокрепших ногах по шумным и пестрым кварталам облитого солнцем Неаполя, по-русски бормоча сам с собой:
– Говорит журналист. Но за журналистом люди стоят. Тысячи две или три. Те, которые читают его, которые слушают его ушами и глядят его глазами на вещи. Это вам не безделица, нет! Из этого можно узнать, на что именно нынче надобно мне напирать. Хотя моим делом стало искусство, хоть я и художник в душе, но предметом художества моего современный стал человек, и знать его нужно не по одной его внешней наружности. Нужно знать самую душу его, нынешнее её состояние, чем живет, куда стремится она. Ни Карамзин, ни Жуковский, и Пушкин в предмет своего искусства современного человека не избирали, а потому в этих толках не имели и надобности. Нет, никакие критики меня не собьют и ни в чем не заставят меня пошатнуться, что здраво и крепко во мне. Из всех писателей, которых ни случилось мне читать биографии, я ещё ни одного не встречал, кто бы так упорно преследовал предмет, раз избранный им. Редкому довелось выдержать такие битвы со всякими совлекающими его с избранного пути обстоятельствами, но я устоял и с пути своего не сошел. После всех этих толков у меня только прочищаются получше глаза на то самое, на что я гляжу, и больше является рвения к делу. Да, да, я слишком тверд в моих убеждениях, но есть одно правило у меня: всех выслушай и сделай по-своему. И то, что я по-своему сделаю, выслушав всех, уже трудно будет поднять на публичное посмеяние.
Именно, именно так: выслушать все решительно мнения и оставаться совершенно свободным от них! Таков художник. Таково самое дело его. Пушкин был прав, как всегда.
Он заходил почти машинально в трактир. Он дожидался обеда, сцепивши истонченные пальцы перед собой. Он упирал на них лоб. Он глаза прикрывал. Он со сдавленной страстью шептал:
– Теперь только, выслушав всех, смогу последовать мудрому совету его: «Живи один, дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум». А без этого вряд ли бы мне пришелся этот совет, потому что все-таки для того, чтобы идти дорогой собственного ума, нужно прежде изрядно самому поумнеть. Когда сообразишь все критики, все замечанья и нападенья, нельзя не увидеть, что прежде всего нужно поблагодарить всех за них. Везде сказана часть какой-нибудь правды, несмотря даже на то, что главная и важная часть моей книги едва ли кем-нибудь понята, кроме двух-трех человек.
Он повторял, очутившись неизвестно как дома, при слабом трепете одинокой сальной свечи, споря настойчиво с кем-то, обреченно возражая кому-то, кто невидимо таился в темном углу:
– Нужно, нужно всё общество пощупать основательно и радикально, а не взглянуть на него во время бала или гулянья. Иначе долго ещё будет всё невпопад, хотя бы и возросла способность творить, и язык мой станет доступен для всех. Что же делать, если эта, по-видимому, игрушка в глазах всех для меня совсем не игрушка, и если я не наберусь в достаточном количестве этих игрушек, у меня в «Мертвых душах» может высунуться на место людей мой собственный нос и покажется всё именно то, что было так неприятно встретить читателям в этой книге моей. Нет, без неё никак бы я не достигнул той безыскусственной простоты, которая должна необходимо присутствовать в других частях «Мертвых душ», чтобы всякий назвал их верным зеркалом, а не карикатурой на жизнь. Мало кто знает, какой большой крюк надо дать, чтобы достигнуть такой простоты, мало кто знает, как стоит дорого простота.