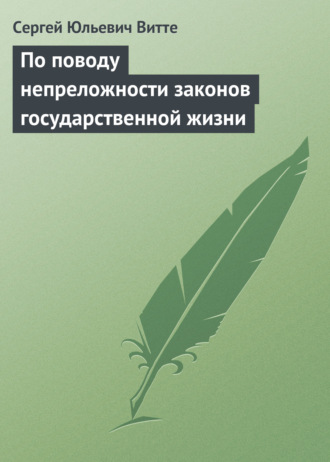
Сергей Юльевич Витте
По поводу непреложности законов государственной жизни
А. Л. Смит. Английский историк Смит в своей статье «Происхождение парламента», входящей в состав известного сборника Трайля «Общественная жизнь Англии», проводит тот взгляд, что английский парламент вырос на почве местного самоуправления, искони присущего германским племенам. Поэтому учреждение парламента, в отличие от континента, не было нововведением, не было революций; здесь лишь получилось, по выражению Смита, «слияние англо-саксонских местных учреждений с норманнской централизацией». Затем автор указывает, что английское местное самоуправление, основанное на системе старинных графств (широв), получило политическое значение благодаря тому, что королевская власть в своей борьбе с феодалами и папской властью искала опору в графствах. Особое значение приобретают выборные суды графства и его низшей единицы – сотни, которые пользовались широкой властью по гражданским и уголовным делам; услугами этих судов пользовалась и королевская власть при разрешении своих споров с церковной властью, при податном обложении и проч. Податному вопросу Смит придает вообще огромное значение в английской истории и даже полагает, что почти вся конституционная история Англии является, в сущности, историей обложения, так как, согласно воззрениям той эпохи, всякое обложение являлось даром короне со стороны населения, и требовалось согласие последнего при всяком новом налоге. Поэтому первоначально английский парламент неоднократно созывался королевскою властью специально по финансовым соображениям; в тех же видах было предоставлено и духовенству представительство в парламенте. Английское самоуправление в том виде, как оно сложилось к началу XIII века, Смит характеризует следующими словами: «То было местное самоуправление в самом полном и истинном смысле этого слова. Чтобы создать центральное самоуправление, оказалось нужным только призвать этих местных представителей в центральное собрание и предоставить этому собранию контроль над всем управлением». Первая такая попытка центрального собрания графств и была сделана в 1213 г., завершившись в 1295 г. учреждением «Образцового парламента», на основании чего Смит заключает, что история парламента до 1213 г. является историй тех мер, какими королевская власть подготовляла местные учреждения к содействию себе в администрации. Это возникновение парламента из местного самоуправления отразилось и на самом составе парламентского представительства. При решении вопроса, кто должен входить в него, естественно было, что, подобно тому как древним представительством графства являлась communitas scirae, в состав которой входили городские и сельские свободные собственники – фригольдеры, так и новое центральное собрание должно было быть собранием представительств или веч графств – domus communitatum, т. е. «палатой общин», в состав которой входили представители от городских и сельских фригольдеров. Представительство городов в английском парламенте, отличающее, по мнению Смита, его первоначальное развитие от континентальных, является естественным результатом возникновения парламента из совместного самоуправления графств, так как города всегда рассматривались как составная часть последних. «Система, – говорит в заключение английский историк, – следовательно была применена и испробована сначала в малом размере; представительство применялось к мелким местным делам до применения в обширной форме; парламент устойчив потому, что основы его национальны; английское самоуправление существует столетия, потому что оно является продуктом столетий»[377].
Оджерс. Английский юрист Odgers, в своем новейшем сочинении о местном управлении в Англии, описывает, главным образом, существующую организацию местного самоуправления своей родины, но несколько строк уделяет на выяснение политического значения этого института. Указывая на мнение конституционных писателей, видящих в местном самоуправлении главный краеугольный камень политической свободы, автор замечает: «И нет сомненья, что это в своих местных собраниях ваши предки усвоили те уроки самоуважения, самопомощи и самоупования, которые сделали английскую нацию тем, что она есть». Принцип местного самоуправления, – продолжает автор, – дорог каждому англичанину, ибо он знает, какое огромное влияние оно имело на развитие национального характера и обеспечение нам свободы, которою мы ныне обладаем. Этот принцип охватывает и лежит в основе всей нашей истории, как нации. Местное управление, одновременно, старейшая и новейшая отрасль нашей политической системы», так как, с одной стороны, древние township, сотня и ширь, восходящие еще к эпохе Альфреда, и ныне продолжают функционировать в лице прихода, округа и графства, а с другой, – последние получили законодательное признание лишь за новейшее время. Для примера Odgers останавливается на приходском собрании и замечает: «Это учреждение на сотни лет старше, чем палата лордов или палата общин, хотя оно лишь в 1894 г. получило свое полное признание со стороны парламента. Это приходское собрание было колыбелью, в которой воспитывались наши вольности. Это была школа, в которой наши предки изучили их уроки самоконтроля, самопомощи и самоупования, которые сделали английскую нацию тем, что она есть. Медленно и постепенно она научилась этому, но лишь путем таких уроков нация возвышается до истинного понимания значения свободы и способов самоуправления». «Наши местные учреждения, – заключает автор, – вели и до сих пор ведут к политической свободе»[378].
IV. Русская литература
Чичерин. Профессор Чичерин в своем сочинении о народном представительстве весьма подробно развивает ту мысль, что устройство местной администрации зависит по преимуществу от образа правления; он доказывает, что самых широких размеров местное самоуправление может достигнуть в республике, где свобода составляет основное начало государственной жизни, и что настоящая почва местного самоуправления – это республика федеративная, ибо здесь она согласуется с верховным началом государственной жизни[379]. Значительное развитие может получить местное самоуправление в конституционной монархии, где сама верховная власть основана на идее соглашения различных общественных элементов. Но вообще «господство монархического начала неизбежно ведет к владычеству бюрократии, которая составляет настоящее орудие монархической власти в административной области. Народное правительство опирается на массу, аристократическое – на своих сочленов, монархическое должно создать себе особые органы, вполне ему подчиненные, чрез которые оно может действовать на подданных. Отрешенность бюрократии от народной жизни составляет присущий ей недостаток, но это – неизбежное последствие монархического начала, создающего власть, независимую от народа. Невозможно отвергать бюрократию, не обрекая монархию на полное бессилие. Притом эта отрешенность имеет и свои выгоды. Она ставит управление общественными делами выше всяких частных интересов; она делает его независимым от духа сословий, партий или от деспотизма какого бы то ни было большинства. В монархической стране бюрократия является настоящим связующим элементом государственной жизни. Общественное здание держится не одними только неопределенными стремлениями и чувствами, разлитыми в народе, а, прежде всего, организованными силами, которые одни в состоянии дать ему надлежащую крепость и единство»[380]. Признав, таким образом, что монархия – мало подходящая почва для самоуправления, Чичерин обращает затем внимание, что свобода всегда составляет существенный элемент государственной жизни и что скорее всего она может проявиться в местной администрации, которая близко касается всех, и что поэтому даже неограниченная монархия, как искупление за отсутствие свободы, должна допустить ту долю самоуправления, которая совместна с силою власти и потребностями порядка. Затем, обращая внимание на многие выгодные стороны самоуправления, как системы управления, Чичерин усматривает в самоуправлении самый надежный противовес произволу бюрократии и, развивая эту мысль в последующем своем сочинении «Курс Государственной Науки», высказывает то мнение, что, «только допуская широкую систему самоуправления, монархия удовлетворяет местным потребностям». Но подобное развитие самоуправления в самодержавном государстве необходимо и в видах исправления недостатков бюрократического строя, потому что «здравая политика состоит не в том, чтобы преувеличивать одностороннее начало, проводя его с неуклонною последовательностью сверху до низу, а в том, чтобы исправлять присущие ему недостатки, насколько это совместимо с основным принципом». «Конечно, она (монархия), – продолжает Чичерин, – должна и в областях иметь свои непосредственные органы, которым присваивается верховный контроль и руководство; но отношение этих органов к местным учреждениям должно состоять не в возможном стеснении и заподозривании последнего, а во взаимном доверии и помощи»[381].
Таким образом, если сопоставить рассуждения проф. Чичерина, изложенные в обоих названных его сочинениях, то, казалось бы, нельзя не придти к заключению, что почтенный профессор допускает самоуправление в самодержавном государстве не потому, чтобы оно соответствовало самодержавному строю; наоборот, он категорически высказывается, что оно более свойственно конституционной монархии и что настоящая почва его – федеративная республика; в местном же управлении самодержавного государства он считает самоуправление необходимым только как искупление за отсутствие свободы, как противовес произволу бюрократа, и полагает, что для такого исправления присущих бюрократическому строю недостатков оно должно быть допускаемо с известной осторожностью настолько, насколько это совместно с основным принципом. Если же затем поставить вопрос, насколько местное самоуправление совместно с основным принципом монархии, то на этот вопрос найдем в сочинениях проф. Чичерина следующие ответы: «местное самоуправление», говорит он, «служит школою для самодеятельности народа и лучшим практическим приготовлением к представительному порядку»[382], «самоуправление не может водвориться в высшей сфере, когда нет самодеятельности в низшей»[383]. «Дух свободы несомненно питается и укрепляется, между прочим, развитием местного самоуправления»[384]. «Чем обширнее государство, чем новее в нем политический порядок, чем более потребности сдерживать отдельные части, тем сильнее правительственная власть, а потому тем более должна быть развита централизация. Она одна в состоянии противодействовать и внутренней розни, и сепаратизму, которым местное самоуправление дает полный простор…»[385]
Кн. Васильчиков. Известный публицист князь А. Васильчиков в своем сочинении «О самоуправлении» высказывает, между прочим, ту мысль, что местное самоуправление составляет подготовительную школу для достижения политической свободы и что, при отсутствии самоуправления, представительный режим не может дать истинной свободы стране. «Местное самоуправление», замечает автор, «точно так же относится к политической равноправности, или к народному самодержавию, как элементарное образование к научному, и потому нам кажется, что именно эти два действия – обучение грамоте и участие в местных совещаниях и судах – и составляют полную школу начального народного образования»[386]. «Справедливо и верно, – продолжает автор, – что самоуправление, при постепенном и благоразумном развитии, ведет неминуемо к народному представительству; и как ручьи, следуя естественному склону почвы, сливаются в реки и моря, так отдельные местные учреждения, следуя естественному ходу событий, стекаются в общие представительные собрания. Народы, пользующиеся самостоятельными правами во внутреннем управлении, очень легко достигают и политических прав; сила вещей и ход событий, указывая всем и каждому на необходимость соглашения, приводят их к желанной цели – к той форме правления, которая соглашает отдельные местные потребности с пользами всего государства, т. е. к народному представительству». Признавая, таким образом, неизбежность образования представительного правления при существовании местного самоуправления, Васильчиков, с другой стороны, считает совершенно ошибочным мнение, что будто бы народное представительство заменяет местное самоуправление, что будто оно, без помощи местных учреждений, может обеспечить свободу народа и что центральные представительные собрания, заключая в себе все народные права, делают будто бы излишним участие местных жителей в местном управлении. 80-летний опыт Франции, обратившей исключительное внимание на лучшее устройство народного представительства и пренебрегавшей местным самоуправлением, всего лучше, по мнению автора, показывает, что народное представительство само по себе, без содействия местных учреждений, совершенно неспособно к основанию свободы и ограждению политических прав народа, подчиненного административной опеке.
На основании опыта Франции автор считает себя вправе заключить, «что парламенты, камеры, земские думы и вообще централизация свободы, точно так же, как и централизация власти, вовсе не обеспечивает свободы внутреннего управления, что народное представительство не заменяет местного самоуправления, относится только к одному разряду потребностей и оставляет в стороне другой многосложный разряд мелких нужд и польз, составляющих в общей сложности благосостояние страны и действительную свободу народа». «Когда же, наоборот, местные народные учреждения укоренились в стране, когда они окончательно приняли в свое заведование весь механизм внутреннего управления, то центральным властям, каким бы ни было – самодержавным или представительным – весьма трудно сломить эту организацию, располагающую всеми живыми силами страны и народа; эту сеть самостоятельных местных учреждений можно надорвать в разных местах, но нельзя расторгнуть ее всю в целом государстве». Пример подобной организации местного самоуправления мы и находим в Англии и Соединенных Штатах. «В Англии, – замечает автор, – общественные учреждения предшествовали политической организации, самоуправление получило свое основание прежде народного представительства. Не конвенты, не национальное собрание организовали земское общественное управление, а напротив, общины основали народное представительство и слились в собрание, получившее и название палаты общин». Поэтому внутреннее управление имело в Англии искомое право существования, и когда впоследствии парламент, постепенно расширяя пределы своей власти, достиг в политическом отношении прав верховного правления, то в делах местной администрации он все-таки подчинялся высшей власти общественного мнения, выражением коего служили общественные учреждения. «Английское и американское начало самоуправления, – замечает автор, – не допускает ни народного, ни личного самовластия. Представительные собрания не могут нарушить прав и польз частных лиц и общин, потому что они встретили бы на этом пути, если бы вздумали его избирать, законное противодействие сверху и снизу: в Англии от палаты пэров, в Америке от верховного суда, и в обоих государствах от местных собраний и учреждений, заведующих всеми органами управления и всеми силами страны и народа. Когда английский парламент приступает к каким-либо существенным преобразованиям внутреннего управления, то он не осмеливается вводить новые порядки, пока не убедится, что улучшение, признанное большинством палат, сознается и желается большинством местных собраний, приходских или окружных»[387].
А. Градовский. Проф. Градовский в своих «Началах Русского Государственного Права» высказывается вполне ясно за неизбежность осуществления тесной органической связи между поместным управлением и формой правления, существующей в государстве. «Для объяснения факта разнообразия систем местного управления, – говорит он, – должно выйти из круга вопросов специально местного управления и взглянуть на существующие системы с точки зрения начал общего государственного устройства данной страны, последствием которого и является данный порядок местных учреждений»[388]. Далее Градовский подобно мюнхенскому проф. Максу Зейделю[389] различает поместные единицы низшего порядка – сельские общины и города, значение коих, как общественных единиц, никогда не могло быть отрицаемо вполне даже в самые тяжелые эпохи развития административной централизации[390], – и единицы высшего порядка – уезды, кантоны, департаменты, провинции, – которые не везде имеют историческое происхождение, а частью были образованы государством искусственно для удобства управления. В этих высших единицах, в последнем случае, общие интересы устанавливаются не сразу, и проходит более или менее продолжительное время, прежде чем явится потребность в общественных учреждениях для губерний и уездов. «Таким образом, – продолжает Градовский, – вопрос самоуправления находится в тесной связи с вопросом о постепенном развитии и признании со стороны законодательств различных общественных групп на местах – признании, которое совершалось лишь постепенно». Но пока высшие единицы не пользуются правом самоуправления, нельзя предполагать, что осуществление этого же права возможно со стороны низших единиц, так как «развитие самостоятельности этих первоначальных единиц обусловливается развитием самоуправления в высших единицах. Вот почему вопрос о самоуправлении вообще получает правильную постановку только в том случае, когда эти начала применяются не только к низшим, но и к высшим единицам». В тех государствах, где исторически сложившиеся местные союзы задавлены были административной опекой или где в пределах искусственного некогда подразделения страны общие интересы этих союзов уже сложились и существуют, – везде слышатся требования возрождения этих союзов, в первом случае, или признания их прав – во втором; цель этих требований – стремление к децентрализации, соединенной с самоуправлением, стремления, в коих «содержатся несомненно мотивы общественно-политические». «В самоуправлении видят средство не только лучшего разрешения известных задач управления, но и преобразования общего типа государства сообразно новым потребностям. Доводы, представляемые в пользу самоуправления и против административной опеки, идут гораздо дальше критики условий местного управления; они имеют в виду выяснить лучшие условия общегосударственной национальной жизни; при помощи их вопрос самоуправления и децентрализации возводится на высоту политическую»[391]. Хотя многим казалось возможным применение теории самоуправления «при самых разнообразных политических условиях»[392], но взгляд этот, по мнению проф. Градовского, не выдерживает критики при ближайшем рассмотрении. Действительно, «если бы… смысл самоуправления состоял только в том, что при этой системе различные цели местных союзов и самого государства могут быть осуществлены лучше, чем при системе противоположной…, то оставалось бы только удивляться, почему в иных государствах так долго держалась и держится система противоположная»[393]. Обстоятельства, препятствующие всем государствам безусловно признать систему самоуправления, становятся ясными из следующих соображений: «Государственная администрация, со всеми ее органами, есть не только средство для улучшения путей сообщения и санитарных условий, для распространения просвещения и общественного призрения, для раскладки и собирания податей и т. д. Она, кроме того, есть средство для обеспечения господства данной государственной власти над всеми слоями и элементами народа и поддержания данного государственного порядка, т. е. определенной формы правления. Эта цель администрации не высказывается в уставах и регламентах установлений, но она лежит в самом существе дела. Как и при помощи каких орудий господствует данная власть – это другой вопрос; но в каждом данном случае он решается согласно с общим политическим строем государства, а не особо от него. Вот почему, какие бы выгоды ни представляло самоуправление с точки зрения «осуществления разных целей», они в известной мере оставляются в стороне, если того требуют политические цели данного государства. Вот почему, наконец, формы управления так тесно связаны с началом общего государственного устройства и являются логическим его последствием. Примеры всех европейских государств, начиная с Англии, служат тому доказательством»[394].
Итак, в самоуправлении проф. Градовский видит «понятие политическое»: Англия – пример государства, где местное самоуправление выросло органически, и где «сами политические учреждения являются дальнейшим завершением местного самоуправления»[395]. Пруссия – пример государства, где местное самоуправление стало возможным лишь при переходе государства от абсолютной к конституционной форме правления, и где «оно вызвано политическими мотивами[396]. В подтверждение мнения своего о связи самоуправления с конституционализмом (в данном случае в применении к Пруссии) Градовский приводит слова докладчика парламентской комиссии по проекту Kreisordnung'a – д-ра Фриденталя: «Неопровержим тот факт, что учреждения нашего управления выросли на почве абсолютного государства, что они были орудиями абсолютного государства, получившего от них свой бюрократический характер, и что, когда мы ввели к себе конституционные учреждения почти непосредственно, эти внутренние орудия абсолютного государства остались и во многих существенных отношениях пребывают нетронутыми и теперь. Что отсюда должно было возникнуть препятствующее развитию целого государства противоречие – я хотел бы так выразиться – между стилем внешней стороны государственного здания и внутреннего его устройства, что фасад имеет совершенно иную структуру, чем внутренние стены – это также факт, который никто отрицать не будет»[397].
При доказанной, таким образом, наличности связи самоуправления с конституционализмом приходится считать, по мнению Градовского, «мысль обосновать систему самоуправления при помощи идеи «местностей», имеющей свои интересы, отличные от интересов государственных… едва ли приложимою к практическому решению вопросов». «Нет ничего бесплоднее, как искать для самоуправления какую-либо особую почву и стараться построить эту систему путем тщательного разграничения интересов местных и государственных»… Несознание неудобств правительственной опеки привело к реакции в пользу местного самоуправления; неубеждение в пользах децентрализации поколебало систему противоположную. Изменения в системах местного управления явились последствием изменения общих политических учреждений. Иначе и быть не могло. При существовании определенной формы правления вопрос о системе управления, естественно, обсуждается не с одной точки зрения хозяйственных выгод и административных удобств. В основании этого вопроса всегда лежит политическое соображение о том, какими способами обеспечивается господство данной государственной власти и прочность известной формы правления»[398].
А. И. Кошелев. Известный земский деятель и «славянофил» А. И. Кошелев в своих брошюрах, выпущенных, в 70-х и начале 80-х годов, и оставленных после себя записках (за период времени с 1812 по 1883 г.) подробно высказывается по вопросам управления и внутренней политики России. Признавая, что «источник державной силы есть народ»[399] что «совершеннейшая, идеальная форма правления есть республика, т. е. самоуправление в полном смысле этого слова», Кошелев отмечает, что человечество, стремясь в душе к республике, «вероятно идет к ней», но что «путь до нее долгий, заставленный разными едва преодолимыми препятствиями и требующий на его совершение – столетия». Переходная форма от абсолютизма к республике – конституционное государство, как попытка согласования единодержавия с народовластием. Эта форма, действуя вполне успешно на месте своей родины – в Англии, а также благодаря особым условиям в Голландии и Бельгии, во всех остальных континентальных государствах Европы далеко не доставила того, чего от нее ожидали. Причина этому заключается в том, что «прочное, сильное, духу и потребностям народа соответствующее управление… должно исходить из прошлой и настоящей жизни народа, корениться в ней… должно, так сказать, само собою народиться»[400]. Менее всего пригоден конституционализм в западноевропейском смысле для России, где он, по заявлению автора, «безусловно невозможен», «даже немыслим», т. к. для него у нас нет никаких элементов, ни разнородных сил, ни, следовательно, возможности какой-либо борьбы и какого-либо уравновешивания. Если же отрешиться от западноевропейских построений и представить себе Россию монархией, разделяющей «верховную власть с одной или двумя палатами, представляющими не две силы, которых у нас нет, т. е. аристократической и демократической, а одну народную силу», – то «такая монархия, вооруженная только правом veto и имеющая перед собою народных представителей, пользующихся решительным голосом, не была ли бы монархией только по имени, а в действительности республикой?»[401] Отвергая и такой, «в русском духе измененный» конституционализм, – возможный у нас, по словам Кошелева, лишь в отдаленном будущем, автор признает желательным учреждение земского совета «вроде ныне существующего государственного совета»[402], в котором обязательно подвергались бы обсуждению проекты законов и голос которого имел бы лишь совещательное значение. «Народ, зная, что верховная власть окружена людьми, им избранными и что он может высказывать ей свои жалобы, просьбы и мнения, будет настолько участвовать в общем самоуправлении, насколько при нынешних наших местных и временных обстоятельствах это ему возможно»[403]. Учреждением Собора или Общей Земской Думы России будут даны «права вроде тех, которые уже дарованы уездным и губернским земствам»[404]; переход же от современного положения дел к проектируемому автором вполне осуществим, по его мнению, так как к созыву Общей Земской Думы «положено необходимое и твердое основание введением уездных и губернских земских учреждений»[405], для которых общее земские учреждение – Земская Дума – то же, что крыша для здания, без коей они, в свою очередь, «не могут надлежаще действовать»[406].
Драгоманов. Историк и публицист, бывший профессор Драгоманов в своей брошюре «Либерализм и земство в России», возражая против неправильного, по его мнению, противопоставления России Западу, замечает, что учреждения Российской Империи, при всех своих местных отличиях, принадлежит к типам, общим всем большим европейским континентальным государствам христианской эпохи[407] при сходстве политических учреждений Россия шла и должна идти по тому же пути, по которому шли и идут другие западноевропейские государства, хотя бы поступательное движение ее по этому пути началось позднее, и хотя оно подвергается задержкам[408].
Признавая, что Россия придет к тому же, к чему пришли западноевропейские государства, т. е. к конституционализму и ограничению Самодержавия, Драгоманов и средствами, пригодными для достижения конституционализма в России, считает те же, которые пользовались на Западе. Эти средства – в области органов самоуправления, земских учреждений. История местного самоуправления в Пруссии, говорит автор, «показывает наглядно, 1) что местное самоуправление имеет теперь бесспорно политическое значение и 2) что его учреждения в новейших государствах растут и крепнут именно во время общегосударственного либерального движения и упрочиваются только с либеральной реформой центральных государственных учреждений, для которой в то же время местное самоуправление составляет лучшую опору. История русских местных учреждений учит тому же самому. Россия послесевастопольская находилась в таком же положении, в каком была Пруссия после Тильзитского мира. И в ней поэтому началось – и в обществе, и в более просвещенной части правительства – движение, вполне аналогичное с тем, какое было в Пруссии в эпоху Штейна. Тогда-то, рядом с реформой крестьянской, пошли в ход и планы всестороннего преобразования административно-политического строя, причем самоуправление местное и у нас считалось первым шагом для основ самоуправления государственного»[409]. Указывая на конституционные стремления земств, обнаружившиеся в эпоху 1879–1883 гг., Драгоманов полагает, что, «если все образованные люди разных племен населения России усвоют себе бесповоротно и последовательно начала, лежащие в основе русского земского движения… тогда главная часть работы добывания для России политической свободы будет сделана»[410].
«Местное самоуправление», говорит Драгоманов, «вместе с личными правами (в число которых входят и права национальные) гораздо существеннее для населения, чем центральный парламентаризм; только оно составляет основу для серьезного государственного самоуправления»[411].
В заключение своей книги, доказывая всю несостоятельность доводов наших публицистов либерального лагеря о совместимости Самодержавия и местного самоуправления, Драгоманов так заканчивает свои рассуждения: «Настоящая литература ведь существует для взрослых и должна разъяснять, а не затемнять, хотя бы и с благими намерениями, общественные вопросы – разъяснять и обществу, и государственным людям, и самой династии. Пусть все знают, куда ведут Россию и дорога реформ, на которую страна эта должна была ступить после севастопольского погрома, – и дорога реакции. Путь каждый выбирает одну из этих дорог вполне сознательно…»[412]







