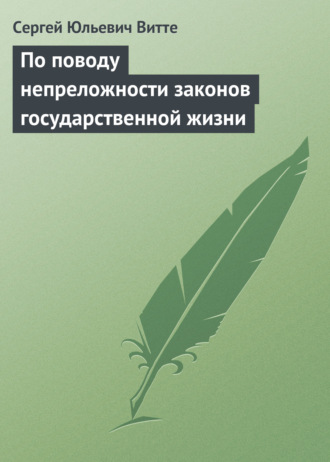
Сергей Юльевич Витте
По поводу непреложности законов государственной жизни
Местные учреждения служили лишь орудием центральной власти и не приучали население к конституционному режиму[347]. Переходя, затем, к изложению административной организации в других конституционных государствах, Ferrand замечает, что там эта организация покоится на принципе разделения общегосударственных и местных интересов и что там население принимает широкое участие в местном управлении, так как все эти государства, вводя конституции, признавали, что эмансипация общины и провинции должна предшествовать или, по крайней мере, сопровождать эмансипацию государства – конституционную систему»[348]. Благодаря местному самоуправлению, объясняется, по мнению Ferrand'a, почему даже такие раздробленные и неопытные народы, как австрийцы и итальянцы, вполне приспособились к конституционному режиму; король Карл Альберт, вводя в 1847–1848 г.г. в Пьемонте конституцию, не последовал примеру Людовика XIII и Луи-Филиппа, а поспешил даровать населению широкое самоуправление законом 1847 г. и в особенности законом 1848 г, который, можно сказать, «выдрессировал» (dressa) население Пьемонта для конституционного режима[349]. «Мы одни лишь во Франции», продолжает Ferrand, «считали и считаем еще, что нет необходимости приучать к политической свободе и умирять ее общинной и провинциальной свободой. Мы одни лишь думаем, что возможно применять безразлично ко всем режимам: к империи, парламентарной монархии и республике почти один и тот же административный аппарат – тот аппарат, который был создан или скорее реставрирован в VIII году. Мы одни, таким образом, сохранили за центральной властью право заведовать и делами общегосударственными, и местными, за ее делегатами – префектами и мэрами – право заведовать одновременно интересами общины и провинции и интересами государства… Благодаря организации, принятой в иностранных государствах, правительство несет меньшую ответственность, население более занято общественными делами и испытано в них, и конституционный режим в большинстве стран Европы действительно выполняется; он снабжен всеми необходимыми ресурсами; ему дается просвещенное и искреннее применение. Напротив, при той организации, которую мы упорно сохраняем, правительство переобременено, а нация мало занята, а потому конституционный режим у нас остается в значительной доле фиктивным и номинальным; его механизм остается неполным и несвязным, и он может функционировать лишь посредством различных ухищрений»[350]. «В других государствах, – замечает Ferrand, – «политический вотум является, главным образом, результатом посвящения и обучения в общине и провинции; у нас он для большинства вотирующих может быть лишь отвлеченной формальностью, лишь выражением мимолетного течения, каприза, страсти или официального вмешательства»[351]. Благодаря той организации, какая принята в других конституционных государствах община, и провинция управляются сами собой под наблюдением государства; благодаря этому граждане получают навык к занятию политическими вопросами вообще и вопросами своей местности, в частности; вместе с тем, пробуждается дух личной инициативы, чувство ответственности, гражданственность, патриотизм, образуется партия «couches nouvelles», состоящая из просвещенных, богатых и независимых граждан, готовая тотчас вступить в управление государством. «Одним словом, – замечает Ferrand, – дух, нравы, сама нация становятся конституционными». Во всем этом ощущается недостаток во Франции, по мнению автора, именно благодаря недостатку настоящего местного самоуправления, так как правительство, опираясь на чиновников и лишь немногих выборных, несет большую ответственность; французские «couches nonvelles» остаются невежественными, неразвитыми и являются частыми оппозиционистами, а в само государственное управление вносится больше неопытности и страсти[352]. На основании всего этого Ferrand приходит к выводу, что «противоречие между дном и поверхностью будет существовать, пока наш конституционный режим не станет реальностью в общине и департаменте, подобно тому как он стал в государстве. Так как административная децентрализация одна лишь в состоянии восполнить существующий недостаток, то мы должны заключить, что с ней необходимо поспешить»[353]. Но если Ferrand находит необходимым при конституционном режиме развитие местного самоуправления, то он и, наоборот, неоднократно указывает на несовместимость местного самоуправления с абсолютным строем[354], почему относительно самоуправления в России делает такой вывод: «Со времени либеральных реформ Александра II Россия, с точки зрения своей политической и административной организации, находится в положении, до некоторой степени аналогичном с тем, которое мы переживаем с 1814 г. Тогда как ее местное управление децентрализовано, более децентрализовано, чем наше, она остается относительно всего, что касается дел государства, полной автократией… России, вероятно, не более удастся сохранить существование местного самоуправления и политического самодержавия, чем нам удается с 1814 г. сохранить существование административной централизации и парламентарного режима»[355].
Демомбин. Известный ученый юрист Demombynes, во введении к своему сборнику европейских конституций, указывает, как на наиболее замечательный факт новейшего времени, на завершение господства общественного мнения в той или иной форме, причем высказывает надежду, что все народы в ближайшем будущем будут пользоваться учреждениями, основанными на народном представительстве, могучем и свободном. «Что же касается России, – говорит Demombynes, – сохраняющей и в настоящее время самодержавную власть, то новое учреждение губернских и уездных (земских) собраний может быть рассматриваемо как точка отправления эры реформ, которая распространится неизбежно вплоть до законодательной власти»[356]. По поводу реформ, введших в России самоуправление крестьянское и городское, Demombynes полагает, что «отсутствие народного представительства лишает их гарантии прочности»[357].
Феррон. Французский ученый Ferron в своем сочинении о муниципальных и провинциальных учреждениях указывает на политическое значение местного самоуправления и на то, что последнее составляет необходимое условие конституционного государства. «Влияние муниципальных и провинциальных учреждений не ограничивается только узкой сферой местных интересов, – говорит Феррон, – оно отражается могущественным образом также и на социальных качествах народа, на его темпераменте, на ходе его управления, на его политических судьбах». Указав затем, что, несмотря на продолжающиеся уже более ста лет революции, Франции все же не удается установить у себя ни порядка, ни свободы, он отрицает довольно распространенное мнение, что причинами тому будто бы раса и темперамент; что французы по природе своей неспособны к свободе и от рождения проникнуты революционными идеями, в доказательство чего принято ссылаться на то, что в 1815 г. они ввели у себя учреждения, которые в других местах доставили спокойствие и свободу.
Автор полагает, что в основании такого мнения лежит заблуждение. «Мы думаем, – говорит он, – что мы переняли политические учреждения Англии, потому что у нас, как у ней, есть парламент и ответственные министры. Внимательный осмотр показал бы нам, что такой парламент и ответственные министры далеко не составляют еще всего управления Англии». Указавши затем на отсутствие во Франции тех учреждений, которые составляют сущность английской конституции, господствующий характер коей выясняется из ее названия («selfgovernment», а не «парламентарное правительство»), и на то, что такие учреждения развивают социальные качества, необходимые для разумного пользования свободой, и подготовляют политическое воспитание народа, приучая его в уважению власти и закона, Феррон приходит к выводу, что французы перенесли во Францию не все управление Англии, а лишь представительную его часть и присоединили к ней чудовищную центральную власть, которую они называют деспотизмом, когда она отправляется во имя суверенитета монарха, и которую они смешивают со свободой, когда она отправляется во имя суверенитета народа.
«Законодатели III и VIII гг., – говорит Феррон, – и граждане, одобрившие те конституции, которые были выработаны в эти две эпохи, думали, что основали свободу и прекратили эру революций. На самом деле было не то. Они лишь восстановили под другим названием централизаторскую власть Людовика XIV. Позже мы попытались установить у себя свободу, заимствуя у Великобритании ее парламентарный режим; но централизация, существовавшая уже два века, настолько впитала в наши умы доктрины и привычки цезаризма, что мы считали возможным основать свободу на учреждениях, созданных деспотизмом. Мы поместили свободу в купол здания, сохранивши деспотизм в фундаменте. Англия поступила как раз обратно: она поместила власть наверху, а свободу внизу; местные вольности суть фундамент всей ее конституции».
Франция и Англия, по мнению автора, представляют два типа управления, в которых царят противоположные начала: бюрократическое и selfgovernment. Правда, ни у той, ни у другой они не вылились в совершенно абсолютную форму; в Англии есть некоторая доля централизации, а во Франции – selfgovernment'a.
«Тем не менее, – добавляет Феррон, – достаточно господствующему характеру обоих этих типов ясно выразиться, чтобы оказать различное влияние на политическое развитие народов, на их темперамент и на все те качества, благодаря которым человек приобретает способность жить в обществе. Тогда как в Англии большая часть обязанностей административных и судебных отправляется непосредственно гражданами, во Франции конституция покоится на централизации, т. е. на власти; организованные вольности не могут найти в ней достаточно места. Индивидуальная свобода, свобода прессы, собраний, ассоциаций часто становятся в ней опасными, ибо они не регулируются политическим воспитанием, развить которое могут только местные вольности; обе они не сдерживаются уважением власти, научить которому может только непосредственное отправление части функций власти».
«Не учреждения, поставленные на верху конституции, – замечает Феррон, – влияют, главным образом, на развитие социальных качеств; они стоят слишком далеко от массы людей. Гораздо большее значение имеют учреждения, заведующие интересами, наиболее близкими каждому; те, которые воздействуют ежедневно, ежечасно на всех граждан, великих и малых, ученых и невежественных». «Чем менее население участвует в администрации, – продолжает он, – тем более доверяется оно людям, которые приводят его к погибели». «Только действительное участие населения в административной жизни государства делает его способным к политической жизни; в этом случае местное самоуправление играет такую же роль в деле политического развития народа, какую элементарная школа играет в деле развития интеллектуального»[358].
Леруа-Болье. Известный историк и публицист Anatole Leroy-Beaulieu в своем сочинении «L'Empire des Tsars et les russes», получившем громкую известность в европейской литературе, высказывает при изложении организации самоуправления России несколько замечаний о политическом значении самоуправления и его связи с конституционной формой правления. Поводом к созданию земских и городских учреждений в России, по мнению автора, послужило сознание правительством невозможности для себя заведовать всем из Петербурга и желание облегчить себя, возложив местное самоуправление на само население. «Таким образом, – продолжает автор, – было введено представительное управление в Самодержавной Империи; если оно ограничено в настоящее время местными интересами, то оно со временем распространится, может быть, еще до окончания столетия, на общие интересы Империи. Какое бы ни было развитие публичной свободы в России, земства и города будут здесь точкой отправления». «Существующие формы местного самоуправления могут даже послужить», по мнению A. Leroy-Beaulieu, «типом или образцом для политической свободы»[359]. Затем автор указывает на те надежды, какие возлагались многими русскими на земские учреждения, так как последние рассматривались как верный, хотя и медленный путь к политической свободе, путь, представлявшийся более надежным, чем конституция. К числу подобных лиц автор причисляет и известного публициста князя Васильчикова. Но в конце царствования Александра II было мало русских, которые бы возлагали такие надежды на земские учреждения, причем A. Leroy-Beaulieu объясняет это разочарование не тем, что мысль о значении самоуправления была не верна, но тем, что она была не полна и легко давала иллюзию, выражая лишь половину истины. «Конечно, – замечает автор, – в деле свободы и самоуправления, как во всех делах, всего лучше начинать сначала, не слишком спешить с дорогой, чтобы не оказаться не в силах совершить свой путь. Самое разумное не форсировать своего пути, идти, а не бежать, но при условии не останавливаться, не достигнув раньше цели. Несомненно, что политическая свобода и конституционные хартии ломки, ветхи, шатки, непрочны и недействительны, если они не опираются на местную свободу, муниципальную и провинциальную». «Но для нас не менее известно и то», продолжает A. Leroy-Beaulieu, «что местная свобода не может быть сохраняема, всеми почитаема и охраняема против всяких насилий, если она не защищается политической свободой. В России, как и в других странах, я сомневаюсь, чтобы можно было долго иметь свободу внизу и абсолютизм наверху, как нельзя долго сохранять свободу наверху и бюрократический абсолютизм внизу. Местное самоуправление может процветать скорей под защитой власти сильной и неоспоримой, но не нужно, чтобы тень, которая его защищает, заглушала и останавливала его рост». «Пока контроль управляемых исключен из области политики и законодательства, я боюсь, – говорит A. Leroy-Beaulieu, – что химера – надеяться на полное торжество представительного правления и независимое господство выборных собраний. Режим du bon plaisir, сохраняемый в высших областях правления, всегда перейдет более или менее через границы, которые ему будут отведены. Местная свобода останется подверженной вмешательству коронных чиновников: она будет подчинена всякой воле власти, которая парит над ней. Одним словом, если нужно дать свободе и самоуправлению глубокое и прочное основание, то при условии не ограничиваться фундаментом или подвалом, а заканчивать здание, потому что без верхних этажей и крыши, которая их защищает от дождя и солнца, подвалы и нижний этаж не будут обитаемы». «Вот чего», по мнению, A. Leroy-Beaulieu, «большинство русских не поняли, в чем еще многие и теперь отказываются признаться. Они не желали видеть того, что не льстило их самолюбию, и пошли, таким образом, навстречу обману. Местное самоуправление в том виде, как оно было создано Александром II, было наилучшим способом посвящения в государственную жизнь, наилучшим способом приучить страну постепенно к заведованию своими делами. Это была превосходная школа, но, продолжаясь на неопределенное время, она рисковала надоесть ученикам. Местное самоуправление, бессильное довольствоваться самим собою, может быт лишь началом, исходной точкой; думать на нем остановиться неопределенное время – это, по нашему мнению», замечает A. Leroy-Beaulieu, «иллюзия, и эта иллюзия была со стороны правительства и вместе с ним страны»[360]. Установив, таким образом, политическое значение самоуправления и связь его с конституционной формой правления, автор для подкрепления своей мысли ссылается на пример своего отечества. «Во Франции, – замечает он, – до 1789 г. некоторые политики также думали, что местной свободы и провинциальных собраний достаточно для хорошей администрации и что они предупредят революцию. Неудачная тогда, эта мысль в наши дни – химера. В старой Европе, когда еще пар не уничтожил расстояний, когда электричество и печать не предоставляли политических новостей в распоряжение всех, когда каждый жил более или менее замкнуто в своем городе или провинции, было бесконечно менее трудно, чем ныне, ограничить частную инициативу и дух критики сферой местных интересов. Часто говорят, что местное самоуправление есть лучшая школа политической свободы; мы уже показали, насколько может вовлечь в ошибку подобного рода общее выражение. В сущности, здесь заколдованный круг, потому что местная свобода не может быть полной без политической, а последняя – не более без первой. Несомненно, что, раз допущен контроль в одной области, то он стремится непреодолимо завладеть и теми, которые у него оспаривают. Невозможно сосредотачивать долго бдительность общества и свободу подданных в тесной области. Дух свободы подобен тем газам, которые трудно хранить в закрытом сосуде: чрезвычайно легкий по природе, он исчезает из сосудов, где его думали заключить»[361]. Ввиду этого, по мнению A. Leroy-Beaulieu, не будет достаточно даже расширения прав земских собраний, но из последних или из другого чего-либо должно выйти национальное представительство[362]. «Во всяком случае», заключает французский историк, «какое бы направление ни было принято правительством, останется ли Россия еще на долгое время при скромной провинциальной и муниципальной свободе или будет брошена на шумную дорогу политической свободы, земские собрания, более или менее переделанные, останутся существенными органами общества и государственной жизни»[363].
Лавеле. Известный бельгийский ученый Lavelaye, в своем сочинении «Управление в демократии» (1-е изд. 1872 г.) высказывает тот взгляд, что местное самоуправление составляет необходимую принадлежность конституционного режима и что последний без первого недействителен и превращается в абсолютную форму правления. «Говорят с основанием», замечает автор, «что местные учреждения являются первоначальной школой свободы; в провинциальных собраниях граждане научаются понимать, насколько хорошее управление государственными делами важно в их личных интересах, так как национальное собрание действует слишком далеко от них, и действие его решений слишком трудно уяснить. Местное самоуправление является для народа лучшим видом политического воспитания… Местная автономия есть обязательная принадлежность парламентарного режима; без нее этот режим дает лишь довольно посредственные результаты». Без провинциальной свободы парламентарный режим, по мнению проф. Lavelaye, дает лишь внешность свободы; в сущности же абсолютизм остается, отправляемый то монархом, то собранием. «Напротив, автономия провинций есть цитадель свободы»[364].
Для иллюстрации своей мысли автор, подобно французским писателям, обращается к примеру Франции, где, по его мнению, несмотря на конституционный режим, нет истинной свободы именно благодаря отсутствию настоящего самоуправления. «Несчастье Франции», замечает он, «заключается в том, что она, стремясь страстно к свободе, никогда не желала избрать пути, который ведет к свободе. Она разрушила независимые корпорации, уничтожила местную автономию, централизовала все функции, предоставила всю власть безответственным чиновникам, сделала невозможным всякое законное сопротивление… Франция не колеблется опрокидывать свои династии, но не решается ограничить чрезмерные прерогативы власти, которая вызывает беспрестанно эти революции; напротив, после каждого кризиса она их увеличивает, думая этим лучше обеспечить прочность политических учреждений. Пора отказаться от этого заблуждения; нужно всеми способами ограничить сферу действия суверенной власти, распределяя администрацию между независимыми и неиерархическими, органами, восстановляя провинциальные учреждения и вооружая могущественно граждан против произвола чиновников. Только тогда слово «республика» станет синонимом слова «свобода»»[365]. В старинной Франции королевская власть, по мнению Е. Lavelaye, являлась в известной степени ограниченной, благодаря слабости ее средств и независимости духовенства, магистратуры, городов и провинции. В настоящее же время французское общество ни в одной из своих частей не представляет независимой силы, могущей противостоять суверенной власти. «Этот режим, каким бы его ни украшали названием, есть лишь абсолютизм, умеряемый периодическими революциями»[366]. При подобных условиях, по мнению автора, будут тщетны гарантии свободы в громких хартиях, так как «кто гарантирует эти гарантии…»[367] «Одной из величайших ошибок французской революции», замечает автор, «было уничтожение провинциальных собраний, и я сомневаюсь, чтобы Франция могла когда-либо достигнуть обладания истинной свободой, если не восстановить их». «Идеал французских республиканцев, по мнению Lavelaye, есть не что иное, как абсолютизм, с тем лишь отличием, что власть принадлежит собранию, а не одному лицу. Однако, и это никогда не будет лишним повторить, без широкой автономии провинций и общин нет ни республики, ни демократии»[368]. Как пример страны истинной свободы автор приводит, между прочим, Венгрию, где население, по его мнению, потому и могло охранять свою свободу от абсолютизма, что издавна пользовалось широким самоуправлением в комитетах и городах, в лице которых правительство и встречало всегда оппозицию в случае нарушения каких-либо прав народа. Благодаря тому обстоятельству, что в комитатских собраниях участвовали не только высшие классы населения, но и низшие, здесь не произошло того явления, как во Франции, что средний класс из ненависти к аристократии и ее привилегиям содействовал установлению абсолютизма и допустил уничтожение провинциальных собраний. Напротив, в Венгрии все, что было энергичного в нации, принимало участие в местном управлении, чем и объясняется демократический республиканский дух населения страны. Если Венгрия защищала свои вольности в течение трех столетий с таким героизмом, то это потому, думает Lavelaye, что все свободное население принимало участие в провинциальном управлении и сознавало, таким образом, их преимущества. «Желаете вы, – говорит в заключение автор, – образовать народ, который никогда бы не подчинялся абсолютной власти. Сделайте, чтобы последняя не могла вкорениться в стране», не волнуя всех национальных привычек. В Венгрии абсолютизм, чтобы установиться, должен был бы ранее уничтожить комитатские учреждения, а «коснуться последних значило перевернуть всю общественную жизнь – поразить всех граждан в сердце. Вот почему с правом называли эти учреждения оплотом венгерской свободы»[369].
III. Английская литература
Д. С. Милль. Джон Стюарт Милль в своем знаменитом труде о «Представительном правлении» посвящает одну из глав местным представительным учреждениям и выяснению их значения для конституционной страны. Главное значение местного самоуправления Милль видит в сфере его воздействия на политическое воспитание граждан, так как, благодаря участию в местном управлении, привлекается к общественной деятельности народная масса, которая в противном случае осталась бы в стороне от политической жизни в промежуток между двумя избирательными кампаниями. Благодаря местному самоуправлению доставляемое им важное политическое воспитание делается доступным и для низших классов населения, при условии объединения в местных учреждениях лиц различных сословий и интеллектуального развития, так как всякая школа предполагает как учителей, так и воспитанников, и польза образования в значительной степени зависит от сопротивления людей менее развитых с людьми более развитыми; поэтому смешанный, бессословный состав местных учреждений, главным образом, превращает их в школу для приобретения навыка в политических делах. В местном управлении, как затрагивающем, сравнительно с общегосударственным, менее насущные потребности, имеет, по мнению Милля, большее значение воспитательный элемент, нежели само исполнение. Придавая вообще огромное значение политическому воспитанию граждан в конституционной стране, как одному из существеннейших условий прочности представительного правления, Милль поэтому видит в местном самоуправлении одно из основных учреждений свободного правления и считает необходимым восполнение общенародного представительства парламента провинциальным и муниципальным представительством[370].
Мориер. Небольшая книжка о самоуправлении в Пруссии, принадлежащая перу одного из видных представителей английской дипломатии, сэру Мориеру, и вскоре после выхода своего переведенная на немецкий язык[371] в немецком переводе снабжена предисловием проф. Гольцендорфа. В этом предисловии знаменитый ученый рекомендует книгу вниманию тех, которые не вполне ясно видят тесную связь между местным самоуправлением и конституционным образом правления. Отмечая всю неизбежность указанной связи, указывая, что реформа прусского окружного управления (Kreis-Ordnung 1872 г.) не явилась чем-то беспочвенным, не представляет собою только политического эксперимента, Гольцендорф говорит, что книга Мориера имеет «значение показателя того пути, по которому должна идти публицистика в деле углубления всеобщего политического образования народа»[372].
Книга Мориера распадается на две части: в первой излагается историческое развитие самоуправления в Пруссии, во второй содержится характеристика произведенной реформы; во всей работе автора видна его мысль, подчеркнутая в предисловии Гольцендорфом: Мориер не раз указывает на неразрывную связь между конституционализмом и самоуправлением; он говорит, что Пруссия, имея конституционное устройство со второй половины настоящего столетия, все-таки по существу и фактически оставалась абсолютным государством, так как все управление сосредоточивалось в руках бюрократии; параграфы конституции заключали абстрактное изложение абстрактных правил, и только с 1872 г., года издания Kreis-Ordnung, конституция получила реальное значение[373].
В кратком вступлении к своей работе Мориер еще рельефнее излагает свои взгляды на сущность самоуправления; вполне присоединяясь к мнению Гнейспш об английском selfgovernmenfe и даже приписывая этому ученому и его единомышленникам большое влияние на осуществление реформы 1872 г. в Пруссии, автор говорит: «В течение XVIII столетия Англия по заслугам привлекала внимание всех политических мыслителей на себя, как на единственную европейскую страну, обладающую политической свободой. При исследовании этого редкого феномена прийти к заключению, что англичане свободны потому, что они пользовались самоуправлением, а что этим последним они пользовались потому, что имели парламентские учреждения. Поэтому образование парламентских учреждений сделалось признанным на континенте средством для политической свободы. Стоит установить ценз, разделить страну на выборные участки, выбрать представителей, найти для занятий зал с хорошей вентиляцией – и все готово. Парламент вызовет самоуправление, а это последнее – свободу. Проф. Гнейст установил яснее, чем кто бы то ни было из его соотечественников, тот факт, давно нам, англичанам, известный, что дело обстоит как раз наоборот, а именно: у нас было самоуправление потому, что мы были свободны в старогерманском, положительном и конкретном смысле слова Freithum, а не в абстрактно-отрицательном смысле слова liberie; парламента, в котором мы ведем наши политические дела, мы добились потому, что у нас было местное самоуправление. Одним словом, в господствующих на континенте доктринальных понятиях причины и следствия переменились ролями»[374].
Диксон. В своем сочинении «Свободная Россия» английский путешественник и писатель Dixon русскому земству посвящает следующие строки:
Пять лет назад (1864) Император призвал к жизни два местных парламента в каждой губернии – уездное и губернское земские собрания, в которых каждое сословие, от князя до крестьянина, должно иметь свой голос. Уездное собрание избирается сословиями: дворянством, духовенством, купцами, крестьянами, каждым порознь и свободно; губернское собрание состоит из представителей от различных уездных собраний. Уездное собрание решает все вопросы относительно дорог и мостов; губернское собрание наблюдает за постройкой тюрем, осушением болот, речными плотинами и т. п. Интерес крестьян силен в уездном собрании, интерес землевладельцев – в губернском собрании; и оба эти собрания одинаково полезны как школы свободы, красноречия и общественного духа. В этих местных советах наиболее способные люди каждой провинции будут подготовляться к гражданской и, когда придется, к парламентарной жизни[375].
Стеббс. Профессор Stubbs в своем классическом труде «Конституционная история Англии» проводит ту мысль, что английский парламент, как представительное собрание всей страны, постепенно вырос из местных представительных собраний, развитие которых относится еще к англосаксонской эпохе. «Характерная особенность (great characteristic) английской конституционной системы», замечает Stubbs, «принцип ее роста, секрет ее устройства – есть постоянное развитие представительных учреждений от первой элементарной ступени, на которой они употреблялись в простейшей форме для местных дел, на ту ступень, на которой национальный парламент появляется как концентрация всего местного и провинциального устройства, как средоточие коллективной власти трех сословий государства». Английский парламент в том виде, как он образовался в XIII веке, соединил в себе, с одной стороны, королевский феодальный совет, состоящий из высшего дворянства и духовенства (палата лордов), а с другой – представителей графств – рыцарей (палата общин). Последним, а не кому-либо другому, по мнению Stubbs'a, английская конституция обязана своей окончательной победой. Для них представительство в собраниях графств послужило прецедентом к представительству в парламенте; участие в местном управлении было «скромной школой, благодаря которой угнетенный народ научился действовать сообща в малых делах, пока не пришло время, когда он мог действовать сообща в великих». Этому возникновению палаты общин из местных учреждений и обязана, по мнению автора, английская конституция своей прочностью (сравнительно с континентальными) и тем, что королевская власть не могла подавить английский парламент подобно тому, как испанские кортесы были подавлены Филиппом II.
Т. Смит. Известный историк английского местного самоуправления (современник лорда Брума) Toulmin Smith, в своем сочинении «Местное самоуправление и централизация», проводит ту мысль, что система местного самоуправления имеет огромное значение для политического воспитания народа, какого не может дать никакая школа, и что всякие политические реформы при отсутствии местного самоуправления «должны быть, в лучшем случае, лишь пустой иллюзией, лживыми, приторными, безрезультатными». Без местного самоуправления, по мнению автора, не может быть истинного представительного режима. А если подобному централизованному режиму и будет присвоено наименование представительного, то он будет лишен реальности и по форме будет лишь насмешкой и западней (snare) и лучшим способом для проведения олигархического правления. Напротив, при наличности местного самоуправления «будут чувствовать себя свободными людьми, думать и действовать, как таковые, будут знать, как ценить и пользоваться той благородной конституцией, которую защитили их отцы, но которая долго пробивалась в тишине сквозь давление». При централизованной системе управления революция может следовать за революцией, но свободы не будет, пока не будет местного самоуправления, «которое одно дает место свободным людям, тогда как централизация является лишь лучшим путем к неограниченному правлению». Переходя затем к Англии, автор замечает, что местное самоуправление здесь составляет «фундамент» всех учреждений и законов, и что английская конституция обеспечена от всяких случайностей, так как «она создана той системой, которая именуется, короче выражая свою мысль, системой местного самоуправления». Dixon, Free Russia. Vol. 2 (1872). 147[376].







